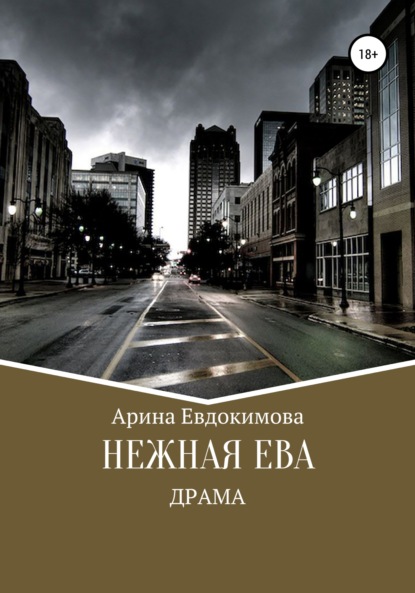По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Нежная Ева
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не получив поддержки своих опасений, я попытался объяснить:
– Просто она мне нравится, а Толик…
Николай неожиданно перебил:
– Она не может тебе нравится.
– Почему?
Он странно покачал головой:
– Ты милый.
– И поэтому она не может мне нравится? – его логика поразила меня.
– Ты красивый мальчик… Нежный… – Николай провёл кончиками пальцев по моей щеке. Я вздрогнул и машинально отдёрнулся в сторону. – Ты – нежный. Понимаешь, что это такое?
Я испуганно взглянул на своего ночного попутчика. Николай взял мою руку в свою и, перебирая пальцы, продолжил:
– И пальцы у тебя такие тонкие. Музыкой, наверное, занимаешься?
Я помотал головой и попытался высвободить руку.
– Не надо стесняться… – Николай удержал её и притянул к своей ширинке. – Нежность – не порок…
Мороз пробежал по коже. Я испугался:
– Остановите, пожалуйста, я выйду.
– Всё хорошо, не бойся.
– Я хочу выйти. Остановите. Пожалуйста, – я дёрнулся к дверце и принялся отчаянно дёргать ручку. Дверца не поддавалась. – От…кройте!
Водитель невозмутимо поднимает стекло в салоне и прибавляет громкости, заглушая мои отчаянные крики.
Масса потного тела плотно прижалась ко мне, и я ощутил слюнявое прикосновение его губ.
– Не трогайте меня! – я начал остервенело лупить ставшее ненавистным и омерзительным лицо. – Пустите!.. Остановите! Остановите же!
Николай начал стаскивать с меня одежду. Отталкивая давящее тело коленками, я стал бить руками всё пространство перед собой, попадая то по спинке сиденья, то по лицу Николая. Неожиданный резкий удар головой о стекло. Я вскрикнул, перед глазами поплыл слабый туман. Ещё удар – лицо вдавилось в кожаную обивку салона. Сопротивление оказалось невозможным, я не мог даже пошевелиться, всё труднее становилось дышать. Боль, отвращение, ненависть, стыд – всё стало нелепым и ничтожным по сравнению с желанием умереть. Умереть немедленно и мгновенно.
Сколько это продолжалось, я не понимал. Ощущение времени также растворилось в жгучем желании смерти. Эта мысль словно молоточками стучала в висках до тех пор, пока волна свежего воздуха не охватила всё тело. Несколько метров я пролетел по шершавому асфальту, ударившись коленом и ободрав щеку и локоть. Хлопок дверцы и шум удаляющихся протекторов, – последнее, что я услышал. Невидимое пространство заполнилось отрезвляющей тишиной, нарушаемой чуть слышным комариным писком то с одной, то с другой стороны. Ощущение времени ещё не вернулось. Если это уже смерть, то почему так холодно?.. Почему сознание не уходит в далёкую бесконечность? Почему реальность жжёт как кипящее масло, попавшее на кожу? Почему не хватает воздуха и перехватывает горло?
Когда озноб охватил всё тело, я открыл глаза. Круг от тусклого фонарного света строго очерчивал свою территорию, частично захватывая моё тело на проезжей части. Всё та же тишина и отдалённый, чуть различимый плеск воды. Неподалёку – набережная.
Я натянул брюки и попытался встать. Никаких чувств, кроме ненависти и отвращения. К самому себе. Ни одной мысли, кроме желания смерти. Чем быстрее, тем лучше.
Я добрался до моста и посмотрел вниз. Вода, загнанная в искусственные рамки каменных берегов, тихонечко плескалась, стараясь не нарушать всеобщей тишины. Ласковые волны манили своими мокрыми ладошками, шёпотом уговаривая без излишних раздумий присоединиться к ним и нарушить размеренный ритм жизни. Их обещания казались такими заманчивыми, что я почти решился и прислонился к чугунной ограде. К реальности вернуло ободранное кровоточащее колено, которое сильно заныло от соприкосновения с холодным металлом. Я схватился за колено и присел. Надо кроссовки снять. Они хорошие, почти новые. Может, кто подберёт. Вообще-то, было бы неплохо, если меня похоронят в них. Хотя, какая разница? Разве это имеет какое-то значение?
Развязывая шнурки, я почему-то подумал о том, что скажет на моих похоронах Покровский. Несмотря ни на что, он был единственным моим другом и многому научил. Я пытался понять его философию подчинения судьбы человеку. В ней что-то было, что-то важное и серьёзное, непостижимое для меня. Толик понял это важное, я – пока нет. Но ещё есть несколько минут, чтобы осмыслить теорию владения ситуацией и властвования над судьбой. Уверен, мне будет легче принять смерть, разобравшись в своих отношениях с фатализмом.
Сейчас я переступлю чугунную границу омерзительного для меня существования и чего-то неизведанно-загадочного, ожидающего меня под тёмным покровом водяной глади. Но если смерть – значит, смирение и покорность. Значит, судьба надо мной, а не я над ней.
Мама всегда спала чутко. Заслышав поворот ключа в двери, она накинула халат и вышла из комнаты:
– Что так рано-то?..
Я молча скинул кроссовки.
– Хорошо погуляли?
Не отвечая, я прошёл в комнату и ничком упал на кровать. Только никаких расспросов! Ради Бога, мама!
– Ты пьян, что ли? – она вошла в комнату и присела рядом на кровать. – Алкоголь – не лучшее средство самовыражения, поверь мне. Это примитивно. Так каждый может… – мама ласково провела ладонью по моим волосам. – Всю жизнь я тебе говорю, ты особенный, ты не похож на других. Это не для тебя… – мама коснулась моей влажной щеки. – Что это, Илюша?.. Ты плачешь? Что случилось?
Я не отвечал, и только с каждым её словом становилось всё труднее и труднее сдерживать слёзы.
– Толик, да? Это он, скажи, он? Он тебя ударил, да? Бил? Тебе больно? Илюша, миленький, что случилось?
Я молчал и очень старался дышать ровно.
– Я позвоню его матери, я этого так не оставлю! Не можешь сам, я отдеру ему всё, что можно!
И тут я не выдержал. Слёзы словно прорвали большой накопившейся резервуар бурным потоком рыданий. Я уткнулся в плечо матери и, не в силах больше сдерживаться, разревелся.
Мама испугалась:
– Что случилось? Скажи мне. Что этот малолетний подонок сделал?
Я помотал головой и, глотая сопли, чуть слышно пробормотал:
– Это не Толик…
– А кто? Кто тебя обидел?
Рассказать матери правду я не мог.
– Меня ограбили…
– Ограбили? В клубе? – мама крепко прижала меня к груди и, стараясь успокоить, гладила по спине. – Разве ж можно из-за этого так плакать, дурачок!.. Господи, да чёрт с ними, с деньгами! Пропади они пропадом! Не смей, слышишь? Прекрати. Вот удумал! Пусть это будет самым большим горем в твоей жизни!..
Она искренне верила в это. А мне тогда казалось, что большего горя быть не может.
Сегодня назревает паршивый день. Я понимаю это, открыв глаза. Из окна ординаторской, насупившись, словно я – цель истребления, на меня косятся серые облака, тянущие за собой как тяжёлую артиллерию свинцовую тучу. Вероятно, её грозный вид должен привести меня в смятение, а если не поможет, нанести подлый мстительный удар по настроению. Я принимаю вызов и, отключив паникующий будильник в телефоне, встаю.
Первая атака хмурого утра отбита холодной водой и мятной зубной пастой. Включаю чайник и, прихватив на посту градусники, отправляюсь на утренний обход.
В четвёртой палате пациенты ещё спят, приходится их будить: