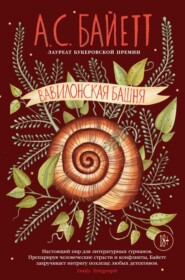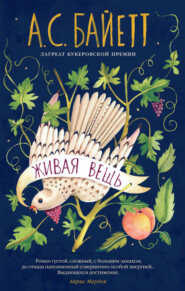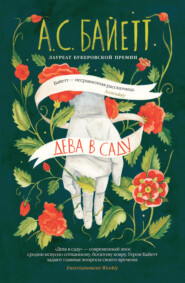По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Обладать
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда пробьет мой смертный час (а в восемьдесят лет час этот уже не за горами), я возблагодарю Создателя за то, что Он доставил мне случай увидеть целое собрание совершенств, дарованных людям. Если говорить о женщинах, я видел благородное величие, воплощённое в миссис Сиддонс*, обаяние миссис Джордан и мадемуазель Марс*; я затаив дыхание слушал задумчивые монологи Кольриджа – «этого златоустого старца»; я путешествовал с Водсвортом, величайшим из наших сочинителей философической лирики; я наслаждался остроумными и пылкими речами Чарльза Лэма, я бывал в гостях у Гёте, гениальнейшего ума своего времени и своей страны, и вёл с ним пространные застольные беседы. Он утверждает, что всем обязан только Шекспиру, Спинозе и Линнею – подобно тому как Водсворт, вступая на поприще поэзии, опасался, что не сумеет превзойти лишь Чосера, Спенсера, Шекспира и Мильтона.
В записях за июнь Роланд наконец обнаружил то, что искал.
Мой званый завтрак – в рассуждении застольной беседы – удался. Были Баджот, Падуб, миссис Джеймсон, профессор Спир, мисс Ла Мотт и приятельница её мисс Перстчетт, особа весьма немногословная. Падуб до сего дня не был знаком с мисс Ла Мотт, которая и нынче выехала из дома лишь затем, чтобы доставить мне приятность и побеседовать о своём батюшке, чья книга «Mythologies»[12 - «Мифология» (фр.).] сделалась известною в Англии не без моего участия. Завязался оживлённый разговор о поэзии, в особенности о несравненном гении Данте, а также о гении Шекспира, запечатлевшемся в его стихах, и в первую очередь об игривости его ранних поэм, которыми Падуб особенно восхищается. Мисс Ла Мотт показала такую красноречивость, какой я от неё никак не ожидал; одушевляясь, она делается чудо как хороша. Говорили ещё о так называемых спиритических явлениях, про которые с большим чувством писала мне леди Байрон. Речь зашла о сообщении мисс Бичер-Стоу, которая будто бы имела беседу с духом Шарлотты Бронте. На это мисс Перстчетт, большей частью хранившая молчание, сочувственно заметила, что, по её убеждению, подобные происшествия возможны и действительно случаются. Падуб возразил, что поверит в такие явления не прежде, чем сам удостоверится в их истинности на опыте, но в обозримом будущем такой случай едва ли представится. Баджот сказал, что, судя по тому, как Падуб изображает веру Месмера в действенность духовных флюидов, не такой уж он беззаветный приверженец позитивистской науки, каким себя выставляет. Падуб отвечал, что, если поэт желает вообразить себе некое историческое происшествие, он должен вжиться в душевный мир своих героев и он, Падуб, проникается их убеждениями так основательно, что ему грозит опасность забыть о собственных убеждениях. Все обратились к мисс Ла Мотт с вопросом, что она думает о стуках, производимых духами, но она своего мнения не сказала и отвечала улыбкою Моны Лизы.
Роланд выписал себе этот отрывок и принялся читать дальше, но не нашёл больше ни одного упоминания о мисс Ла Мотт, хотя сообщения о визитах Падуба и к Падубу мелькали то и дело. Робинсон отдавал должное домовитости миссис Падуб и сетовал, что она так и не стала матерью: мать из неё получилась бы примерная. В записях Робинсона не было никаких свидетельств, что мисс Ла Мотт или мисс Перстчетт показали сколько-нибудь хорошее знакомство с творчеством Падуба. Может быть, эта беседа, «приятная и неожиданная» или, как сказано в другом черновике, «необычная», состоялась в другое время или в другом месте. Переписанные довольно-таки неразборчивым почерком Роланда, записи Робинсона выглядели странно, не так полнокровно и словно бы поутратили связь с обстоятельствами жизни писавшего. Роланд понимал, что переписанный текст – это уже не то, хотя бы потому, что в него наверняка вкрались неточности: статистика показывает, что они почти неизбежны. Мортимер Собрайл заставлял своих аспирантов переписывать фрагменты текстов – обычно из произведений Рандольфа Генри Падуба, – потом переписывать переписанное, перепечатывать то, что получилось, и придирчивым редакторским глазом выискивать ошибки. Текстов без ошибок не бывает, утверждал Собрайл. Даже изобретение простой в обращении копировальной техники не избавило аспирантов от этих унизительных упражнений. Аспидс подобными методическими приёмами не пользовался, хотя и он отмечал и исправлял тьму ошибок, разражаясь одним и тем же набором колкостей по поводу упадка образования в Англии. В его время, приговаривал он, студенты правописанием владели, а уж поэзия, Библия просто входили в плоть и кровь. Чудное выражение «входить в плоть и кровь», добавлял он, можно подумать, что знание поэзии циркулирует в сердечно-сосудистой системе. «Струится в сердце», как писал Водсворт.[13 - Образ из стихотворения У. Водсворта «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства».] Но в лучших английских традициях Аспидс считал, что прививать недоучкам навыки, которых они лишены, – это не его дело. Им приходилось брести на ощупь в тумане его брюзгливо-презрительных обиняков.
* * *
Роланд отправился разыскивать Аспидса в Британский музей. Он ещё не решил, что именно рассказать Аспидсу, и хотел обдумать предстоящий разговор в читальном зале под высоким куполом; Роланду казалось, что, несмотря на его высоту, кислорода в зале на всех не хватает и усердные читатели в сонном забытьи постепенно сникают, как язычки пламени под стеклянным колпаком. Время было послеобеденное – утро Роланд посвятил Крэббу Робинсону, – а это значило, что посетители уже заняли все места за высокими просторными столами с нежно-голубой обивкой, лучами расходящимися от администраторского стола, который кольцом охватила стойка каталога. Пришлось довольствоваться одним из столиков поменьше в секторе между лучами, обычным местом опоздавших. Это были заштатные столы, столы на птичьих правах, столы с заикающимися обозначениями: «ДД», «ГГ», «ОО». Роланд нашёл себе место возле двери в конце стола «ПП» (Падуб). Когда он впервые попал в читальный зал, то, в упоении от того, что его допустили в святая святых мира знаний, вообразил себя в дантовском Раю, где праведники, патриархи, непорочные девы занимают места на ступенях амфитеатра, как лепестки огромной розы или страницы огромного тома, некогда рассеянные по вселенной, а теперь вновь собравшиеся вместе. Тиснёные буквы на столах – золото на голубом – также вызывали в памяти образы Средневековья.
Если так, то Падубоведник, притаившийся в недрах здания, был Адом. Чтобы попасть туда, надо было спуститься по железным ступеням из читального зала, а чтобы выйти – отпереть высокую дверь и подняться в египетский город мёртвых, где никогда не светило солнце, где на пришельца невидящими глазами смотрели фараоны, сидели на корточках писцы, стояли сфинксы и пустые саркофаги. Падубоведник – душное подземелье, уставленное металлическими картотеками, – разделялся на стеклянные отсеки, в которых плескался стрёкот пишущих машинок. Мертвенный свет неоновых ламп озарял подземелье, там и сям мерцали зелёные экраны читальных аппаратов для микрофильмов. Иногда – если замкнёт ксерокс – по всему помещению разносился запах серы. Слышались стоны, порой даже крики. Во всех подвальных помещениях Британского музея стоит тошнотворный кошачий дух. Кошки просачиваются сквозь решётки и пустотелый кирпич, шастают по углам, шарахаются от сердитого «брысь», бывает, лакомятся поднесённым тайком угощением.
Обычно Аспидс восседал в своём логове, где были в обманчивом беспорядке разбросаны – а на самом деле по порядку разложены – материалы для великой книги, которую он редактировал. Сидя в ущелье между утёсов из пухлых крапчатых папок, между утёсов, ощетинившихся краями каталожных карточек, он перебирал груду узких бумажных листков. Позади порхала его бледная ассистентка Паола: длинные бесцветные волосы стянуты резинкой, большие очки – раскинувшая крылья бабочка, кончики пальцев словно пыльно-серые подушечки. За отсеком машинистки, в закутке из картотечных шкафов, обитала доктор Беатриса Пуховер, почти замурованная в своей пещере коробками с дневниками и перепиской Эллен Падуб.
Аспидсу было пятьдесят четыре года. Заняться редактированием Собрания Падуба его побудило одно досадное воспоминание. Он родился в шотландской семье, и отец и дед его были школьными учителями. Вечерами у камелька дед часто читал стихи: «Мармион»,[14 - «Мармион» – поэма Вальтера Скотта.] «Чайльд Гарольд», «Рагнарёк». Отец отправил юношу в Кембридж, и он учился в Даунинг-колледже у Фрэнка Реймонда Ливиса*. Ливис проделал с Аспидсом то же, что и со всеми серьёзными студентами: он показывал им величие, грандиозную и непреходящую значимость английской литературы, а сам лишал их всякой веры в то, что им по силам продолжить её традиции или сказать в ней новое слово. Юный Аспидс сочинял стихи, но стоило ему представить, что скажет о них доктор Ливис, как всё было сожжено. Семестровые и курсовые работы Аспидс писал лаконичным, расплывчатым, непроницаемым слогом. Судьба Аспидса решилась на семинаре по датировке литературных произведений. Аудитория была набита битком, все места заняты, сидели даже на подлокотниках. Сухощавый, подвижный Ливис в рубашке с открытым воротом взобрался на подоконник, распахнул окно, и в аудитории повеяло свежестью, хлынул холодный кембриджский свет. Студентам раздали тексты для датировки: что-то из лирики трубадуров, отрывок из якобианской драмы, сатирические двустишия, написанные белым стихом рассуждения о вулканической грязи и любовный сонет. Уроки отца не прошли даром, Аспидс тут же узнал стихи. Все они были написаны одним человеком – Рандольфом Генри Падубом: образчики его чревовещания, плоды его грузной эрудиции. Аспидс оказался перед выбором – сразу назвать автора или дать семинару идти своим чередом: пусть Ливис подталкивает незадачливых студентов к ошибочным выводам, а потом с аналитическим блеском показывает, как отличить подлинник от подделки, голос истинного чувства от викторианской безучастности. Аспидс решил промолчать, и Падуб был разоблачён Ливисом, а его творчество объявлено далёким от совершенства. Аспидс чувствовал, что своим молчанием словно бы предал Рандольфа Генри Падуба, правда уж если он кого и предал, то себя, своего деда, а может быть, и доктора Ливиса. Но он искупил свою вину. Творчество Падуба стало темой его диссертации, называлась она «Осознанные доводы и неосознанные пристрастия. Причины душевного разлада в драматических поэмах Рандольфа Генри Падуба». Аспидс сделался падубоведом в ту пору, когда на Падуба смотрели как на старую рухлядь. К редактированию Полного собрания поэтических произведений и пьес он, поддавшись на уговоры, приступил ещё в 1959 году с благословения нынешнего лорда Падуба: пожилой пэр, методист, был потомком одного из дальних родственников Падуба и унаследовал все нераспроданные рукописи поэта. В те годы Аспидс по наивности надеялся, что рано или поздно завершит издание и сможет взяться за другую работу.
Обзаведясь непостоянным по численности штатом младших научных сотрудников, Ной – Аспидс рассылал своих голубей и воронов по всем библиотекам мира. Сотрудники разлетались, унося с собой узкие листочки бумаги, смахивавшие на квитанции камеры хранения или талоны на льготный обед. На каждом листочке значились сведения, требующие изысканий: полстроки, где, возможно, скрывалась цитата; неизвестно к чему относящееся название; ступица колеса римской колесницы, упоминание о которой следовало найти в комментариях Гиббона; «Напасть из грёз, мудрец дынеподобный», заимствованный, как выяснилось, из сна Декарта. Падуба интересовало всё на свете. Арабская астрономия и средства передвижения в Африке, ангелы и чернильные орешки, гидравлика и гильотина, друиды и Великая армия Наполеона, катары и типографщики-подмастерья, эктоплазма и солярные мифы, последняя трапеза мастодонта, найденного в вечной мерзлоте, и истинная природа манны. Тексты захлёбывались и тонули в примечаниях. Примечания выглядели громоздко, резали глаз, но без них не обойтись, думал Аспидс, наблюдая, как на месте каждой решённой загадки, словно головы Гидры, вырастают две нерешённые.
Сидя в подземной полумгле, Аспидс часто размышлял о том, как личное в человеке растворяется в профессиональном. Каким был бы сейчас он, Аспидс, если бы выбрал профессию, к примеру, социального работника и распределял средства на жилищное строительство или сделался полицейским и ломал голову над волосинками, обрывками кожи, отпечатками больших пальцев? (Игра ума во вкусе Падуба.) Каков был бы его умственный багаж, если бы он, Аспидс, пополнял его просто так, для души, чем-то другим – не объедками и обносками, оставшимися после Падуба?
Бывали минуты, когда Аспидс отваживался признать очевидное – эта работа растянется на всю его научную, а значит, на всю сознательную жизнь: все мысли – о чужих мыслях, все труды – ради чужих трудов. Но потом он решал, что это не страшно. Ведь Падуб ему интересен так же, как и много лет назад. Если он и состоит у Падуба в услужении, это приятная служба. Это Мортимеру Собрайлу вздумалось завладеть и распоряжаться Падубом, а Аспидс знает своё место.
Однажды по телевизору выступал какой-то натуралист, и Аспидс узнал в нём себя. Натуралист достал из мешочка погадку совы – отрыгнутые комки непереваренной пищи, – снабдил комки ярлычками, затем разъял каждый пинцетом, прополоскал в мензурках с разными очищающими жидкостями и принялся сортировать и складывать осколки костей, клочки шерсти и зубы, спрессованные в извержениях совиного желудка, пытаясь восстановить облик мёртвой землеройки или слепозмейки, которые были съедены живьём и пропутешествовали по совиным кишкам. Этот образ показался Аспидсу удачным, он подумывал развить его в стихотворение, но оказалось, что Падуб его опередил. Он уже писал об археологе, который
Выискивает битвы прошлых лет
Средь крошева костей и черепов
И щеп булатных – как досужий пастор
Кончину мыши или слепозмейки
Вычитывает из погадки совьей,
Изблёва белой тихокрылой смерти
С кровавым клювом меж пушистых щёк.
И Аспидс гадал: то ли он обратил внимание на теленатуралиста по наущению засевших в мозгу строк Падуба, то ли его разум обошёлся без подсказчиков.
* * *
Длинный проход между шкафами привёл Роланда во владения Аспидса, залитые ледяным свечением. Паола приветливо улыбнулась Роланду, Аспидс нахмурился. Весь он был как будто раскрашен серым: серая кожа, серо-стальные, с проседью, волосы, которые Апидс, гордясь их не по возрасту сохранной густотой, отпускал подлиннее. Носил он твидовый пиджак, плисовые брюки – костюм, как и всё в подземелье, солидный, поношенный, пыльный. Улыбался Аспидс добросовестно-ироничной улыбкой, но она появлялась очень-очень редко.
– Я, похоже, сделал открытие, – объявил Роланд.
– А потом окажется, его делали уже раз двадцать. Что там у вас?
– Я видел его экземпляр Вико. Там полным-полно записок, все его рукой. Прямо на каждой странице. Это в Лондонской библиотеке.
– Собрайл, уж наверно, прочесал книгу вдоль и поперёк.
– Не похоже. Нет-нет, не похоже. Записки по краям чёрные от пыли, чёрные по обрезу. Их не вынимали уже много лет, может, вообще не вынимали. Я кое-что просмотрел.
– Сто?ящий материал?
– Очень стоящий. Огромной ценности.
Аспидс, стараясь скрыть волнение, принялся скреплять листочки бумаги.
– Надо будет проверить. Я сам посмотрю. Съезжу и посмотрю. Вы там всё оставили как было?
– Ну конечно. Правда, когда книгу раскрыли, кое-какие записки повыпадали, но мы их положили, по-моему, точно на прежнее место.
– Не понимаю. Я-то думал, Собрайл вездесущ. А вы пока никому ни слова, слышите? Иначе ваша находка упорхнёт за океан, а у Лондонской библиотеки появятся средства на новые ковры и кофейный автомат. И Собрайл снова пришлёт нам издевательски-сочувственный факс: любезное предложение воспользоваться стэнтовскими материалами и обещание помочь с микрофильмами. Вы никому не говорили?
– Только библиотекарю.
– Поеду туда. Нету денег – будем бить на патриотизм. А то эта прорва всё засосёт.
– Библиотека не согласится…
– Если Собрайл взмахнёт чековой книжкой, я ни за кого не ручаюсь. Разве они устоят?
Аспидс поспешно натянул пальто – что-то вроде потёртой офицерской шинели. Роланд уже отбросил мысль – мысль, впрочем, нелепую – поговорить с шефом о похищенных письмах. Он только спросил:
– А что вам известно об авторе по фамилии Ла Мотт?
– Исидор Ла Мотт. «Mythologies», тысяча восемьсот тридцать второй год. «Mythologies indigenes de la Bretagne et de la Grand Bretagne».[15 - «Мифология», «Мифология коренного населения Бретани и Великобритании» (фр.).] И ещё «Mythologies fran?aises».[16 - «Французская мифология» (фр.).] Грандиозный научный компендиум легенд и фольклора. Сквозная тема – модные в те годы поиски «единого ключа ко всем мифологиям» и ещё интерес к бретонской национальной самобытности и культуре. Падуб определённо их читал, но где использовал – не помню.
– А вот ещё какая-то мисс Ла Мотт…
– Ах да, дочь. Которая писала религиозные стихи, да? Беспросветная книжица под названием «Единое на потребу». И сборник детских сказок: «Сказки, рассказанные в ноябре». Прочтёшь на ночь – не заснёшь. И какая-то эпическая поэма – говорят, совершенно неудобочитаемая.
– Я слышала, Ла Мотт сильно интересуются феминистки, – сказала Паола.
– Иначе и быть не может. Не Рандольфом же Падубом им интересоваться, – фыркнул Аспидс. – С тех пор как наша общая знакомая вон из той комнаты раскопала-таки бесконечные дневники Эллен, они только их и читают. Им кажется, будто Рандольф Падуб не давал жене заниматься писательством, а сам эксплуатировал её творческую фантазию. Доказать это будет непросто, да они, по-моему, доказательств и не ищут. Они знают истину, даже не успев до неё докопаться. Единственный довод – это то, что Эллен чуть ли не дни напролёт проводила на диване, как будто это так уж необычно для дамы её положения в те времена. Да уж, феминисткам – как, впрочем, и Беатрисе – придётся трудно: Эллен Падуб бесцветная особа. Не Джейн Карлейль*, и даже обидно, что не Джейн Карлейль. Беатриса, бедняжка, задумала показать, что Эллен Падуб была заботлива до самоотверженности, и давай рыться в дневнике, отмечать каждый рецепт крыжовенного варенья, каждую увеселительную прогулку в Бродстерс. Двадцать пять лет рылась, шутка сказать. А через двадцать пять лет оказывается, что заботливость и самоотверженность больше не в чести, сегодня изволь доказывать, что Эллен Падуб была страдалица, бунтарка, нераскрытое дарование. Бедная Беатриса. За все эти годы одна-единственная публикация – «Спутницы жизни», тоненькая брошюрка пятидесятого года издания. Нынешние феминистки плевались. В заглавии – никакой иронии, маленькая антология мудрых, тонких, трогательных высказываний жён великих людей. Дороти Водсворт, Джейн Карлейль, Эмили Теннисон, Эллен Падуб. Центр женских исследований и рад бы заполучить и издать дневники Эллен, но не может: официальный редактор – старушка Беа. А она, бедняжка, никак не сообразит, откуда все её неудачи.
У Роланда не было никакого желания выслушивать очередной монолог Аспидса о не увидевшем до сих пор свет издании дневников Эллен Падуб, которое готовила Беатриса Пуховер. В голосе Аспидса, когда он заговаривал о Беатрисе, пробивалось такое бешеное раздражение, что Роланд вспоминал заливистый лай гончих перед травлей (вживую он этот лай ни разу не слышал – только по телевизору). При мысли же о Собрайле Аспидс с заговорщицким видом озирался.
Аспидс отправился в Лондонскую библиотеку. Роланд не вызвался поехать вместе с ним, а пошёл искать, где можно выпить кофе. Потом надо будет порыскать по каталогам, поразузнать, кто и что писал про мисс Ла Мотт, которая уже начинает обрастать биографией. Обычная работа, когда хочешь разглядеть за мёртвым именем живого человека.
Поднявшись в Египетский зал, Роланд очутился в окружении каменных тяжеловесов. Между расставленными ножищами одного атлета он увидел, как по залу стремительно движется что-то бело-золотистое. «Что-то» оказалось Фергусом Вулффом, который тоже вышел на поиски кофе. Долговязый Фергус носил плотный свитер ослепительной белизны и мешковатые брюки, как у японских мастеров боевых искусств. Длинноватые медно-золотистые волосы были на висках подстрижены покороче – причёска в духе тридцатых годов, подправленная по моде восьмидесятых. При виде Роланда Фергус радостно блеснул голубыми глазами и расплылся в довольной плотоядной улыбке, сверкнув таким белозубым оскалом, что дух захватывало. Фергус был старше Роланда. Дитя шестидесятых, он бросил университет, зажил вольной жизнью, побывал в Париже в пору студенческих волнений, с благоговением ловил каждое слово Барта* и Фуко*, а потом вернулся и заблистал в колледже Принца Альберта. Человек он был, в общем-то, славный, но многих его знакомых не оставляло смутное чувство, что по какой-то неведомой причине его стоит опасаться. Роланду Фергус нравился: ему казалось, что и Фергус относится к нему с симпатией.
Сейчас Фергус работал над деконструктивистским анализом бальзаковского «Неведомого шедевра». Роланд уже перестал удивляться, что факультет английской литературы финансирует исследования французских авторов. Других тем, как видно, всё равно не подворачивалось. Притом Роланд не хотел, чтобы его недоумение расценили как узость интересов. Сам он владел французским хорошо: не напрасно мать с таким рвением заправляла его образованием.
Развалившись на банкетке в кафетерии, Фергус объяснял, что задача его исследования – произвести деконструкцию объекта, который уже сам деконструировался: ведь в новелле Бальзака идёт речь о картине, которая оказывается просто-напросто беспорядочным нагромождением мазков.
Роланд из вежливости выслушал и спросил:
– Ты что-нибудь знаешь о такой мисс Ла Мотт? Примерно пятидесятые годы прошлого века, писала детские сказки и религиозные стихи.
Фергус разразился что-то уж слишком продолжительным хохотом и бросил:
В записях за июнь Роланд наконец обнаружил то, что искал.
Мой званый завтрак – в рассуждении застольной беседы – удался. Были Баджот, Падуб, миссис Джеймсон, профессор Спир, мисс Ла Мотт и приятельница её мисс Перстчетт, особа весьма немногословная. Падуб до сего дня не был знаком с мисс Ла Мотт, которая и нынче выехала из дома лишь затем, чтобы доставить мне приятность и побеседовать о своём батюшке, чья книга «Mythologies»[12 - «Мифология» (фр.).] сделалась известною в Англии не без моего участия. Завязался оживлённый разговор о поэзии, в особенности о несравненном гении Данте, а также о гении Шекспира, запечатлевшемся в его стихах, и в первую очередь об игривости его ранних поэм, которыми Падуб особенно восхищается. Мисс Ла Мотт показала такую красноречивость, какой я от неё никак не ожидал; одушевляясь, она делается чудо как хороша. Говорили ещё о так называемых спиритических явлениях, про которые с большим чувством писала мне леди Байрон. Речь зашла о сообщении мисс Бичер-Стоу, которая будто бы имела беседу с духом Шарлотты Бронте. На это мисс Перстчетт, большей частью хранившая молчание, сочувственно заметила, что, по её убеждению, подобные происшествия возможны и действительно случаются. Падуб возразил, что поверит в такие явления не прежде, чем сам удостоверится в их истинности на опыте, но в обозримом будущем такой случай едва ли представится. Баджот сказал, что, судя по тому, как Падуб изображает веру Месмера в действенность духовных флюидов, не такой уж он беззаветный приверженец позитивистской науки, каким себя выставляет. Падуб отвечал, что, если поэт желает вообразить себе некое историческое происшествие, он должен вжиться в душевный мир своих героев и он, Падуб, проникается их убеждениями так основательно, что ему грозит опасность забыть о собственных убеждениях. Все обратились к мисс Ла Мотт с вопросом, что она думает о стуках, производимых духами, но она своего мнения не сказала и отвечала улыбкою Моны Лизы.
Роланд выписал себе этот отрывок и принялся читать дальше, но не нашёл больше ни одного упоминания о мисс Ла Мотт, хотя сообщения о визитах Падуба и к Падубу мелькали то и дело. Робинсон отдавал должное домовитости миссис Падуб и сетовал, что она так и не стала матерью: мать из неё получилась бы примерная. В записях Робинсона не было никаких свидетельств, что мисс Ла Мотт или мисс Перстчетт показали сколько-нибудь хорошее знакомство с творчеством Падуба. Может быть, эта беседа, «приятная и неожиданная» или, как сказано в другом черновике, «необычная», состоялась в другое время или в другом месте. Переписанные довольно-таки неразборчивым почерком Роланда, записи Робинсона выглядели странно, не так полнокровно и словно бы поутратили связь с обстоятельствами жизни писавшего. Роланд понимал, что переписанный текст – это уже не то, хотя бы потому, что в него наверняка вкрались неточности: статистика показывает, что они почти неизбежны. Мортимер Собрайл заставлял своих аспирантов переписывать фрагменты текстов – обычно из произведений Рандольфа Генри Падуба, – потом переписывать переписанное, перепечатывать то, что получилось, и придирчивым редакторским глазом выискивать ошибки. Текстов без ошибок не бывает, утверждал Собрайл. Даже изобретение простой в обращении копировальной техники не избавило аспирантов от этих унизительных упражнений. Аспидс подобными методическими приёмами не пользовался, хотя и он отмечал и исправлял тьму ошибок, разражаясь одним и тем же набором колкостей по поводу упадка образования в Англии. В его время, приговаривал он, студенты правописанием владели, а уж поэзия, Библия просто входили в плоть и кровь. Чудное выражение «входить в плоть и кровь», добавлял он, можно подумать, что знание поэзии циркулирует в сердечно-сосудистой системе. «Струится в сердце», как писал Водсворт.[13 - Образ из стихотворения У. Водсворта «Строки, написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства».] Но в лучших английских традициях Аспидс считал, что прививать недоучкам навыки, которых они лишены, – это не его дело. Им приходилось брести на ощупь в тумане его брюзгливо-презрительных обиняков.
* * *
Роланд отправился разыскивать Аспидса в Британский музей. Он ещё не решил, что именно рассказать Аспидсу, и хотел обдумать предстоящий разговор в читальном зале под высоким куполом; Роланду казалось, что, несмотря на его высоту, кислорода в зале на всех не хватает и усердные читатели в сонном забытьи постепенно сникают, как язычки пламени под стеклянным колпаком. Время было послеобеденное – утро Роланд посвятил Крэббу Робинсону, – а это значило, что посетители уже заняли все места за высокими просторными столами с нежно-голубой обивкой, лучами расходящимися от администраторского стола, который кольцом охватила стойка каталога. Пришлось довольствоваться одним из столиков поменьше в секторе между лучами, обычным местом опоздавших. Это были заштатные столы, столы на птичьих правах, столы с заикающимися обозначениями: «ДД», «ГГ», «ОО». Роланд нашёл себе место возле двери в конце стола «ПП» (Падуб). Когда он впервые попал в читальный зал, то, в упоении от того, что его допустили в святая святых мира знаний, вообразил себя в дантовском Раю, где праведники, патриархи, непорочные девы занимают места на ступенях амфитеатра, как лепестки огромной розы или страницы огромного тома, некогда рассеянные по вселенной, а теперь вновь собравшиеся вместе. Тиснёные буквы на столах – золото на голубом – также вызывали в памяти образы Средневековья.
Если так, то Падубоведник, притаившийся в недрах здания, был Адом. Чтобы попасть туда, надо было спуститься по железным ступеням из читального зала, а чтобы выйти – отпереть высокую дверь и подняться в египетский город мёртвых, где никогда не светило солнце, где на пришельца невидящими глазами смотрели фараоны, сидели на корточках писцы, стояли сфинксы и пустые саркофаги. Падубоведник – душное подземелье, уставленное металлическими картотеками, – разделялся на стеклянные отсеки, в которых плескался стрёкот пишущих машинок. Мертвенный свет неоновых ламп озарял подземелье, там и сям мерцали зелёные экраны читальных аппаратов для микрофильмов. Иногда – если замкнёт ксерокс – по всему помещению разносился запах серы. Слышались стоны, порой даже крики. Во всех подвальных помещениях Британского музея стоит тошнотворный кошачий дух. Кошки просачиваются сквозь решётки и пустотелый кирпич, шастают по углам, шарахаются от сердитого «брысь», бывает, лакомятся поднесённым тайком угощением.
Обычно Аспидс восседал в своём логове, где были в обманчивом беспорядке разбросаны – а на самом деле по порядку разложены – материалы для великой книги, которую он редактировал. Сидя в ущелье между утёсов из пухлых крапчатых папок, между утёсов, ощетинившихся краями каталожных карточек, он перебирал груду узких бумажных листков. Позади порхала его бледная ассистентка Паола: длинные бесцветные волосы стянуты резинкой, большие очки – раскинувшая крылья бабочка, кончики пальцев словно пыльно-серые подушечки. За отсеком машинистки, в закутке из картотечных шкафов, обитала доктор Беатриса Пуховер, почти замурованная в своей пещере коробками с дневниками и перепиской Эллен Падуб.
Аспидсу было пятьдесят четыре года. Заняться редактированием Собрания Падуба его побудило одно досадное воспоминание. Он родился в шотландской семье, и отец и дед его были школьными учителями. Вечерами у камелька дед часто читал стихи: «Мармион»,[14 - «Мармион» – поэма Вальтера Скотта.] «Чайльд Гарольд», «Рагнарёк». Отец отправил юношу в Кембридж, и он учился в Даунинг-колледже у Фрэнка Реймонда Ливиса*. Ливис проделал с Аспидсом то же, что и со всеми серьёзными студентами: он показывал им величие, грандиозную и непреходящую значимость английской литературы, а сам лишал их всякой веры в то, что им по силам продолжить её традиции или сказать в ней новое слово. Юный Аспидс сочинял стихи, но стоило ему представить, что скажет о них доктор Ливис, как всё было сожжено. Семестровые и курсовые работы Аспидс писал лаконичным, расплывчатым, непроницаемым слогом. Судьба Аспидса решилась на семинаре по датировке литературных произведений. Аудитория была набита битком, все места заняты, сидели даже на подлокотниках. Сухощавый, подвижный Ливис в рубашке с открытым воротом взобрался на подоконник, распахнул окно, и в аудитории повеяло свежестью, хлынул холодный кембриджский свет. Студентам раздали тексты для датировки: что-то из лирики трубадуров, отрывок из якобианской драмы, сатирические двустишия, написанные белым стихом рассуждения о вулканической грязи и любовный сонет. Уроки отца не прошли даром, Аспидс тут же узнал стихи. Все они были написаны одним человеком – Рандольфом Генри Падубом: образчики его чревовещания, плоды его грузной эрудиции. Аспидс оказался перед выбором – сразу назвать автора или дать семинару идти своим чередом: пусть Ливис подталкивает незадачливых студентов к ошибочным выводам, а потом с аналитическим блеском показывает, как отличить подлинник от подделки, голос истинного чувства от викторианской безучастности. Аспидс решил промолчать, и Падуб был разоблачён Ливисом, а его творчество объявлено далёким от совершенства. Аспидс чувствовал, что своим молчанием словно бы предал Рандольфа Генри Падуба, правда уж если он кого и предал, то себя, своего деда, а может быть, и доктора Ливиса. Но он искупил свою вину. Творчество Падуба стало темой его диссертации, называлась она «Осознанные доводы и неосознанные пристрастия. Причины душевного разлада в драматических поэмах Рандольфа Генри Падуба». Аспидс сделался падубоведом в ту пору, когда на Падуба смотрели как на старую рухлядь. К редактированию Полного собрания поэтических произведений и пьес он, поддавшись на уговоры, приступил ещё в 1959 году с благословения нынешнего лорда Падуба: пожилой пэр, методист, был потомком одного из дальних родственников Падуба и унаследовал все нераспроданные рукописи поэта. В те годы Аспидс по наивности надеялся, что рано или поздно завершит издание и сможет взяться за другую работу.
Обзаведясь непостоянным по численности штатом младших научных сотрудников, Ной – Аспидс рассылал своих голубей и воронов по всем библиотекам мира. Сотрудники разлетались, унося с собой узкие листочки бумаги, смахивавшие на квитанции камеры хранения или талоны на льготный обед. На каждом листочке значились сведения, требующие изысканий: полстроки, где, возможно, скрывалась цитата; неизвестно к чему относящееся название; ступица колеса римской колесницы, упоминание о которой следовало найти в комментариях Гиббона; «Напасть из грёз, мудрец дынеподобный», заимствованный, как выяснилось, из сна Декарта. Падуба интересовало всё на свете. Арабская астрономия и средства передвижения в Африке, ангелы и чернильные орешки, гидравлика и гильотина, друиды и Великая армия Наполеона, катары и типографщики-подмастерья, эктоплазма и солярные мифы, последняя трапеза мастодонта, найденного в вечной мерзлоте, и истинная природа манны. Тексты захлёбывались и тонули в примечаниях. Примечания выглядели громоздко, резали глаз, но без них не обойтись, думал Аспидс, наблюдая, как на месте каждой решённой загадки, словно головы Гидры, вырастают две нерешённые.
Сидя в подземной полумгле, Аспидс часто размышлял о том, как личное в человеке растворяется в профессиональном. Каким был бы сейчас он, Аспидс, если бы выбрал профессию, к примеру, социального работника и распределял средства на жилищное строительство или сделался полицейским и ломал голову над волосинками, обрывками кожи, отпечатками больших пальцев? (Игра ума во вкусе Падуба.) Каков был бы его умственный багаж, если бы он, Аспидс, пополнял его просто так, для души, чем-то другим – не объедками и обносками, оставшимися после Падуба?
Бывали минуты, когда Аспидс отваживался признать очевидное – эта работа растянется на всю его научную, а значит, на всю сознательную жизнь: все мысли – о чужих мыслях, все труды – ради чужих трудов. Но потом он решал, что это не страшно. Ведь Падуб ему интересен так же, как и много лет назад. Если он и состоит у Падуба в услужении, это приятная служба. Это Мортимеру Собрайлу вздумалось завладеть и распоряжаться Падубом, а Аспидс знает своё место.
Однажды по телевизору выступал какой-то натуралист, и Аспидс узнал в нём себя. Натуралист достал из мешочка погадку совы – отрыгнутые комки непереваренной пищи, – снабдил комки ярлычками, затем разъял каждый пинцетом, прополоскал в мензурках с разными очищающими жидкостями и принялся сортировать и складывать осколки костей, клочки шерсти и зубы, спрессованные в извержениях совиного желудка, пытаясь восстановить облик мёртвой землеройки или слепозмейки, которые были съедены живьём и пропутешествовали по совиным кишкам. Этот образ показался Аспидсу удачным, он подумывал развить его в стихотворение, но оказалось, что Падуб его опередил. Он уже писал об археологе, который
Выискивает битвы прошлых лет
Средь крошева костей и черепов
И щеп булатных – как досужий пастор
Кончину мыши или слепозмейки
Вычитывает из погадки совьей,
Изблёва белой тихокрылой смерти
С кровавым клювом меж пушистых щёк.
И Аспидс гадал: то ли он обратил внимание на теленатуралиста по наущению засевших в мозгу строк Падуба, то ли его разум обошёлся без подсказчиков.
* * *
Длинный проход между шкафами привёл Роланда во владения Аспидса, залитые ледяным свечением. Паола приветливо улыбнулась Роланду, Аспидс нахмурился. Весь он был как будто раскрашен серым: серая кожа, серо-стальные, с проседью, волосы, которые Апидс, гордясь их не по возрасту сохранной густотой, отпускал подлиннее. Носил он твидовый пиджак, плисовые брюки – костюм, как и всё в подземелье, солидный, поношенный, пыльный. Улыбался Аспидс добросовестно-ироничной улыбкой, но она появлялась очень-очень редко.
– Я, похоже, сделал открытие, – объявил Роланд.
– А потом окажется, его делали уже раз двадцать. Что там у вас?
– Я видел его экземпляр Вико. Там полным-полно записок, все его рукой. Прямо на каждой странице. Это в Лондонской библиотеке.
– Собрайл, уж наверно, прочесал книгу вдоль и поперёк.
– Не похоже. Нет-нет, не похоже. Записки по краям чёрные от пыли, чёрные по обрезу. Их не вынимали уже много лет, может, вообще не вынимали. Я кое-что просмотрел.
– Сто?ящий материал?
– Очень стоящий. Огромной ценности.
Аспидс, стараясь скрыть волнение, принялся скреплять листочки бумаги.
– Надо будет проверить. Я сам посмотрю. Съезжу и посмотрю. Вы там всё оставили как было?
– Ну конечно. Правда, когда книгу раскрыли, кое-какие записки повыпадали, но мы их положили, по-моему, точно на прежнее место.
– Не понимаю. Я-то думал, Собрайл вездесущ. А вы пока никому ни слова, слышите? Иначе ваша находка упорхнёт за океан, а у Лондонской библиотеки появятся средства на новые ковры и кофейный автомат. И Собрайл снова пришлёт нам издевательски-сочувственный факс: любезное предложение воспользоваться стэнтовскими материалами и обещание помочь с микрофильмами. Вы никому не говорили?
– Только библиотекарю.
– Поеду туда. Нету денег – будем бить на патриотизм. А то эта прорва всё засосёт.
– Библиотека не согласится…
– Если Собрайл взмахнёт чековой книжкой, я ни за кого не ручаюсь. Разве они устоят?
Аспидс поспешно натянул пальто – что-то вроде потёртой офицерской шинели. Роланд уже отбросил мысль – мысль, впрочем, нелепую – поговорить с шефом о похищенных письмах. Он только спросил:
– А что вам известно об авторе по фамилии Ла Мотт?
– Исидор Ла Мотт. «Mythologies», тысяча восемьсот тридцать второй год. «Mythologies indigenes de la Bretagne et de la Grand Bretagne».[15 - «Мифология», «Мифология коренного населения Бретани и Великобритании» (фр.).] И ещё «Mythologies fran?aises».[16 - «Французская мифология» (фр.).] Грандиозный научный компендиум легенд и фольклора. Сквозная тема – модные в те годы поиски «единого ключа ко всем мифологиям» и ещё интерес к бретонской национальной самобытности и культуре. Падуб определённо их читал, но где использовал – не помню.
– А вот ещё какая-то мисс Ла Мотт…
– Ах да, дочь. Которая писала религиозные стихи, да? Беспросветная книжица под названием «Единое на потребу». И сборник детских сказок: «Сказки, рассказанные в ноябре». Прочтёшь на ночь – не заснёшь. И какая-то эпическая поэма – говорят, совершенно неудобочитаемая.
– Я слышала, Ла Мотт сильно интересуются феминистки, – сказала Паола.
– Иначе и быть не может. Не Рандольфом же Падубом им интересоваться, – фыркнул Аспидс. – С тех пор как наша общая знакомая вон из той комнаты раскопала-таки бесконечные дневники Эллен, они только их и читают. Им кажется, будто Рандольф Падуб не давал жене заниматься писательством, а сам эксплуатировал её творческую фантазию. Доказать это будет непросто, да они, по-моему, доказательств и не ищут. Они знают истину, даже не успев до неё докопаться. Единственный довод – это то, что Эллен чуть ли не дни напролёт проводила на диване, как будто это так уж необычно для дамы её положения в те времена. Да уж, феминисткам – как, впрочем, и Беатрисе – придётся трудно: Эллен Падуб бесцветная особа. Не Джейн Карлейль*, и даже обидно, что не Джейн Карлейль. Беатриса, бедняжка, задумала показать, что Эллен Падуб была заботлива до самоотверженности, и давай рыться в дневнике, отмечать каждый рецепт крыжовенного варенья, каждую увеселительную прогулку в Бродстерс. Двадцать пять лет рылась, шутка сказать. А через двадцать пять лет оказывается, что заботливость и самоотверженность больше не в чести, сегодня изволь доказывать, что Эллен Падуб была страдалица, бунтарка, нераскрытое дарование. Бедная Беатриса. За все эти годы одна-единственная публикация – «Спутницы жизни», тоненькая брошюрка пятидесятого года издания. Нынешние феминистки плевались. В заглавии – никакой иронии, маленькая антология мудрых, тонких, трогательных высказываний жён великих людей. Дороти Водсворт, Джейн Карлейль, Эмили Теннисон, Эллен Падуб. Центр женских исследований и рад бы заполучить и издать дневники Эллен, но не может: официальный редактор – старушка Беа. А она, бедняжка, никак не сообразит, откуда все её неудачи.
У Роланда не было никакого желания выслушивать очередной монолог Аспидса о не увидевшем до сих пор свет издании дневников Эллен Падуб, которое готовила Беатриса Пуховер. В голосе Аспидса, когда он заговаривал о Беатрисе, пробивалось такое бешеное раздражение, что Роланд вспоминал заливистый лай гончих перед травлей (вживую он этот лай ни разу не слышал – только по телевизору). При мысли же о Собрайле Аспидс с заговорщицким видом озирался.
Аспидс отправился в Лондонскую библиотеку. Роланд не вызвался поехать вместе с ним, а пошёл искать, где можно выпить кофе. Потом надо будет порыскать по каталогам, поразузнать, кто и что писал про мисс Ла Мотт, которая уже начинает обрастать биографией. Обычная работа, когда хочешь разглядеть за мёртвым именем живого человека.
Поднявшись в Египетский зал, Роланд очутился в окружении каменных тяжеловесов. Между расставленными ножищами одного атлета он увидел, как по залу стремительно движется что-то бело-золотистое. «Что-то» оказалось Фергусом Вулффом, который тоже вышел на поиски кофе. Долговязый Фергус носил плотный свитер ослепительной белизны и мешковатые брюки, как у японских мастеров боевых искусств. Длинноватые медно-золотистые волосы были на висках подстрижены покороче – причёска в духе тридцатых годов, подправленная по моде восьмидесятых. При виде Роланда Фергус радостно блеснул голубыми глазами и расплылся в довольной плотоядной улыбке, сверкнув таким белозубым оскалом, что дух захватывало. Фергус был старше Роланда. Дитя шестидесятых, он бросил университет, зажил вольной жизнью, побывал в Париже в пору студенческих волнений, с благоговением ловил каждое слово Барта* и Фуко*, а потом вернулся и заблистал в колледже Принца Альберта. Человек он был, в общем-то, славный, но многих его знакомых не оставляло смутное чувство, что по какой-то неведомой причине его стоит опасаться. Роланду Фергус нравился: ему казалось, что и Фергус относится к нему с симпатией.
Сейчас Фергус работал над деконструктивистским анализом бальзаковского «Неведомого шедевра». Роланд уже перестал удивляться, что факультет английской литературы финансирует исследования французских авторов. Других тем, как видно, всё равно не подворачивалось. Притом Роланд не хотел, чтобы его недоумение расценили как узость интересов. Сам он владел французским хорошо: не напрасно мать с таким рвением заправляла его образованием.
Развалившись на банкетке в кафетерии, Фергус объяснял, что задача его исследования – произвести деконструкцию объекта, который уже сам деконструировался: ведь в новелле Бальзака идёт речь о картине, которая оказывается просто-напросто беспорядочным нагромождением мазков.
Роланд из вежливости выслушал и спросил:
– Ты что-нибудь знаешь о такой мисс Ла Мотт? Примерно пятидесятые годы прошлого века, писала детские сказки и религиозные стихи.
Фергус разразился что-то уж слишком продолжительным хохотом и бросил: