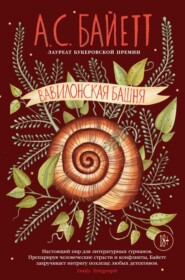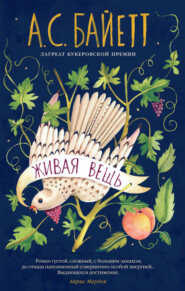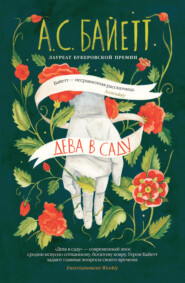По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Обладать
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Роланд спросил, можно ли ему прочесть эти записки. Чтобы у библиотекаря не закралось никаких сомнений, он отрекомендовался: младший научный сотрудник, работает под руководством профессора Аспидса, который с 1951 года редактирует Полное собрание сочинений Падуба. Библиотекарь на цыпочках пошёл звонить начальству, а мёртвые листки по-прежнему чуть заметно шевелились и шуршали, словно после освобождения в них снова затеплилась жизнь. Листки, которые оставил в книге Падуб… Вернувшийся библиотекарь подтвердил: да, Роланду разрешается работать с записями, при условии, что он не нарушит последовательности вложенных листков, чтобы потом можно было составить их опись. И если вдруг Роланд обнаружит что-нибудь важное, пусть сообщит библиотекарю.
Разрешение это было получено к половине одиннадцатого. Следующие полчаса Роланд бессвязно рылся в томе Вико, выискивая упоминания о Прозерпине и одновременно почитывая заметки Падуба. А читать их было нелегко: Падуб делал записи на разных языках, притом крохотными, почти печатными буквами – не сразу заметишь сходство с тем разгонистым почерком, которым были написаны его стихи и письма.
В одиннадцать Роланд наконец отыскал место в книге, которое, кажется, имело отношение к его теме. Вико пытался разглядеть за поэтическими метафорами, легендами и мифами исторические факты и увязать эти образы в одну картину – в этом и состояла суть его «новой науки». Прозерпина в его понимании олицетворяла зерно хлебных злаков – источник торговли и общественного начала. Рандольф Генри Падуб же, как считалось, выразил в образе Прозерпины религиозные сомнения человека Викторианской эпохи, свои собственные мысли, навеянные мифами о воскресении. На картине лорда Лейтона* Прозерпина – это летящая по чёрному тоннелю золотистая фигура с видимыми признаками душевного смятения. Аспидс полагал, что Падуб видел в ней воплощение самой истории – её начального этапа, который описывается в мифах. (Перу Падуба принадлежали два стихотворения об историках, мало похожих друг на друга: одно о Гиббоне*, другое о Беде Достопочтенном*. Аспидс даже написал статью о Р. Г. Падубе и отражении историографии в его творчестве.)
Сопоставляя текст поэмы Падуба с переводом труда Вико, Роланд делал выписки на каталожных карточках. Перед ним стояли две коробки таких карточек – ярко-оранжевая и густо-зелёная, травяного оттенка; пластиковые петли карточек своим потрескиванием нарушали тишину читального зала.
Колосья называли золотыми яблоками, и это, вероятно, было единственное известное человечеству золото, ибо о золоте-металле тогда ещё не слышали… Поэтому золотое яблоко, которое Геркулес добыл – или вернул – из сада Гесперид, скорее всего, было не что иное, как зёрна злаков, и у галльского Геркулеса из уст исходят золотые цепочки, концы которых прикованы к ушам людей,[2 - Изображение, описанное в сочинении Лукиана «Про Геракла». «Галльский Геркулес» – кельтский бог Огма (Огмий).] – это, как мы увидим ниже, изображает миф об обработке полей. По этой причине Геркулес считался божеством, благосклонность коего открывала путь к богатству, богом же богатства был Дит (тождественный Плутону), умчавший Прозерпину (она же Церера, или зерно) в подземное царство, описанное поэтами, которые именуют его то Стиксом, то царством мёртвых, то недрами пашни… Это золотое яблоко великий знаток героических преданий древности Вергилий и превратил в золотую ветвь, которую Эней берёт с собою в Подземный мир, или Преисподнюю.
Рандольф Генри Падуб, описывая Прозерпину, отмечает: «полумрак ей кожу позлатил» и называет её «как колос, золотая». А вот ещё: «Окованная звеньями златыми…» – это, наверно, про какие-нибудь ювелирные украшения, цепочки. Роланд аккуратно внёс перекрёстные ссылки в карточки с рубриками «злаки», «яблоки», «цепь», «богатство». Страница тома Вико, на которой он нашёл этот отрывок, была согнута пополам, внутри лежал счёт за свечи. На обороте его Падуб записал: «Личность приходит в мир на короткий миг, вступает в круг людей мыслящих, привносит новое и умирает, но биологический вид продолжает жить и пожинает плоды быстротечного её бытия». Роланд переписал эту фразу, выбрал чистую карточку и набросал вопросы, на которые предстояло найти ответ: «Разобраться. Цитата или собственная мысль? Биологич. вид – Прозерпина? Очень в духе XIX в. Или Прозерпина – личность? Когда оставлены заметки? Когда написаны – до или после „Происхождения видов“? Хотя это ничего не даст. М. б., он думал о Развитии в широком смысле…»
Было уже четверть двенадцатого. Тикали часы, в лучах солнца кружились пылинки, Роланд размышлял о том, что изнурительная и колдовская тяга к познанию влечёт нас по пути, которому нет конца. Он сидел, пытаясь восстановить очертания мыслей, вычитанных давно умершим человеком, а время шло: Роланду напоминали об этом не только библиотечные часы, но и посасывание под ложечкой (кофе в Лондонской библиотеке не продавали). Надо показать эти драгоценные находки Аспидсу. Тот будет то фыркать, то восторгаться, но всё же останется доволен, что книга лежит под замком в сейфе № 5, а не упорхнула, как и многие другие раритеты, в Университет Роберта Дэйла Оуэна в Гармония-Сити. Как же не хочется рассказывать Аспидсу. Вот бы владеть этими сведениями в одиночку.
Упоминание о Прозерпине было на страницах 288–289. А на странице 300 оказались два сложенных листа писчей бумаги. Роланд осторожно развернул их. Он сразу узнал плавный, летящий почерк Падуба. Это были письма, на обоих значился адрес Падуба – Грейт-Рассел-стрит, – оба помечены 21 июня. Год не указан. Оба начинались словами «Милостивая государыня!», оба без подписи. Первое гораздо короче второго.
Милостивая государыня!
Мысли о нашей необычной беседе не покидают меня ни на минуту. Не так часто поэту, а может быть, и всякому смертному случается встретить собеседника, который соединял бы в себе столько готовности проникнуться чужими мыслями, столько ума и тонкости суждения. Я пишу, испытывая неодолимую потребность продолжить наш разговор, и, не раздумывая,
обращаюсь к Вам с просьбой: могу ли я навестить Вас как-нибудь на будущей неделе? Я чувствую, что мы с Вами непременно должны вернуться к нашей беседе, и уверенность эта не блажь, не самообман. Мне известно, что Вы редко бываете в обществе, и мне удивительно повезло, что любезный Крэбб залучил Вас к себе на завтрак. Какое счастье, что, несмотря на легкомысленное балагурство студиозусов и искусные рассказы Крэбба о примечательных происшествиях – в том числе тот, о бюсте, – нам удалось сказать друг другу так много важного.
Вот что было во втором письме:
Милостивая государыня!
Я то и дело возвращаюсь в мыслях к нашей приятной и неожиданной беседе. Не будет ли у нас возможности возобновить её и поговорить более пространно, в обстановке не столь многолюдной? Мне известно, что Вы редко бываете в обществе, и мне чрезвычайно повезло, что любезный Крэбб залучил Вас к себе на завтрак. Я бесконечно признателен его доброму здравию, благодаря которому он и в восемьдесят два года находит в себе силы и желание поутру угощать поэтов и студентов, профессоров математики и политических философов и с привычным жаром рассказывать историю о бюсте, не задерживая ею, однако, появления на столе гренков с маслом.
Не правда ли, удивительно, что мы с полуслова так хорошо поняли друг друга? А ведь мы поняли друг друга на редкость хорошо, Вы согласны? Или это плод разгорячённого воображения не слишком молодого и не слишком признанного поэта, который вдруг обнаружил, что его произведения с их потаённым, изощрённо-внятным и непонятым смыслом – или, скорее, бессмыслицей, раз никто, как видно, не сумел добраться до этого смысла, – нашли наконец наблюдательного и увлечённого читателя и судью? Ваши мысли о монологе Александра Селькирка*, Ваше верное постижение мятущейся души моего Джона Беньяна*, Ваше понимание страсти Инес де Кастро…* которая была resurrecta[3 - Воскрешена (лат.).]столь чудовищным образом… Но хватит этих вздохов больного самолюбия, хватит разглагольствовать о моих personae[4 - Персонажах (лат.).], которые, как Вы справедливо заметили, вовсе не маски, скрывающие лицо автора. Я не хочу, чтобы Вы заключили, будто я ставлю Ваш тонкий слух и ещё более тонкий вкус не выше, а ниже своего. Непременно напишите Вашу историю о фее: Вы сделаете из этого сюжета что-то очень необычное и оригинальное. Кстати, не задумывались ли Вы о взглядах Вико на историю первобытных народов – о том, что боги древности, а позднее герои суть олицетворения судеб и устремлений народа, рождающиеся в уме простого человека? Тут есть над чем поразмыслить: ведь предание о Вашей фее связывают с невымышленными замками и возводят к действительно происходившим преобразованиям в земледелии – на современный взгляд это одна из любопытнейших сторон её истории. Впрочем, я опять за своё: Вы, с Вашим живым умом и приобретёнными вдали от суеты знаниями, без сомнения, сами придумали, как придать своей теме наилучшую отделку.
Возможно, Ваше понимание, как сладостный дурман, вскружило мне голову, но меня не оставляет чувство,
Если я не ошибаюсь, Вы также нашли наше знакомство
интересным и, как бы ни дорожили Вы своим уединением
Я понимаю, что Вы решились выехать лишь для того, чтобы навестить любезного Крэбба, который в нелёгкое для Вашего отца время поддержал этого блистательного учёного и оценил его труд. Вы выехали потому, что знали: Вас будут принимать в узком приятельском кругу. Всё так, но главное – Вы выехали, а значит, я могу надеяться, что, найдись важная причина, Вы согласитесь на время поступиться обыденным покоем ради
Я убеждён, что вы понимаете
Роланд был потрясён. И сразу же в нём взыграл литературовед. В голове сами собой замелькали предположения о времени и месте этого несостоявшегося диалога с неназванной женщиной. Год в письмах не указан, но они определённо написаны после публикации цикла драматических поэм Падуба «Боги, люди и герои». Поэмы вышли в 1856 году, и критика, вопреки надеждам, а может быть, и расчётам Падуба, отозвалась о них не слишком благожелательно: рецензенты объявили его произведения непонятными, вкус его – извращённым, а персонажей – вычурными и надуманными. В этот цикл и входили «Одинокие думы Александра Селькирка» – размышления моряка, заброшенного на необитаемый остров. Относились к этому циклу и «Лудильщик во пророках» – поэма, в которой воспроизводятся раздумья томящегося в тюрьме Беньяна о благодати Господней, и сцена, происходящая в 1356 году: причудливый, исступлённый монолог Педро Португальского, в котором он признаётся в любви набальзамированному телу своей убитой жены Инес де Кастро, – высохший, обтянутый бурой кожей труп всегда покачивался в карете рядом с королём, куда бы тот ни ехал: на голове – обхваченный золотым обручем кружевной убор, по платью – цепочки с алмазами и жемчугами, костлявые пальцы унизаны редкой красоты перстнями… Падуб охотно изображал героев, близких к безумию или обуянных безумием, создающих из обрывков жизненного опыта мировоззрение, которое помогает им выстоять.
Установить, что это за завтрак, не составит труда, скорее всего – один из приёмов, которые на склоне лет стал устраивать Крэбб Робинсон*, чтобы студенты недавно основанного Лондонского университета могли в застольных беседах расширять свой кругозор. Архив Крэбба Робинсона хранился в Библиотеке доктора Уильямса на Гордон-сквер – здании, задуманном как Университетская ратуша; по замыслу Робинсона тут вольнослушатели получали возможность приобщаться к университетской жизни вне учебных аудиторий. Не так уж трудно – да нет, совсем не трудно справиться в дневнике Робинсона, когда Падуб присутствовал на завтраке в доме 30 на Рассел-сквер в обществе профессора математики, политического философа (не Баджот* ли?) и некой затворницы, которая разбиралась в поэзии и сама писала или имела намерение писать стихи.
Кто же она такая? Кристина Россетти?* Сомнительно. Вряд ли мисс Россетти пришлись бы по вкусу богословские построения Падуба и его взгляды на мужскую и женскую психологию. И что за «история о фее»? От всех этих загадок Роланд уже не в первый раз ощутил своё безграничное невежество: серый туман, а в нём то проплывает, то маячит что-то осязаемое, то блеснут купола, то чернеют в сумраке крыши…
Удалось ли Падубу завязать переписку? Если да, то где остальные письма, какие драгоценные сведения о его произведениях «с их потаённым, изощрённо-внятным и непонятым смыслом» могут в них содержаться? Не исключено, что, отыщись эти письма, филологам придётся пересмотреть кое-какие устоявшиеся мнения. Ну а если переписка не завязалась? Если Падуб так и не нашёл слов, чтобы выразить своё настойчивое желание? Настойчивость – вот что поразило и взволновало Роланда больше всего. А он-то думал, что знает Падуба неплохо – насколько вообще можно знать человека, замкнувшегося в мире своих мыслей, сорок лет прожившего с женой как примерный семьянин, оставившего после себя гору писем, но писем сдержанно-учтивых, не отмеченных какими-то особыми страстями. И такой Рандольф Генри Падуб Роланду нравился. Его восхищало яростное горение духа и широчайшая эрудиция, заметные в творчестве Падуба, и в глубине души ему было приятно, что эти качества выработались благодаря такому степенному, такому безбурному существованию.
Он перечитал оба черновика. Было ли письмо наконец написано и отправлено? Или первый порыв угас, был отринут? И тут Роланда самого захлестнул странный, неожиданный для него порыв. Нет, не может он оставить эти полные жизни слова в томе Вико, на странице 300, и сдать на хранение в сейф № 5. Он огляделся: никто не видит. Тогда он украдкой сунул письма в книгу, с которой никогда не расставался, – оксфордское издание «Избранного» Падуба – и снова занялся карточками. Он методично выписывал самое интересное, пока на лестнице не послышался звон колокольчика, извещающий о закрытии читального зала. Заработавшись, Роланд даже не выкроил времени перекусить.
Он собрал коробки с карточками, сунул под них «Избранное» и направился к выходу. Дежурные за столиком выдачи книг дружески ему закивали. Роланд был тут завсегдатаем. Заподозрить его в порче книг или краже никому и в голову не приходило. Он вышел из библиотеки, как обычно, с толстым обшарпанным портфелем под мышкой. На Пиккадилли сел в двухэтажный автобус № 14 и, прижимая к себе добычу, поднялся наверх. Как всегда по дороге домой – жил он в Патни, в полуподвальном этаже ветшающего дома викторианских времён, – сперва на него напала сонливость, потом она сменилась какой-то лихорадочной ясностью, а там уже подступали тревожные мысли о Вэл.
Глава 2
Человек – это история его мыслей, дыхания и поступков, телесного состава и душевных ран, любви, равнодушия и неприязни, история его народа и государства, земли, вскормившей и его, и предков его, камней и песчинок знакомых ему краёв, история давно отгремевших битв и душевных борений, улыбок дев и неспешных речений старух, история случайностей и постепенного действия непреложных законов – история этих и многих других обстоятельств, один язычок огня, который во всём живёт по законам целого Пламени, но, вспыхнув единожды, в своё время угаснет и никогда больше не загорится в беспредельных просторах будущего.
Так писал Рандольф Генри Падуб примерно в 1840 году, когда работал над поэмой в двенадцати книгах под названием «Рагнарёк, или Гибель богов», которую одни восприняли как христианский взгляд на скандинавскую мифологию, а другие громили за атеизм и недостойную христианина безысходность. Рандольфу Падубу действительно важно было разобраться, что такое человек, но, вообще-то, он запросто мог бы написать это загромождённое, как мебельный склад, предложение совсем по-другому, заменить слова, сочетания и ритмический рисунок и заключить той же добротной уклончивой метафорой. Так, по крайней мере, казалось Роланду, натасканному по части постструктуралистской деконструкции сюжета. А вот на вопрос, кто такой Роланд Митчелл, ему бы пришлось ответить иначе.
В 1986 году ему исполнилось двадцать девять. Митчелл окончил лондонский колледж Принца Альберта (1978) и в том же университете получил степень доктора философии (1985). Его докторская диссертация называлась «История, историки и поэзия? Изображение исторических „свидетельств“ в поэмах Рандольфа Генри Падуба». Научным руководителем был Джеймс Аспидс, работая под началом которого можно было охладеть к любой теме. Сам Аспидс давно охладел ко всему, и ему доставляло удовольствие расхолаживать окружающих. (Зато уж как учёный он отличался добросовестностью.) Роланд работал в возглавляемом Аспидсом Центре исследования творчества Р. Г. Падуба, который окрестили «Падубоведник». («Лучше бы „Синклит Его Преподубия“», – заметила как-то Вэл.) Размещался центр в Британском музее, куда вдова Падуба Эллен передала значительную часть его рукописей. Кое-какую финансовую поддержку оказывал Падубоведнику Лондонский университет, но гораздо большие средства поступали из Альбукерке, от Фонда Ньюсома – благотворительной организации, одним из попечителей которой состоял Мортимер Собрайл. Казалось бы, в своём стремлении увековечить память Падуба Аспидс и Собрайл действуют рука об руку. Но не тут-то было. Аспидс подозревал, что Собрайл имеет виды на хранящиеся в Британской библиотеке, но не принадлежащие ей рукописи и, разыгрывая щедрость и заботливость, пытается втереться в доверие к законным владельцам. Шотландец Аспидс был убеждён, что рукописи британца должны оставаться в Британии, чтобы их изучали британцы. Может показаться странным, что ответ на вопрос: «Кто такой Роланд Митчелл?» – начинается с разбора непростых отношений Аспидса, Собрайла и Падуба, но, задумываясь о своём положении, Роланд чаще всего видел себя именно в этом соседстве. Во всех остальных случаях «соседством» становилась Вэл.
Роланд считал, что родился слишком поздно. Он едва застал разлитые в воздухе возбуждение, непоседливость, юность, бодрость, ушедшие вместе с шестидесятыми, – радостную зарю нового дня, который заранее представлялся ему и его сверстникам довольно-таки тусклым. В психоделические годы он был ещё школьником и жил в захудалом ланкаширском городишке, примечательном разве что текстильными фабриками, вдали от шума Ливерпуля и сутолоки Лондона. Отец Роланда служил мелким чиновником в совете графства. Мать окончила факультет английского языка и литературы и разочаровалась в своей специальности. Если самому себе Роланд казался ходячим заявлением о приёме – на работу, в колледж, в кандидаты на место под солнцем, – то мать в его глазах была воплощённым разочарованием. В чём она только не разочаровывалась! В нём, в его отце, в себе. В бешенстве от собственной неудачливости, она употребила всю силу этого бешенства на то, чтобы дать сыну приличное образование. Образование Роланд получил в Единой школе Анайрина Бивана, слепленной на скорую руку из Гласдейлской старой классической школы, англиканской средней школы Фомы Беккета и Современной Технической школы гильдии швейников, и учёба сопровождалась непрерывной беготнёй из здания в здание. Мать пристрастилась к крепкому портеру, совсем зациклилась на «приличном образовании» и постоянно заставляла Роланда менять основной предмет: работы по металлу на латынь, гражданское законодательство на французский, устраивала его разносить почту и на вырученные деньги нанимала ему репетитора по математике. Так что в конце концов он получил самое заурядное классическое образование с пробелами из-за сокращения того или другого преподавателя и ералаша на том или другом занятии. Но ожидания Роланд оправдывал всегда: среднюю школу окончил на одни пятёрки, диплом получил с отличием, защитил диссертацию. Сейчас постоянной работы у него не было, и он перебивался случайными заработками: вёл индивидуальные занятия со студентами своего колледжа, состоял на побегушках у Аспидса и мыл посуду по ресторанам. В богатые возможностями шестидесятые он и сам не заметил бы, как в два счёта сделал карьеру, но времена изменились: он уже поставил на себе крест и склонялся к мысли, что сам виноват в своих неудачах.
Роланд был человеком некрупного сложения, с поразительно чёрными, очень мягкими волосами и мелкими правильными чертами. Вэл звала его Кротишка. Прозвище ему не нравилось, но он помалкивал.
Жил он вместе с Вэл. Они познакомились на чаепитии, которое Студенческий союз устроил для первокурсников. Роланду тогда было восемнадцать. Сегодня ему казалось – впрочем, может, это просто мифотворчество от забывчивости, – что Вэл в его новой студенческой жизни была первым человеком, с которым он заговорил – не об учёбе, а так, вообще. Как он вспоминал, ему сразу понравился её взгляд – неуверенный взгляд бархатных карих глаз. Она стояла в сторонке с чашкой чая в руках и, никого вокруг не замечая, сосредоточенно смотрела в окно, словно не ждала, что к ней подойдут, да и не искала собеседников. Весь её вид навевал покой, умиротворял, и Роланд подошёл к ней и завязал разговор. И с тех пор они и минуты не пробыли порознь. Записывались на одни и те же курсы, в одни и те же студенческие общества, вместе сидели на семинарах, вместе ходили в Национальный дом кино. Вместе спали, а на втором курсе вместе сняли себе однокомнатную квартиру. На питании экономили – ели овсянку, чечевицу, фасоль, йогурт; когда случалось побаловаться пивом, пили не спеша, чтобы растянуть удовольствие; книги покупали в складчину. Других доходов, кроме стипендии, ни у неё, ни у него не было, а в Лондоне на стипендию не разгуляешься. А из-за нефтяного кризиса подрабатывать в каникулы стало уже невозможно. Роланд считал, что и диплом с отличием он получил не без помощи Вэл (это если не считать помощи матери и Рандольфа Генри Падуба). Ведь Вэл так надеялась, что Роланд его получит, всё время заставляла делиться соображениями о дипломной работе, обсуждала с ним каждую мелочь, постоянно угрызалась, что она, вернее, они так мало занимаются. Ссорились они очень редко и почти всегда по одной причине: Роланда тревожило, что она так дичится всех на свете – не высказывает собственную точку зрения на семинарах, а в последнее время и ему не рассказывает о своих мыслях. Раньше у неё было полно всяких заветных мыслей, и она с робкой лукавцей, словно подманивая или подначивая, делилась ими с Роландом. Были у неё любимые стихи. Как-то раз, когда они с Роландом лежали нагишом в его тёмной квартирке, она вдруг села в кровати и прочла строки Роберта Грейвза:
Полуслова: она сквозь полусон
Лепечет нежное из темноты,
Не поднимая век.
Земля на миг стряхнула зимний сон
И подарила травы и цветы —
И не беда, что снег,
Что сыплет снег.
У неё был небрежный ливерпульский выговор, подправленный лондонским произношением, как у «Битлз». Роланд попытался было заговорить, но она зажала ему рот. Да он и сам не знал, что сказать.
Постепенно Роланд стал замечать, что чем лучше идёт у него учёба, тем реже Вэл заводит серьёзные разговоры и тем чаще выговаривает в них его мысли – иной раз перелицованные навыворот, но всё же его собственные. Даже тему дипломной работы она выбрала такую: «Мужчина чревовещающий: Рандольф Генри Падуб и женщины». Роланд отговаривал. Пусть лучше напишет о чём-нибудь своём, заговорит собственным голосом, покажет всем, на что она способна. На это Вэл объявила, что он просто «издевается». Роланд удивился: почему это «издевается»? – но она, как уже не раз случалось при спорах, ответила молчанием. Роланд тоже не нашёл другого средства противодействия, кроме молчания, и они не разговаривали несколько дней. Был и совсем уж кошмарный случай, когда они проиграли в молчанку несколько недель – из-за того, что Роланд напрямик выложил, что? он думает о «Мужчине чревовещающем». Но всякий раз напряжённое молчание разряжалось примирительными односложными репликами и мирное сосуществование восстанавливалось.
Между тем подошли выпускные экзамены. Роланд сдавал в срок и, как и следовало ожидать, успешно. Экзаменационные работы Вэл были написаны размашистым уверенным почерком, прекрасно оформлены, предельно лаконичны и бесцветны. Экзаменаторы признали, что «Мужчина чревовещающий» – работа добротная, но переоценивать её не стоит, потому что к ней наверняка приложил руку Роланд. Это было вдвойне несправедливо. Роланд её даже не прочёл и к тому же был не согласен с её главной мыслью: что Рандольф Генри Падуб не любил и не понимал женщин, что все героини, в уста которых он вкладывает свои поэтические монологи, – это воплощение его страхов и агрессивности, что даже в цикле поэтических посланий «Аск – Эмбле»[5 - Аск («ясень»), Эмбла («ива») – в скандинавской мифологии первые люди на земле, оживленные богами (асами) ива и ясень, найденные на берегу моря.] проявляется не любовь, а нарциссизм: поэт обращается к своей Аниме.[6 - Термин аналитической психологии К. Г. Юнга: персонификация женского начала в бессознательном мужчины.] (Ещё ни одному биографу не удалось хоть сколько-нибудь доказательно установить, кто же был прототипом Эмблы.) Экзамены Вэл сдала неважно. Роланд думал, что на большее она не рассчитывала, но, к ужасу своему, обнаружил, что ошибался. Пошли слёзы, сдавленные всхлипы ночи напролёт, потом – первая вспышка ярости.
Вэл ненадолго съездила «домой». Это было их первое расставание с тех пор, как они поселились вместе. Дом – вернее, квартира в муниципальном доме, где Вэл жила с разведённой матерью, – находился в Кройдоне. Мать получала пособие для малоимущих, а иногда алименты, которые с большими перерывами присылал муж, работавший в торговом флоте. Последний раз он появлялся дома, когда Вэл было пять лет. Вэл ни разу не предлагала Роланду съездить к матери. Зато он уже дважды возил её к своим в Гласдейл. Там она помогала отцу Роланда мыть посуду и слушала, как мать ехидно отпускает шпильки насчёт их с Роландом образа жизни. Вэл и бровью не повела, а Роланду сказала:
– Да ладно тебе, Кротишка. Я это уже проходила. Моя вон ещё и пьёт. У нас на кухне только чиркни спичкой – так и заполыхает.
Едва Вэл уехала, Роланд точно прозрел и обратился в другую веру. Он неожиданно понял, что такая жизнь ему больше не по душе. Теперь он ночью ворочался сколько хотел, раскидывался по всей кровати, днём распахивал окна, ходил один в галерею Тейт любоваться размытой золотистыми лучами голубизной над замком Норем на картине Тернера. Пригласил к себе на жареного фазана своего противника во всех драках за академические лавры Фергуса Вулффа. Фазан оказался жёстким, нашпигованным дробью, но поболтали и посидели славно. Роланд начал строить планы – вернее, просто воображал, как бы здорово ему работалось бессонными ночами, будь он предоставлен самому себе: такой возможности у него ещё никогда не бывало. А через неделю вернулась Вэл. Вернулась заплаканная, с трясущимися руками и объявила, что хочет по крайней мере сама зарабатывать на жизнь и поступает на курсы машинисток-стенографисток.
– Слава богу, хоть тебе я нужна, – вздохнула она, и мокрое лицо её лоснилось от слёз. – Не знаю уж, зачем тебе такое ничтожество, а только нужна.
– Конечно нужна, – подтвердил Роланд. – Ещё как нужна!
* * *
Стипендию Роланду больше не платили, и, пока он писал диссертацию, они жили на заработки Вэл. Она купила себе электронную пишущую машинку и вечерами перепечатывала научные статьи, а днём находила какую-нибудь временную секретарскую работу там, где платили побольше. Работа подворачивалась то в Сити, то в университетских клиниках, то в судоходных компаниях, то в картинных галереях. Проще было бы работать по одному профилю, но Вэл не хотела. Её никакими силами нельзя было вывести на разговор о её работе, которую она называла не иначе как «халтура». «Мне тут перед сном надо ещё кое-какую халтуру попечатать». А иногда выражалась совсем чудно?: «Я сегодня по дороге на халтурку чуть не попала под машину». В голосе её стали проступать жёлчные нотки, которые показались Роланду знакомыми, и он первый раз в жизни задумался: а какой была его мать до того, как её постигло разочарование в лице мужа и в какой-то степени сына? По вечерам его изводила трескотня пишущей машинки, сбивчивая и поэтому особенно назойливая.
Теперь он видел рядом с собой двух Вэл. Одна, молчаливая, сидела дома в старых джинсах и длинных, вечно задирающихся рубахах из чего-то вроде крепа, усеянного мрачными чёрными и лиловыми цветочками. Тусклые каштановые волосы были распущены, из них смотрело бескровное лицо обитательницы подземелья. Лишь иногда на ногтях у неё расцветал пунцовый лак, оставшийся от другой Вэл, которая носила чёрную юбку в обтяжку, чёрный жакет с накладными плечами, а под ним шёлковую розовую блузку и тщательно накладывала розовато-коричневый макияж, погуще оттеняя скулы и сочные губы. Эта Вэл – Вэл-халтурщица во всём её траурном великолепии – ходила в туфлях на высоком каблуке и в чёрном берете. У неё были красивые ноги, дома вечно скрытые джинсами. Волосы она укладывала так, что получалась вполне сносная причёска «под пажа», а то подвязывала их чёрной лентой. Но до духов дело не дошло. Вэл с её внешними данными пикантность была недоступна. А жаль: Роланд бы только обрадовался, если бы её пригласил на ужин какой-нибудь воротила из торгового банка или какой-нибудь прощелыга-адвокат затащил в «Плейбой-клуб». Он сам ненавидел себя за эти постыдные мысли и резонно побаивался, как бы о них не догадалась Вэл.
Изменить хоть что-нибудь можно было лишь в том случае, если бы Роланд нашёл работу. Он всё пытался устроиться, но получал отказ за отказом. Когда открылась вакансия на его факультете, заявки подали шестьсот кандидатов. Роланда пригласили на собеседование – из вежливости, как ему показалось, – но досталась должность Фергусу Вулффу, который по всем академическим показателям уступал Роланду, но мог блеснуть, мог оглушить до смешного напыщенными словесами, не нагонял тоску своей правотой, был любимцем преподавателей и приводил их то в бешенство, то в восторг. Самые оживлённые отзывы, которыми они удостаивали Роланда, были степенные похвалы. У Фергуса оказалась подходящая специальность – теория литературы. Эта история возмутила не столько Роланда, сколько Вэл, и её возмущение огорчило Роланда больше, чем собственная неудача: Фергус был ему симпатичен, и он хотел сохранить в себе это отношение. Вэл, по своей привычке наделять всё на свете впредь уже несменяемыми прозвищами, налепила ярлык и Фергусу, ярлык неудачный и незаслуженный.
– Этот смазливый позёришка, – приговаривала она. – Это секс-бомбище блондинистое.
Разрешение это было получено к половине одиннадцатого. Следующие полчаса Роланд бессвязно рылся в томе Вико, выискивая упоминания о Прозерпине и одновременно почитывая заметки Падуба. А читать их было нелегко: Падуб делал записи на разных языках, притом крохотными, почти печатными буквами – не сразу заметишь сходство с тем разгонистым почерком, которым были написаны его стихи и письма.
В одиннадцать Роланд наконец отыскал место в книге, которое, кажется, имело отношение к его теме. Вико пытался разглядеть за поэтическими метафорами, легендами и мифами исторические факты и увязать эти образы в одну картину – в этом и состояла суть его «новой науки». Прозерпина в его понимании олицетворяла зерно хлебных злаков – источник торговли и общественного начала. Рандольф Генри Падуб же, как считалось, выразил в образе Прозерпины религиозные сомнения человека Викторианской эпохи, свои собственные мысли, навеянные мифами о воскресении. На картине лорда Лейтона* Прозерпина – это летящая по чёрному тоннелю золотистая фигура с видимыми признаками душевного смятения. Аспидс полагал, что Падуб видел в ней воплощение самой истории – её начального этапа, который описывается в мифах. (Перу Падуба принадлежали два стихотворения об историках, мало похожих друг на друга: одно о Гиббоне*, другое о Беде Достопочтенном*. Аспидс даже написал статью о Р. Г. Падубе и отражении историографии в его творчестве.)
Сопоставляя текст поэмы Падуба с переводом труда Вико, Роланд делал выписки на каталожных карточках. Перед ним стояли две коробки таких карточек – ярко-оранжевая и густо-зелёная, травяного оттенка; пластиковые петли карточек своим потрескиванием нарушали тишину читального зала.
Колосья называли золотыми яблоками, и это, вероятно, было единственное известное человечеству золото, ибо о золоте-металле тогда ещё не слышали… Поэтому золотое яблоко, которое Геркулес добыл – или вернул – из сада Гесперид, скорее всего, было не что иное, как зёрна злаков, и у галльского Геркулеса из уст исходят золотые цепочки, концы которых прикованы к ушам людей,[2 - Изображение, описанное в сочинении Лукиана «Про Геракла». «Галльский Геркулес» – кельтский бог Огма (Огмий).] – это, как мы увидим ниже, изображает миф об обработке полей. По этой причине Геркулес считался божеством, благосклонность коего открывала путь к богатству, богом же богатства был Дит (тождественный Плутону), умчавший Прозерпину (она же Церера, или зерно) в подземное царство, описанное поэтами, которые именуют его то Стиксом, то царством мёртвых, то недрами пашни… Это золотое яблоко великий знаток героических преданий древности Вергилий и превратил в золотую ветвь, которую Эней берёт с собою в Подземный мир, или Преисподнюю.
Рандольф Генри Падуб, описывая Прозерпину, отмечает: «полумрак ей кожу позлатил» и называет её «как колос, золотая». А вот ещё: «Окованная звеньями златыми…» – это, наверно, про какие-нибудь ювелирные украшения, цепочки. Роланд аккуратно внёс перекрёстные ссылки в карточки с рубриками «злаки», «яблоки», «цепь», «богатство». Страница тома Вико, на которой он нашёл этот отрывок, была согнута пополам, внутри лежал счёт за свечи. На обороте его Падуб записал: «Личность приходит в мир на короткий миг, вступает в круг людей мыслящих, привносит новое и умирает, но биологический вид продолжает жить и пожинает плоды быстротечного её бытия». Роланд переписал эту фразу, выбрал чистую карточку и набросал вопросы, на которые предстояло найти ответ: «Разобраться. Цитата или собственная мысль? Биологич. вид – Прозерпина? Очень в духе XIX в. Или Прозерпина – личность? Когда оставлены заметки? Когда написаны – до или после „Происхождения видов“? Хотя это ничего не даст. М. б., он думал о Развитии в широком смысле…»
Было уже четверть двенадцатого. Тикали часы, в лучах солнца кружились пылинки, Роланд размышлял о том, что изнурительная и колдовская тяга к познанию влечёт нас по пути, которому нет конца. Он сидел, пытаясь восстановить очертания мыслей, вычитанных давно умершим человеком, а время шло: Роланду напоминали об этом не только библиотечные часы, но и посасывание под ложечкой (кофе в Лондонской библиотеке не продавали). Надо показать эти драгоценные находки Аспидсу. Тот будет то фыркать, то восторгаться, но всё же останется доволен, что книга лежит под замком в сейфе № 5, а не упорхнула, как и многие другие раритеты, в Университет Роберта Дэйла Оуэна в Гармония-Сити. Как же не хочется рассказывать Аспидсу. Вот бы владеть этими сведениями в одиночку.
Упоминание о Прозерпине было на страницах 288–289. А на странице 300 оказались два сложенных листа писчей бумаги. Роланд осторожно развернул их. Он сразу узнал плавный, летящий почерк Падуба. Это были письма, на обоих значился адрес Падуба – Грейт-Рассел-стрит, – оба помечены 21 июня. Год не указан. Оба начинались словами «Милостивая государыня!», оба без подписи. Первое гораздо короче второго.
Милостивая государыня!
Мысли о нашей необычной беседе не покидают меня ни на минуту. Не так часто поэту, а может быть, и всякому смертному случается встретить собеседника, который соединял бы в себе столько готовности проникнуться чужими мыслями, столько ума и тонкости суждения. Я пишу, испытывая неодолимую потребность продолжить наш разговор, и, не раздумывая,
обращаюсь к Вам с просьбой: могу ли я навестить Вас как-нибудь на будущей неделе? Я чувствую, что мы с Вами непременно должны вернуться к нашей беседе, и уверенность эта не блажь, не самообман. Мне известно, что Вы редко бываете в обществе, и мне удивительно повезло, что любезный Крэбб залучил Вас к себе на завтрак. Какое счастье, что, несмотря на легкомысленное балагурство студиозусов и искусные рассказы Крэбба о примечательных происшествиях – в том числе тот, о бюсте, – нам удалось сказать друг другу так много важного.
Вот что было во втором письме:
Милостивая государыня!
Я то и дело возвращаюсь в мыслях к нашей приятной и неожиданной беседе. Не будет ли у нас возможности возобновить её и поговорить более пространно, в обстановке не столь многолюдной? Мне известно, что Вы редко бываете в обществе, и мне чрезвычайно повезло, что любезный Крэбб залучил Вас к себе на завтрак. Я бесконечно признателен его доброму здравию, благодаря которому он и в восемьдесят два года находит в себе силы и желание поутру угощать поэтов и студентов, профессоров математики и политических философов и с привычным жаром рассказывать историю о бюсте, не задерживая ею, однако, появления на столе гренков с маслом.
Не правда ли, удивительно, что мы с полуслова так хорошо поняли друг друга? А ведь мы поняли друг друга на редкость хорошо, Вы согласны? Или это плод разгорячённого воображения не слишком молодого и не слишком признанного поэта, который вдруг обнаружил, что его произведения с их потаённым, изощрённо-внятным и непонятым смыслом – или, скорее, бессмыслицей, раз никто, как видно, не сумел добраться до этого смысла, – нашли наконец наблюдательного и увлечённого читателя и судью? Ваши мысли о монологе Александра Селькирка*, Ваше верное постижение мятущейся души моего Джона Беньяна*, Ваше понимание страсти Инес де Кастро…* которая была resurrecta[3 - Воскрешена (лат.).]столь чудовищным образом… Но хватит этих вздохов больного самолюбия, хватит разглагольствовать о моих personae[4 - Персонажах (лат.).], которые, как Вы справедливо заметили, вовсе не маски, скрывающие лицо автора. Я не хочу, чтобы Вы заключили, будто я ставлю Ваш тонкий слух и ещё более тонкий вкус не выше, а ниже своего. Непременно напишите Вашу историю о фее: Вы сделаете из этого сюжета что-то очень необычное и оригинальное. Кстати, не задумывались ли Вы о взглядах Вико на историю первобытных народов – о том, что боги древности, а позднее герои суть олицетворения судеб и устремлений народа, рождающиеся в уме простого человека? Тут есть над чем поразмыслить: ведь предание о Вашей фее связывают с невымышленными замками и возводят к действительно происходившим преобразованиям в земледелии – на современный взгляд это одна из любопытнейших сторон её истории. Впрочем, я опять за своё: Вы, с Вашим живым умом и приобретёнными вдали от суеты знаниями, без сомнения, сами придумали, как придать своей теме наилучшую отделку.
Возможно, Ваше понимание, как сладостный дурман, вскружило мне голову, но меня не оставляет чувство,
Если я не ошибаюсь, Вы также нашли наше знакомство
интересным и, как бы ни дорожили Вы своим уединением
Я понимаю, что Вы решились выехать лишь для того, чтобы навестить любезного Крэбба, который в нелёгкое для Вашего отца время поддержал этого блистательного учёного и оценил его труд. Вы выехали потому, что знали: Вас будут принимать в узком приятельском кругу. Всё так, но главное – Вы выехали, а значит, я могу надеяться, что, найдись важная причина, Вы согласитесь на время поступиться обыденным покоем ради
Я убеждён, что вы понимаете
Роланд был потрясён. И сразу же в нём взыграл литературовед. В голове сами собой замелькали предположения о времени и месте этого несостоявшегося диалога с неназванной женщиной. Год в письмах не указан, но они определённо написаны после публикации цикла драматических поэм Падуба «Боги, люди и герои». Поэмы вышли в 1856 году, и критика, вопреки надеждам, а может быть, и расчётам Падуба, отозвалась о них не слишком благожелательно: рецензенты объявили его произведения непонятными, вкус его – извращённым, а персонажей – вычурными и надуманными. В этот цикл и входили «Одинокие думы Александра Селькирка» – размышления моряка, заброшенного на необитаемый остров. Относились к этому циклу и «Лудильщик во пророках» – поэма, в которой воспроизводятся раздумья томящегося в тюрьме Беньяна о благодати Господней, и сцена, происходящая в 1356 году: причудливый, исступлённый монолог Педро Португальского, в котором он признаётся в любви набальзамированному телу своей убитой жены Инес де Кастро, – высохший, обтянутый бурой кожей труп всегда покачивался в карете рядом с королём, куда бы тот ни ехал: на голове – обхваченный золотым обручем кружевной убор, по платью – цепочки с алмазами и жемчугами, костлявые пальцы унизаны редкой красоты перстнями… Падуб охотно изображал героев, близких к безумию или обуянных безумием, создающих из обрывков жизненного опыта мировоззрение, которое помогает им выстоять.
Установить, что это за завтрак, не составит труда, скорее всего – один из приёмов, которые на склоне лет стал устраивать Крэбб Робинсон*, чтобы студенты недавно основанного Лондонского университета могли в застольных беседах расширять свой кругозор. Архив Крэбба Робинсона хранился в Библиотеке доктора Уильямса на Гордон-сквер – здании, задуманном как Университетская ратуша; по замыслу Робинсона тут вольнослушатели получали возможность приобщаться к университетской жизни вне учебных аудиторий. Не так уж трудно – да нет, совсем не трудно справиться в дневнике Робинсона, когда Падуб присутствовал на завтраке в доме 30 на Рассел-сквер в обществе профессора математики, политического философа (не Баджот* ли?) и некой затворницы, которая разбиралась в поэзии и сама писала или имела намерение писать стихи.
Кто же она такая? Кристина Россетти?* Сомнительно. Вряд ли мисс Россетти пришлись бы по вкусу богословские построения Падуба и его взгляды на мужскую и женскую психологию. И что за «история о фее»? От всех этих загадок Роланд уже не в первый раз ощутил своё безграничное невежество: серый туман, а в нём то проплывает, то маячит что-то осязаемое, то блеснут купола, то чернеют в сумраке крыши…
Удалось ли Падубу завязать переписку? Если да, то где остальные письма, какие драгоценные сведения о его произведениях «с их потаённым, изощрённо-внятным и непонятым смыслом» могут в них содержаться? Не исключено, что, отыщись эти письма, филологам придётся пересмотреть кое-какие устоявшиеся мнения. Ну а если переписка не завязалась? Если Падуб так и не нашёл слов, чтобы выразить своё настойчивое желание? Настойчивость – вот что поразило и взволновало Роланда больше всего. А он-то думал, что знает Падуба неплохо – насколько вообще можно знать человека, замкнувшегося в мире своих мыслей, сорок лет прожившего с женой как примерный семьянин, оставившего после себя гору писем, но писем сдержанно-учтивых, не отмеченных какими-то особыми страстями. И такой Рандольф Генри Падуб Роланду нравился. Его восхищало яростное горение духа и широчайшая эрудиция, заметные в творчестве Падуба, и в глубине души ему было приятно, что эти качества выработались благодаря такому степенному, такому безбурному существованию.
Он перечитал оба черновика. Было ли письмо наконец написано и отправлено? Или первый порыв угас, был отринут? И тут Роланда самого захлестнул странный, неожиданный для него порыв. Нет, не может он оставить эти полные жизни слова в томе Вико, на странице 300, и сдать на хранение в сейф № 5. Он огляделся: никто не видит. Тогда он украдкой сунул письма в книгу, с которой никогда не расставался, – оксфордское издание «Избранного» Падуба – и снова занялся карточками. Он методично выписывал самое интересное, пока на лестнице не послышался звон колокольчика, извещающий о закрытии читального зала. Заработавшись, Роланд даже не выкроил времени перекусить.
Он собрал коробки с карточками, сунул под них «Избранное» и направился к выходу. Дежурные за столиком выдачи книг дружески ему закивали. Роланд был тут завсегдатаем. Заподозрить его в порче книг или краже никому и в голову не приходило. Он вышел из библиотеки, как обычно, с толстым обшарпанным портфелем под мышкой. На Пиккадилли сел в двухэтажный автобус № 14 и, прижимая к себе добычу, поднялся наверх. Как всегда по дороге домой – жил он в Патни, в полуподвальном этаже ветшающего дома викторианских времён, – сперва на него напала сонливость, потом она сменилась какой-то лихорадочной ясностью, а там уже подступали тревожные мысли о Вэл.
Глава 2
Человек – это история его мыслей, дыхания и поступков, телесного состава и душевных ран, любви, равнодушия и неприязни, история его народа и государства, земли, вскормившей и его, и предков его, камней и песчинок знакомых ему краёв, история давно отгремевших битв и душевных борений, улыбок дев и неспешных речений старух, история случайностей и постепенного действия непреложных законов – история этих и многих других обстоятельств, один язычок огня, который во всём живёт по законам целого Пламени, но, вспыхнув единожды, в своё время угаснет и никогда больше не загорится в беспредельных просторах будущего.
Так писал Рандольф Генри Падуб примерно в 1840 году, когда работал над поэмой в двенадцати книгах под названием «Рагнарёк, или Гибель богов», которую одни восприняли как христианский взгляд на скандинавскую мифологию, а другие громили за атеизм и недостойную христианина безысходность. Рандольфу Падубу действительно важно было разобраться, что такое человек, но, вообще-то, он запросто мог бы написать это загромождённое, как мебельный склад, предложение совсем по-другому, заменить слова, сочетания и ритмический рисунок и заключить той же добротной уклончивой метафорой. Так, по крайней мере, казалось Роланду, натасканному по части постструктуралистской деконструкции сюжета. А вот на вопрос, кто такой Роланд Митчелл, ему бы пришлось ответить иначе.
В 1986 году ему исполнилось двадцать девять. Митчелл окончил лондонский колледж Принца Альберта (1978) и в том же университете получил степень доктора философии (1985). Его докторская диссертация называлась «История, историки и поэзия? Изображение исторических „свидетельств“ в поэмах Рандольфа Генри Падуба». Научным руководителем был Джеймс Аспидс, работая под началом которого можно было охладеть к любой теме. Сам Аспидс давно охладел ко всему, и ему доставляло удовольствие расхолаживать окружающих. (Зато уж как учёный он отличался добросовестностью.) Роланд работал в возглавляемом Аспидсом Центре исследования творчества Р. Г. Падуба, который окрестили «Падубоведник». («Лучше бы „Синклит Его Преподубия“», – заметила как-то Вэл.) Размещался центр в Британском музее, куда вдова Падуба Эллен передала значительную часть его рукописей. Кое-какую финансовую поддержку оказывал Падубоведнику Лондонский университет, но гораздо большие средства поступали из Альбукерке, от Фонда Ньюсома – благотворительной организации, одним из попечителей которой состоял Мортимер Собрайл. Казалось бы, в своём стремлении увековечить память Падуба Аспидс и Собрайл действуют рука об руку. Но не тут-то было. Аспидс подозревал, что Собрайл имеет виды на хранящиеся в Британской библиотеке, но не принадлежащие ей рукописи и, разыгрывая щедрость и заботливость, пытается втереться в доверие к законным владельцам. Шотландец Аспидс был убеждён, что рукописи британца должны оставаться в Британии, чтобы их изучали британцы. Может показаться странным, что ответ на вопрос: «Кто такой Роланд Митчелл?» – начинается с разбора непростых отношений Аспидса, Собрайла и Падуба, но, задумываясь о своём положении, Роланд чаще всего видел себя именно в этом соседстве. Во всех остальных случаях «соседством» становилась Вэл.
Роланд считал, что родился слишком поздно. Он едва застал разлитые в воздухе возбуждение, непоседливость, юность, бодрость, ушедшие вместе с шестидесятыми, – радостную зарю нового дня, который заранее представлялся ему и его сверстникам довольно-таки тусклым. В психоделические годы он был ещё школьником и жил в захудалом ланкаширском городишке, примечательном разве что текстильными фабриками, вдали от шума Ливерпуля и сутолоки Лондона. Отец Роланда служил мелким чиновником в совете графства. Мать окончила факультет английского языка и литературы и разочаровалась в своей специальности. Если самому себе Роланд казался ходячим заявлением о приёме – на работу, в колледж, в кандидаты на место под солнцем, – то мать в его глазах была воплощённым разочарованием. В чём она только не разочаровывалась! В нём, в его отце, в себе. В бешенстве от собственной неудачливости, она употребила всю силу этого бешенства на то, чтобы дать сыну приличное образование. Образование Роланд получил в Единой школе Анайрина Бивана, слепленной на скорую руку из Гласдейлской старой классической школы, англиканской средней школы Фомы Беккета и Современной Технической школы гильдии швейников, и учёба сопровождалась непрерывной беготнёй из здания в здание. Мать пристрастилась к крепкому портеру, совсем зациклилась на «приличном образовании» и постоянно заставляла Роланда менять основной предмет: работы по металлу на латынь, гражданское законодательство на французский, устраивала его разносить почту и на вырученные деньги нанимала ему репетитора по математике. Так что в конце концов он получил самое заурядное классическое образование с пробелами из-за сокращения того или другого преподавателя и ералаша на том или другом занятии. Но ожидания Роланд оправдывал всегда: среднюю школу окончил на одни пятёрки, диплом получил с отличием, защитил диссертацию. Сейчас постоянной работы у него не было, и он перебивался случайными заработками: вёл индивидуальные занятия со студентами своего колледжа, состоял на побегушках у Аспидса и мыл посуду по ресторанам. В богатые возможностями шестидесятые он и сам не заметил бы, как в два счёта сделал карьеру, но времена изменились: он уже поставил на себе крест и склонялся к мысли, что сам виноват в своих неудачах.
Роланд был человеком некрупного сложения, с поразительно чёрными, очень мягкими волосами и мелкими правильными чертами. Вэл звала его Кротишка. Прозвище ему не нравилось, но он помалкивал.
Жил он вместе с Вэл. Они познакомились на чаепитии, которое Студенческий союз устроил для первокурсников. Роланду тогда было восемнадцать. Сегодня ему казалось – впрочем, может, это просто мифотворчество от забывчивости, – что Вэл в его новой студенческой жизни была первым человеком, с которым он заговорил – не об учёбе, а так, вообще. Как он вспоминал, ему сразу понравился её взгляд – неуверенный взгляд бархатных карих глаз. Она стояла в сторонке с чашкой чая в руках и, никого вокруг не замечая, сосредоточенно смотрела в окно, словно не ждала, что к ней подойдут, да и не искала собеседников. Весь её вид навевал покой, умиротворял, и Роланд подошёл к ней и завязал разговор. И с тех пор они и минуты не пробыли порознь. Записывались на одни и те же курсы, в одни и те же студенческие общества, вместе сидели на семинарах, вместе ходили в Национальный дом кино. Вместе спали, а на втором курсе вместе сняли себе однокомнатную квартиру. На питании экономили – ели овсянку, чечевицу, фасоль, йогурт; когда случалось побаловаться пивом, пили не спеша, чтобы растянуть удовольствие; книги покупали в складчину. Других доходов, кроме стипендии, ни у неё, ни у него не было, а в Лондоне на стипендию не разгуляешься. А из-за нефтяного кризиса подрабатывать в каникулы стало уже невозможно. Роланд считал, что и диплом с отличием он получил не без помощи Вэл (это если не считать помощи матери и Рандольфа Генри Падуба). Ведь Вэл так надеялась, что Роланд его получит, всё время заставляла делиться соображениями о дипломной работе, обсуждала с ним каждую мелочь, постоянно угрызалась, что она, вернее, они так мало занимаются. Ссорились они очень редко и почти всегда по одной причине: Роланда тревожило, что она так дичится всех на свете – не высказывает собственную точку зрения на семинарах, а в последнее время и ему не рассказывает о своих мыслях. Раньше у неё было полно всяких заветных мыслей, и она с робкой лукавцей, словно подманивая или подначивая, делилась ими с Роландом. Были у неё любимые стихи. Как-то раз, когда они с Роландом лежали нагишом в его тёмной квартирке, она вдруг села в кровати и прочла строки Роберта Грейвза:
Полуслова: она сквозь полусон
Лепечет нежное из темноты,
Не поднимая век.
Земля на миг стряхнула зимний сон
И подарила травы и цветы —
И не беда, что снег,
Что сыплет снег.
У неё был небрежный ливерпульский выговор, подправленный лондонским произношением, как у «Битлз». Роланд попытался было заговорить, но она зажала ему рот. Да он и сам не знал, что сказать.
Постепенно Роланд стал замечать, что чем лучше идёт у него учёба, тем реже Вэл заводит серьёзные разговоры и тем чаще выговаривает в них его мысли – иной раз перелицованные навыворот, но всё же его собственные. Даже тему дипломной работы она выбрала такую: «Мужчина чревовещающий: Рандольф Генри Падуб и женщины». Роланд отговаривал. Пусть лучше напишет о чём-нибудь своём, заговорит собственным голосом, покажет всем, на что она способна. На это Вэл объявила, что он просто «издевается». Роланд удивился: почему это «издевается»? – но она, как уже не раз случалось при спорах, ответила молчанием. Роланд тоже не нашёл другого средства противодействия, кроме молчания, и они не разговаривали несколько дней. Был и совсем уж кошмарный случай, когда они проиграли в молчанку несколько недель – из-за того, что Роланд напрямик выложил, что? он думает о «Мужчине чревовещающем». Но всякий раз напряжённое молчание разряжалось примирительными односложными репликами и мирное сосуществование восстанавливалось.
Между тем подошли выпускные экзамены. Роланд сдавал в срок и, как и следовало ожидать, успешно. Экзаменационные работы Вэл были написаны размашистым уверенным почерком, прекрасно оформлены, предельно лаконичны и бесцветны. Экзаменаторы признали, что «Мужчина чревовещающий» – работа добротная, но переоценивать её не стоит, потому что к ней наверняка приложил руку Роланд. Это было вдвойне несправедливо. Роланд её даже не прочёл и к тому же был не согласен с её главной мыслью: что Рандольф Генри Падуб не любил и не понимал женщин, что все героини, в уста которых он вкладывает свои поэтические монологи, – это воплощение его страхов и агрессивности, что даже в цикле поэтических посланий «Аск – Эмбле»[5 - Аск («ясень»), Эмбла («ива») – в скандинавской мифологии первые люди на земле, оживленные богами (асами) ива и ясень, найденные на берегу моря.] проявляется не любовь, а нарциссизм: поэт обращается к своей Аниме.[6 - Термин аналитической психологии К. Г. Юнга: персонификация женского начала в бессознательном мужчины.] (Ещё ни одному биографу не удалось хоть сколько-нибудь доказательно установить, кто же был прототипом Эмблы.) Экзамены Вэл сдала неважно. Роланд думал, что на большее она не рассчитывала, но, к ужасу своему, обнаружил, что ошибался. Пошли слёзы, сдавленные всхлипы ночи напролёт, потом – первая вспышка ярости.
Вэл ненадолго съездила «домой». Это было их первое расставание с тех пор, как они поселились вместе. Дом – вернее, квартира в муниципальном доме, где Вэл жила с разведённой матерью, – находился в Кройдоне. Мать получала пособие для малоимущих, а иногда алименты, которые с большими перерывами присылал муж, работавший в торговом флоте. Последний раз он появлялся дома, когда Вэл было пять лет. Вэл ни разу не предлагала Роланду съездить к матери. Зато он уже дважды возил её к своим в Гласдейл. Там она помогала отцу Роланда мыть посуду и слушала, как мать ехидно отпускает шпильки насчёт их с Роландом образа жизни. Вэл и бровью не повела, а Роланду сказала:
– Да ладно тебе, Кротишка. Я это уже проходила. Моя вон ещё и пьёт. У нас на кухне только чиркни спичкой – так и заполыхает.
Едва Вэл уехала, Роланд точно прозрел и обратился в другую веру. Он неожиданно понял, что такая жизнь ему больше не по душе. Теперь он ночью ворочался сколько хотел, раскидывался по всей кровати, днём распахивал окна, ходил один в галерею Тейт любоваться размытой золотистыми лучами голубизной над замком Норем на картине Тернера. Пригласил к себе на жареного фазана своего противника во всех драках за академические лавры Фергуса Вулффа. Фазан оказался жёстким, нашпигованным дробью, но поболтали и посидели славно. Роланд начал строить планы – вернее, просто воображал, как бы здорово ему работалось бессонными ночами, будь он предоставлен самому себе: такой возможности у него ещё никогда не бывало. А через неделю вернулась Вэл. Вернулась заплаканная, с трясущимися руками и объявила, что хочет по крайней мере сама зарабатывать на жизнь и поступает на курсы машинисток-стенографисток.
– Слава богу, хоть тебе я нужна, – вздохнула она, и мокрое лицо её лоснилось от слёз. – Не знаю уж, зачем тебе такое ничтожество, а только нужна.
– Конечно нужна, – подтвердил Роланд. – Ещё как нужна!
* * *
Стипендию Роланду больше не платили, и, пока он писал диссертацию, они жили на заработки Вэл. Она купила себе электронную пишущую машинку и вечерами перепечатывала научные статьи, а днём находила какую-нибудь временную секретарскую работу там, где платили побольше. Работа подворачивалась то в Сити, то в университетских клиниках, то в судоходных компаниях, то в картинных галереях. Проще было бы работать по одному профилю, но Вэл не хотела. Её никакими силами нельзя было вывести на разговор о её работе, которую она называла не иначе как «халтура». «Мне тут перед сном надо ещё кое-какую халтуру попечатать». А иногда выражалась совсем чудно?: «Я сегодня по дороге на халтурку чуть не попала под машину». В голосе её стали проступать жёлчные нотки, которые показались Роланду знакомыми, и он первый раз в жизни задумался: а какой была его мать до того, как её постигло разочарование в лице мужа и в какой-то степени сына? По вечерам его изводила трескотня пишущей машинки, сбивчивая и поэтому особенно назойливая.
Теперь он видел рядом с собой двух Вэл. Одна, молчаливая, сидела дома в старых джинсах и длинных, вечно задирающихся рубахах из чего-то вроде крепа, усеянного мрачными чёрными и лиловыми цветочками. Тусклые каштановые волосы были распущены, из них смотрело бескровное лицо обитательницы подземелья. Лишь иногда на ногтях у неё расцветал пунцовый лак, оставшийся от другой Вэл, которая носила чёрную юбку в обтяжку, чёрный жакет с накладными плечами, а под ним шёлковую розовую блузку и тщательно накладывала розовато-коричневый макияж, погуще оттеняя скулы и сочные губы. Эта Вэл – Вэл-халтурщица во всём её траурном великолепии – ходила в туфлях на высоком каблуке и в чёрном берете. У неё были красивые ноги, дома вечно скрытые джинсами. Волосы она укладывала так, что получалась вполне сносная причёска «под пажа», а то подвязывала их чёрной лентой. Но до духов дело не дошло. Вэл с её внешними данными пикантность была недоступна. А жаль: Роланд бы только обрадовался, если бы её пригласил на ужин какой-нибудь воротила из торгового банка или какой-нибудь прощелыга-адвокат затащил в «Плейбой-клуб». Он сам ненавидел себя за эти постыдные мысли и резонно побаивался, как бы о них не догадалась Вэл.
Изменить хоть что-нибудь можно было лишь в том случае, если бы Роланд нашёл работу. Он всё пытался устроиться, но получал отказ за отказом. Когда открылась вакансия на его факультете, заявки подали шестьсот кандидатов. Роланда пригласили на собеседование – из вежливости, как ему показалось, – но досталась должность Фергусу Вулффу, который по всем академическим показателям уступал Роланду, но мог блеснуть, мог оглушить до смешного напыщенными словесами, не нагонял тоску своей правотой, был любимцем преподавателей и приводил их то в бешенство, то в восторг. Самые оживлённые отзывы, которыми они удостаивали Роланда, были степенные похвалы. У Фергуса оказалась подходящая специальность – теория литературы. Эта история возмутила не столько Роланда, сколько Вэл, и её возмущение огорчило Роланда больше, чем собственная неудача: Фергус был ему симпатичен, и он хотел сохранить в себе это отношение. Вэл, по своей привычке наделять всё на свете впредь уже несменяемыми прозвищами, налепила ярлык и Фергусу, ярлык неудачный и незаслуженный.
– Этот смазливый позёришка, – приговаривала она. – Это секс-бомбище блондинистое.