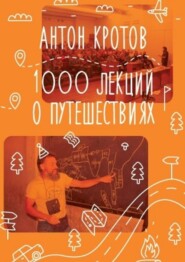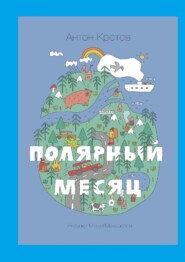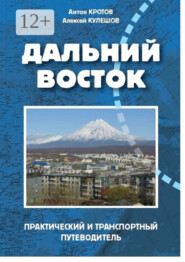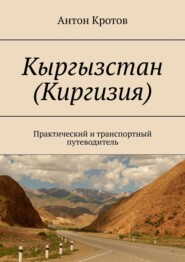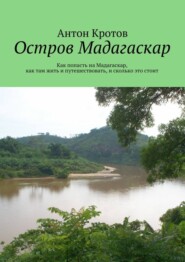По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Через семь границ. Автостопом из Москвы через Кавказ, Иран в 1997 году и обратно домой через Туркмению, Узбекистан и Казахстан
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
При помощи многочисленных тостов напоив кое-кого из нас, а также и себя, – человек сей сказал:
– Ну а теперь поехали ночевать ко мне! – так наше застолье завершилось, мы погрузились в машину (по размеру это был целый микроавтобус человек на восемь) и вскоре оказались в предрассветной Мцхете, у нашего нового знакомого в его обширном доме.
В каменном доме было два этажа и много комнат; в доме жила старушка – мать Джондо, не познавшая русского языка; во дворе росли плющи и две машины – старая и новая. Нас, мужчин, положили спать в одну из комнат, Машу в другую, и мы моментально уснули.
12 августа, вторник
Спать нам пришлось недолго. Часов в восемь утра хозяин засобирался в Тбилиси. Вчера мы сонно попросили вывезти нас наутро на трассу, ведущую в Боржоми. Но он истолковал наши слова иначе. Когда мы сели в его машину и поехали, оказалось, что мы едем не на трассу, а в Тбилиси. «Куда он везет нас?» – подумал я, но это был мысленный вопрос не удивления, а просто любопытства. Привез он нас на автовокзал. Подгоняемые словами: скорее, скорее, вот ваш автобус, – мы попрощались с Джондо и затолкались в заднюю дверь «Икаруса», едущего в Боржоми.
«Вот тебе и „вредные-опасные“ кавказские люди, – вспоминал я ночного знакомого, – совершенно незнакомых людей накормить, напоить, отвезти к себе домой ночевать – это уже необычно, а тут еще и автобус организовал! Нам еще нужно учиться гостеприимству у кавказских людей!»
* * *
Часа через три (встречных машин на дороге было все меньше) мы выгрузились на берегу все той же реки Куры, только в 150 км выше от Тбилиси по течению, в городе Боржоми.
Боржоми – теплый город в долине Куры, на обоих ее берегах, соединенных несколькими мостами. Справа и слева поднимаются покрытые лесом горы. Вдоль реки, совсем рядом, идет железная дорога – то появляется, то прячется в тоннель. Сам город – как бы большой парк. Многоэтажные современные дома поднимаются по склонам горы и кажутся от этого один другого выше. Магазинчики. Как легко догадаться, в Боржоми повсюду продают бутылочный «Боржоми». Стоит он примерно один доллар.
Однако нас не оставляла гипотеза, что где-то находится настоящий источник боржоми, где его много и бесплатно.
И впрямь: после недолгих хождений мы нашли некий парк. На входе стояла тетушка, неназойливо собиравшая за вход по 10 тетри (грузинских копеек). Легко миновав ее, мы попали внутрь. Среди зарослей дерев, у подножия горы, сидели многочисленные боржомствующие. В центре парка находилось углубление, облицованное белым кафелем, где суетилась старушка в белом халате. От самой старушки издали были видны только периодически высовывающиеся из ямы руки со стаканчиками и бутылками, полными жидкости. Подойдя ближе, мы увидели и мощный фонтан с несколькими струями, в яме находящийся, – из него-то старушка и наливала боржоми всем желающим, приговаривая: пейте, пейте, еще возьмите, на здоровье, мои дорогие… и т.д.. Вокруг тусовались пьющие. Присоединившись к ним и наполнив свою «торпеду» при помощи старушки сею водою, мы сели на скамейках в парке и принялись поедать хлеб, боржоми и сгущенку. Что о воде сей, она не как бутылочная: пахнет тухлыми яйцами, совсем не газированная, немного мутная и для питья непривычная, а вследствие этого, вероятно, весьма полезная.
* * *
Пока мы сидели в парке и посматривали на часы, думая, что скоро пора нам возвращаться в Тбилиси, – кому-то из нас в голову пришла мысль поехать на Ереван более прямой дорогой, а именно – через Бакуриани, Ахалкалаки, Ленинакан. Действительно, по атласу автодорог от Боржоми до Еревана меньше 300 километров «по прямой дороге», а через Тбилиси – более 470. Идея быстро овладела нами. Забыв сведения о том, что самый короткий путь – не обязательно самый быстрый, а вернее, пренебрегши этой заповедью сознательно (мы ведь не на гонках!) мы устремились душой и телом в неведомые – о! – Бакуриани и – о, о! – Ахалкалаки.
В то же самое время наши друзья Андрей Винокуров и Андрей Степанов, совершающие другое аналогичное путешествие автостопом (Москва – Ташкент – Ашхабад – Красноводск – Баку – Тбилиси – Москва), находились в Тбилиси. Мы договорились оставить друг другу послание на Центральном почтамте города Тбилиси. Однако, не зайдя на почтамт, мы направились в Ереван, о чем, с чувством глубокого раскаяния, всему человечеству и сообщаем. Андреи, не обижайтесь!
* * *
Через некоторое время мы уже ехали в набитом битком автобусе-«пазике». Дорога шла круто в гору, порой мы ехали со скоростью 10 км/час и даже медленнее. Было очень жарко, автобус нагревался, и водитель охлаждал мотор интересным образом: справа от переключателя передач была дырка, в нее была видна дорога и какие-то замасленные детали мотора. Водитель поминутно брал одну из канистр и лил воду в эту дырку, поливая мотор, а заодно и дорогу. Когда все запасы воды кончились, мы заправились у горного родника и поехали дальше.
Горный серпантин был велик: за 29 километров пути мы поднялись вверх больше чем на километр. Лес вокруг становился реже. Светило солнце. Но наконец, спустя долгое время, мы въехали в поселок.
справка: БАКУРИАНИ – поселок городского типа в Боржомском районе Грузии, на северных склонах Триалетского хребта на высоте 1700 м. Конечный путь ж.д. ветки, отходящей от Боржоми (37 км). Горный лесной климатический курорт. Лыжная станция. Звероводческий совхоз (разведение черно-бурых лисиц). Близ Бакуриани – разработка андезита.
Сегодняшний Бакуриани не был похож на горный курорт. Может быть, туда приезжают зимой. Сейчас вокруг было пыльно, жарко, пахло сельским хозяйством, туристов не было видно. И впрямь: если в советские годы Грузию посещало (по официальным данным) три миллиона туристов ежегодно, сейчас число их упало в триста раз – до десяти тысяч. Кстати, многие гостиницы и пансионаты Закавказья, опустевшие было в начале девяностых годов, сейчас заселены многочисленными беженцами, которые проживают в них: там абхазские, там осетинские, там карабахские…
Водитель денег не требовал, но его водительское мастерство хотелось как-то вознаградить. С большим удовольствием я вручил ему, от имени нас четверых, 50 тетри (грузинских копеек) металлическими монетками. Водитель не огорчился.
Оставалось всего пятьдесят километров до Ахалкалаки… Ой! что это?!!
* * *
Эта уходящая вперед и немного вверх коричневая неровная полоса, похожая на вскопанные грядки, была трассою на Ахалкалаки. Человек десять местных жителей сидели рядом, у шланга, из которого текла вода, угощаясь этой водой и ожидая какую-нибудь машину.
– Скажите, эта дорога на Ахалкалаки?!
– Да, эта. А вам куда?
О неожиданность! И мы сели среди местных жителей, отвечая на главный вопрос «Какой нации?» и спрашивая о различном.
* * *
Сколько нам удавалось общаться с жителями Кавказа, при знакомстве одним из первых был вопрос:
– Какой нации?
Молодые и пожилые, в городах и деревнях, водители грузовиков и продавцы арбузов, в Грузии, в Армении, в Карабахе, увидев незнакомых людей, первым делом интересовались:
– Какой нации?
Мы готовы были предположить, что это традиционное кавказское приветствие:
– Коконаци!
Ответ «русский» является вполне удовлетворительным ответом. Однако почти нигде меня не принимали за такового. В Москве меня называли азербайджанцем, в Иране курдистанцем, на Кавказе всячески, а однажды в Питере верх подозрительности был высказан следующим образом:
– Вы позорите и нашу страну, и свою страну!
* * *
Долго ли, коротко ли – скорее, чем мы могли теперь ожидать, – появился грузовик с кузовом, закрытым брезентом.
– Здравствуйте! Можно с вами в сторону Ахалкалаки?
– Забито все, не поместитесь!
– Поместимся, попробуем!
И автостопщики из Москвы, а с ними и местные жители, полезли в кузов. В кузове находились дрова. Это были плоские чурбаны диаметром 50—90 сантиметров и они занимали почти все внутреннее пространство кузова. В щелях же и просветах между этими дровами и кузовом разместилось тринадцать человек, наши четыре рюкзака, ржавая двуручная пила, косы, топоры и прочие предметы. И мы поехали.
Дорога на Ахалкалаки сначала идет по лесной зоне и имеет ширину в одну машину. Так как встречных машин нет, этакая однопутность никого не беспокоит. Дорога идет все в гору, и наверху уже никакого леса нет, только коричневые горы, поросшие жухлой травой. Туда, наверх, в горные села Грузии, и везли дрова на продажу.
Дорога была ужасной. Дрова и пассажиры мотались вправо-влево. Тридцать километров ехали полных три часа. Периодически дрова пытались нас задавить, но мы яростно сопротивлялись. Из-под колес через открытый задник кузова внутрь летела пыль.
Поднялись на перевал. Вверх уходили проволоки канатной дороги. Здесь находилась воинская часть, как объяснили местные жители, и по этой дороге когда-то доставляли грузы. Сейчас солдат убрали, канатка уже несколько лет не работает. Леса вокруг уже нет; по сторонам дороги – желто-коричневые горы.
С перевала вниз пошли чуть-чуть быстрее. Но заносило нас изрядно. «Водитель – ас!» – дивились пассажиры. Так, спустя три часа, мы и проехали эти тридцать километров и прибыли в небольшое село, находящееся на озере Табацкури, окруженном горами.
Горная Грузия
Озеро Табацкури
* * *
Если кто-нибудь из вас, читатели, попадет когда-нибудь в Грузию, не стремитесь, увлеченные скоростным автостопом, проскочить ее за малое время. Сверните с оживленной магистрали и отправьтесь в горные местности. Крутые дороги и перевалы, низкая скорость, малое количество машин и некомфортабельные условия езды в них – поистине, покажутся вам небольшой платой за роскошные горные пейзажи и прекрасное отношение местных жителей.
Вокруг было тихо и спокойно. Машина с дровами, сильно пыля, скрылась из виду. Посреди озера был небольшой остров. На лодке двигался какой-то человек – наверное, рыбак. Невдалеке дети перегоняли куда-то корову. Наступал вечер.