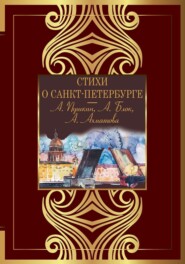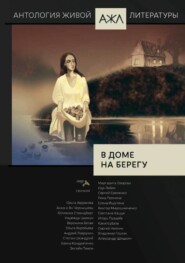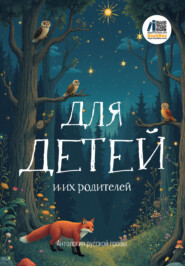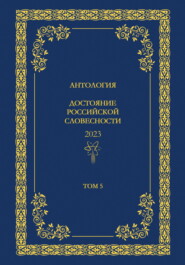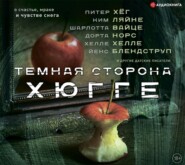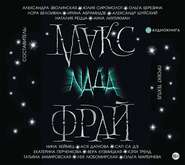По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Современная фантастика
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И вот по избе пробежал шёпот:
– Он пришёл.
Поэт ощутил чьё-то горячее дыхание в затылок. Зловонное. Страшное. Пушкин в ужасе оглянулся и увидел давешнего фельдъегеря. Только вместо лица – маска волка.
Гость заорал:
– Как ты смел прийти сюда, самозванец?!
Чудища в комнате зарычали, зашипели, завыли, засопели, зачавкали, заскрипели, заблажили и ринулись к поэту. Тот потянулся к маске офицера и сорвал её. Тяжёлые веки и пустые глазницы под ними – вот что он успел увидеть, прежде чем его растерзала смердящая бесовская толпа.
* * *
Пушкин проснулся, поднял голову и обнаружил себя лежащим в кровати. Огляделся – он на почтовой станции. Свечи уже прогорели. Но полная луна освободилась из плена кисельных туч, осветила окрестности. Пушкин выглянул в окно и обнаружил, что во дворе сидит злая взлохмаченная собака чёрного окраса – о, Боже мой! – в подряснике и скуфейке. Или волк? Демон? Волколак! Демон Вассаго! Откуда он знает это имя? По?лно, Саша… Это всего только видение. По?лно? Полно… луние! Вот в чём дело! Где-то в вышине сверкнула молния, и послышался отдалённый раскат грома. И это среди зимы!
Сделалось жутко и тревожно. Пушкин позвонил в колокольчик, вызывая прислугу.
– Хватит шуметь, Александр Сергеевич, домового напугаете! – незнакомец материализовался из лунного света.
– Вы кто?
– Зовут меня Вассаргин Нил Орестович, действительный статский советник.
Александру Сергеевичу показалось, что видел он недавно эти насмешливые лукавые глаза-щёлочки, очень похожие на звериные. Постойте, уж не того ли офицера, с которым в дверях судьба столкнула?
– И да и нет, Александр Сергеевич, – будто угадав мысли Пушкина, заговорил человек, устраиваясь на табурете. – Я – это он, хотя и не совсем. Это всего лишь фантом, которым я могу управлять, меняя форму и содержание. Так уж повелось издревле, хе-хе.
– Вы бес?
– Если угодно. Только представления сии о мироустройстве безнадёжно устарели.
– И всё-таки – кто вы? Ответьте прямо: демон, бес, ангел, посланник Господа?
– Кто я да кто я… Неважно. Скажу одно: я тот, кто помогал сыграть Николо Паганини на одной струне, кто палил костры с еретиками в Толедо, кто знакомил Казанову с дамами, воздействуя на них телепатическими средствами. Зачастую мир умозрительного влияет на реальность больше самой реальности… – произнёс ночной гость жутким голосом.
Даже тараканы перестали шуршать за комодом.
– Сударь, верните рукопись немедленно! Это же вы её похитили?
Вдруг нечистый резко сменил тон на деловой.
– Разумеется. Но хотелось бы равноценного обмена. Скажите, любезный Александр Сергеевич, готовы вы заплатить самой своею жизнью за эту рукопись? Только подумайте хорошо.
– Да… если буду уверен, что допишу роман и стану первым поэтом России.
– Хм, смело! Бьёт вас, мой милый, жизнь, да не учит. Надеюсь, понимаете, с кем имеете дело? Я обладаю очень большими возможностями. Мне дозволено то, что разрешено немногим.
– Понимаю. Только душу продать не могу.
– Не нужна мне ваша бессмертная душа. Но тогда и вам вместо письменного автографа лишь сам текст. А что у нас бонусом? Болдинская осень 1830 года. За минусом комиссионных…
Далее Вассаргин завёл что-то непонятное: о дуэли на Чёрной речке, о пистолетах от Лепажа, проникающем ранении в брюшную полость…
– Итак, поступим следующим образом… Слухи ходят, Александр Сергеевич, о редкой памяти братца вашего. Пусть он рукопись по памяти и восстановит. Неплохая идея?
– Да как же возможно, позвольте? Лев всего один раз и слышал-то, а в рукописи почти шестьсот строк. Как тут запомнить?
– Не унывайте, техническую сторону вопроса беру на себя. Где там братец ваш нынче? На Кавказе? Не мешкайте, письмо ему пишите. На обстоятельства посетуйте, которые не позволили рукопись в Петербург довезти. Глядишь, всё и сладится.
«Демон, на волка похожий, видать, приснился. Но совет неплохой дал», – подумал Пушкин с утра и сел за письмо.
* * *
Лев Пушкин, юнкер Нижегородского драгунского полка, принимающего участие в войне с Персией за влияние в регионе, привечал в доме гостя, назвавшегося Вассаргиным. Тот сразу изложил суть визита. Рассказал о письме, которое должно прийти от Александра, и что именно нужно будет на него ответить.
Нил Орестович чувствовал себя вольно, говорил игриво. Но сменил тон на официальный, едва заметив, что поиск Львом Сергеевичем письменных принадлежностей увенчался успехом.
– К делу! Приступим.
А дальше началось испытание. До самого утра юнкер записывал пятую главу романа «Евгений Онегин», диктуемую гостем с какой-то книжицы.
Ночной посетитель тщательно скрывал от Льва Сергеевича обложку, но один раз неловко дёрнул затёкшей кистью, и Пушкину удалось прочитать. Что-то вроде «Хрестоматия для 9-х клас…».
Там было ещё что-то написано, но юнкер уже ничего не видел, поскольку Вассаргин пригрозил:
– Вот ведь как-с, милостивый государь, я к вам со всей душой, а вы подсматривать – будто мизерабль какой! Придётся хорошенечко вас поучить, батенька мой.
С третьими петухами исчезает лишь литературная нечисть, а действительные тайные советники, пусть и подложные – никогда.
Нил Орестович покрутил головой, временами напоминающей волчью, и спросил:
– Что, Лёвушка, притомились? Но ведь справились! Давайте поглядим, что у нас получилось. Прелестно, право слово, прелестно! И, что характерно, неточности имеются. Оригинальный автограф гения, отличный от первого издания, дорогого стоит. Ах, это бессмертное творчество! Так вы, Лев Сергеевич, как раз о бессмертии со мной потолковать желаете? Так и я не против. Нетленная душа за автограф гения, плюс бессмертие тела – выгодный обмен, не находите?
* * *
«Главной сенсацией торгов аукциона Сотбис стало появление в числе лотов автографа рукописной версии пятой главы романа в стихах «Евгений Онегин», ранее считавшегося безвозвратно утраченным поздней осенью 1827 года на одной из почтовых станций между Москвой и Санкт-Петербургом. Оригинальный текст был позднее восстановлен по памяти братом поэта Львом Сергеевичем Пушкиным.
Владелец лота виконт Leon-Serge Cannon, по слухам, пролежавший длительное время в летаргическом сне, в результате торгов попал в первую сотню богатейших людей королевства, как пишет журнал Forbes. Блогеры обращают внимание на портретное сходство нувориша с младшим братом классика мировой поэзии».
Богатая добыча
1
Пламя костерка сходило на нет, расползаясь по подвяленному жаром мху. Это вам не в тесной печурке биться. Закопчённый по самое не могу рыбацкий чайник совсем простыл, да и оставалось в нём чифиря суточной выдержки не более трёх напёрстков. Самое время возвращаться в избушку и ждать там вертолёта в трудах праведных – затариванием рыбы в ещё пустующие пластиковые бочки. Часа на три работы. А потом появится время предаться блаженному отдыху, когда игра в карты в счёт грядущего аванса позволит не скучать, покуда стоящему в суточном наряде экипажу Ми-8 дадут задание на полёт в нашем районе. Ждать оставалось несколько часов, может быть, сутки, максимум – двое.
Избушка стояла на сухом островке посреди довольно зыбкого, но не топкого болота. Если не знать места, никогда к нему не выйти. Тропинку мы с Коляном и Пашкой помнили наизусть, но это обжившись в таёжном озёрном краю на водоразделе трёх горных рек Приполярного Урала. А прилетев сюда впервые за сезон, приходилось поначалу восстанавливать забытые за зиму навыки следопытов.
Что уж говорить о чужих. Никогда их здесь летом не бывало. Пешком обычному путешественнику не преодолеть без спецсредств серию верховых болот и обрывистых скал-сыпунов. Единственная дорога – по воздуху. Оттого и кумжи тут всегда навалом, и никто не мешает её добывать – ни турист-любитель, ни рыбинспектор-профессионал. Лишь раз в два-три года егерь из национального парка проскочит мимо той самой избы по весне на снегоходе, её не заметив. На том и кончается цивилизация, если не считать наших с парнями экспедиций по рыбу.
– Он пришёл.
Поэт ощутил чьё-то горячее дыхание в затылок. Зловонное. Страшное. Пушкин в ужасе оглянулся и увидел давешнего фельдъегеря. Только вместо лица – маска волка.
Гость заорал:
– Как ты смел прийти сюда, самозванец?!
Чудища в комнате зарычали, зашипели, завыли, засопели, зачавкали, заскрипели, заблажили и ринулись к поэту. Тот потянулся к маске офицера и сорвал её. Тяжёлые веки и пустые глазницы под ними – вот что он успел увидеть, прежде чем его растерзала смердящая бесовская толпа.
* * *
Пушкин проснулся, поднял голову и обнаружил себя лежащим в кровати. Огляделся – он на почтовой станции. Свечи уже прогорели. Но полная луна освободилась из плена кисельных туч, осветила окрестности. Пушкин выглянул в окно и обнаружил, что во дворе сидит злая взлохмаченная собака чёрного окраса – о, Боже мой! – в подряснике и скуфейке. Или волк? Демон? Волколак! Демон Вассаго! Откуда он знает это имя? По?лно, Саша… Это всего только видение. По?лно? Полно… луние! Вот в чём дело! Где-то в вышине сверкнула молния, и послышался отдалённый раскат грома. И это среди зимы!
Сделалось жутко и тревожно. Пушкин позвонил в колокольчик, вызывая прислугу.
– Хватит шуметь, Александр Сергеевич, домового напугаете! – незнакомец материализовался из лунного света.
– Вы кто?
– Зовут меня Вассаргин Нил Орестович, действительный статский советник.
Александру Сергеевичу показалось, что видел он недавно эти насмешливые лукавые глаза-щёлочки, очень похожие на звериные. Постойте, уж не того ли офицера, с которым в дверях судьба столкнула?
– И да и нет, Александр Сергеевич, – будто угадав мысли Пушкина, заговорил человек, устраиваясь на табурете. – Я – это он, хотя и не совсем. Это всего лишь фантом, которым я могу управлять, меняя форму и содержание. Так уж повелось издревле, хе-хе.
– Вы бес?
– Если угодно. Только представления сии о мироустройстве безнадёжно устарели.
– И всё-таки – кто вы? Ответьте прямо: демон, бес, ангел, посланник Господа?
– Кто я да кто я… Неважно. Скажу одно: я тот, кто помогал сыграть Николо Паганини на одной струне, кто палил костры с еретиками в Толедо, кто знакомил Казанову с дамами, воздействуя на них телепатическими средствами. Зачастую мир умозрительного влияет на реальность больше самой реальности… – произнёс ночной гость жутким голосом.
Даже тараканы перестали шуршать за комодом.
– Сударь, верните рукопись немедленно! Это же вы её похитили?
Вдруг нечистый резко сменил тон на деловой.
– Разумеется. Но хотелось бы равноценного обмена. Скажите, любезный Александр Сергеевич, готовы вы заплатить самой своею жизнью за эту рукопись? Только подумайте хорошо.
– Да… если буду уверен, что допишу роман и стану первым поэтом России.
– Хм, смело! Бьёт вас, мой милый, жизнь, да не учит. Надеюсь, понимаете, с кем имеете дело? Я обладаю очень большими возможностями. Мне дозволено то, что разрешено немногим.
– Понимаю. Только душу продать не могу.
– Не нужна мне ваша бессмертная душа. Но тогда и вам вместо письменного автографа лишь сам текст. А что у нас бонусом? Болдинская осень 1830 года. За минусом комиссионных…
Далее Вассаргин завёл что-то непонятное: о дуэли на Чёрной речке, о пистолетах от Лепажа, проникающем ранении в брюшную полость…
– Итак, поступим следующим образом… Слухи ходят, Александр Сергеевич, о редкой памяти братца вашего. Пусть он рукопись по памяти и восстановит. Неплохая идея?
– Да как же возможно, позвольте? Лев всего один раз и слышал-то, а в рукописи почти шестьсот строк. Как тут запомнить?
– Не унывайте, техническую сторону вопроса беру на себя. Где там братец ваш нынче? На Кавказе? Не мешкайте, письмо ему пишите. На обстоятельства посетуйте, которые не позволили рукопись в Петербург довезти. Глядишь, всё и сладится.
«Демон, на волка похожий, видать, приснился. Но совет неплохой дал», – подумал Пушкин с утра и сел за письмо.
* * *
Лев Пушкин, юнкер Нижегородского драгунского полка, принимающего участие в войне с Персией за влияние в регионе, привечал в доме гостя, назвавшегося Вассаргиным. Тот сразу изложил суть визита. Рассказал о письме, которое должно прийти от Александра, и что именно нужно будет на него ответить.
Нил Орестович чувствовал себя вольно, говорил игриво. Но сменил тон на официальный, едва заметив, что поиск Львом Сергеевичем письменных принадлежностей увенчался успехом.
– К делу! Приступим.
А дальше началось испытание. До самого утра юнкер записывал пятую главу романа «Евгений Онегин», диктуемую гостем с какой-то книжицы.
Ночной посетитель тщательно скрывал от Льва Сергеевича обложку, но один раз неловко дёрнул затёкшей кистью, и Пушкину удалось прочитать. Что-то вроде «Хрестоматия для 9-х клас…».
Там было ещё что-то написано, но юнкер уже ничего не видел, поскольку Вассаргин пригрозил:
– Вот ведь как-с, милостивый государь, я к вам со всей душой, а вы подсматривать – будто мизерабль какой! Придётся хорошенечко вас поучить, батенька мой.
С третьими петухами исчезает лишь литературная нечисть, а действительные тайные советники, пусть и подложные – никогда.
Нил Орестович покрутил головой, временами напоминающей волчью, и спросил:
– Что, Лёвушка, притомились? Но ведь справились! Давайте поглядим, что у нас получилось. Прелестно, право слово, прелестно! И, что характерно, неточности имеются. Оригинальный автограф гения, отличный от первого издания, дорогого стоит. Ах, это бессмертное творчество! Так вы, Лев Сергеевич, как раз о бессмертии со мной потолковать желаете? Так и я не против. Нетленная душа за автограф гения, плюс бессмертие тела – выгодный обмен, не находите?
* * *
«Главной сенсацией торгов аукциона Сотбис стало появление в числе лотов автографа рукописной версии пятой главы романа в стихах «Евгений Онегин», ранее считавшегося безвозвратно утраченным поздней осенью 1827 года на одной из почтовых станций между Москвой и Санкт-Петербургом. Оригинальный текст был позднее восстановлен по памяти братом поэта Львом Сергеевичем Пушкиным.
Владелец лота виконт Leon-Serge Cannon, по слухам, пролежавший длительное время в летаргическом сне, в результате торгов попал в первую сотню богатейших людей королевства, как пишет журнал Forbes. Блогеры обращают внимание на портретное сходство нувориша с младшим братом классика мировой поэзии».
Богатая добыча
1
Пламя костерка сходило на нет, расползаясь по подвяленному жаром мху. Это вам не в тесной печурке биться. Закопчённый по самое не могу рыбацкий чайник совсем простыл, да и оставалось в нём чифиря суточной выдержки не более трёх напёрстков. Самое время возвращаться в избушку и ждать там вертолёта в трудах праведных – затариванием рыбы в ещё пустующие пластиковые бочки. Часа на три работы. А потом появится время предаться блаженному отдыху, когда игра в карты в счёт грядущего аванса позволит не скучать, покуда стоящему в суточном наряде экипажу Ми-8 дадут задание на полёт в нашем районе. Ждать оставалось несколько часов, может быть, сутки, максимум – двое.
Избушка стояла на сухом островке посреди довольно зыбкого, но не топкого болота. Если не знать места, никогда к нему не выйти. Тропинку мы с Коляном и Пашкой помнили наизусть, но это обжившись в таёжном озёрном краю на водоразделе трёх горных рек Приполярного Урала. А прилетев сюда впервые за сезон, приходилось поначалу восстанавливать забытые за зиму навыки следопытов.
Что уж говорить о чужих. Никогда их здесь летом не бывало. Пешком обычному путешественнику не преодолеть без спецсредств серию верховых болот и обрывистых скал-сыпунов. Единственная дорога – по воздуху. Оттого и кумжи тут всегда навалом, и никто не мешает её добывать – ни турист-любитель, ни рыбинспектор-профессионал. Лишь раз в два-три года егерь из национального парка проскочит мимо той самой избы по весне на снегоходе, её не заметив. На том и кончается цивилизация, если не считать наших с парнями экспедиций по рыбу.