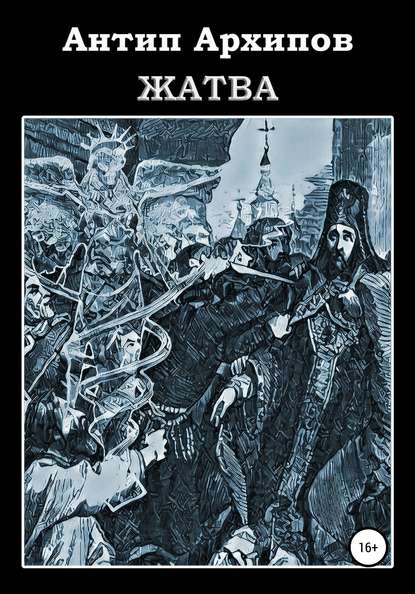По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Жатва
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ладно, ступай! – махнул рукой Устин Гордеич. – Сам доложу.
Пятидесятник ушел.
Старший подьячий наскоро умылся, съел пряженого мяса, запил квасом, оделся и, не простившись с женой, вышел из дому.
Резвый ахалтекинец в полчаса домчал его до Кремля. Время было ранним. Великий город еще спал, лишь на крестцах улиц уже копошились калики и юроды, роясь в кучах отбросов, расставляли свои лотки торговцы, да на церковных папертях собирались нищие, дабы к заутрене занять лучшее для подаяния место.
На взгорье у покровского собора Устин Гордеич, натянул поводья и остановил коня. Обернувшись, посмотрел назад на Москву-реку, что тянулась серой лентой за черными крышами Зарядья. Позади нее, насколь хватало глаз, раскинулись слободы да посады, окруженные земляным валом. А еще далее, широкой, алой полосой поднималось над городом летнее Солнце, готовое обогреть своими лучами всех без разбору: богатых и нищих, младых и старых, добрых и злых.
У моста, ведшего к бывшим Фроловским, ныне Спасским вратам соскочил Устин Гордеич наземь. Никому, окромя государя, не дозволено въезжать в Кремль верхами.
Под круглой аркой подьячий стянул с головы шапку и перекрестился на темный лик Спасителя, молча взирающего на него своим проникновенным взглядом.
К высокой избе Стрелецкого приказа подошел, ведя коня в поводу. Привязав поводья к коновязи, обернулся на колокольню Ивана Великого и снова осенил себя крестным знамением. Взбежал по ступеням, толкнул тяжелую дверь, вошел.
__________
Дьяк «в государевом имени» Дементий Минич Башмаков в объяровом опашне сидел за высоким столом и длинным, гусиным пером быстро писал в толстой книге.
Дьякова келья была безоконной, но светлой. Несколько толстых свечей стояли по трем углам, погруженные в заплывшие воском шандалы. В четвертом углу теплилась лампадка, освещая Нерукотворного Спаса.
Почуяв шаги, дьяк поднял голову и взглянул на вошедшего. Был он уже не молод, почти сорок годов. Коротко остриженные волосы серебрились сединой, борода и усы, напротив – были чернее смолы. Этой зимой схоронил он умершую от горячки жену, очень по ней тосковал, да чтобы забыть свое горе, домой почти не ходил, все больше в приказе сиживал.
– Устин? Ну здравствуй, отчего так рано явился? – спросил Дементий Минич.
– Здравствуй, дьяче, – поклонился Устин Гордеич и перекрестился на Спаса. – Ведомо ль тебе, что патриархов дьяк забрал из нашего поруба колдуна Филиппа?
Государев дьяк коротко кивнул:
– Ведомо. Я сам приказал его отдать.
Устин Гордеич удивился:
– Но пошто? Людишки наши полегли, а заслуга патриаршему приказу достанет?
– Ты, Устин, вчера домой ушел, а ко мне из Иноземского приказа ярыжка прибежал с грамотой. Требовал того фрязина отпустить. Шибко они боятся с фрязским королем поругаться. Государь ноне под Смоленском стоит, гонца до него слать долго. А Святейший Патриарх – тут на Москве, да вместо царя им же самим блюсти державу ставлен. И хотя нелюб мне Никон, но решил я меж двух зол наименьшее выбрать.
– Умно, дьяче. Верно, Патриарх Фильку не выдаст…
– Не выдаст, – уверенно сказал государев дьяк. – Иван, забирая фрязина поведал, что Святейший велел немедля судилище устроить. Радеет, чтобы Иноземский приказ государю нажаловаться не успел бы. А государь ноне на одной войне, и во избежание другой может помаслить фрязскому королю, да колдуна отпустить. Так, что ныне будет над тем фрязином суд.
– Добро, – произнес Устин Гордеич. – Дозволишь, дьяче, и мне на судилище быть?
– На что тебе?
– Желаю посмотреть, как сучий сын страдать будет.
Дементий Минич усмехнулся.
– Ладно. Начертаю для дьяка Ивана, чтоб допустил тебя до суда. Только смотри зорче, да чуй острее, после мне перескажешь, уразумел?
– Уразумел. Спасибо, дьяче, – Устин Гордеич снова поклонился.
***
Ну вот и все, в Руане мне больше нечего было делать. То, зачем я приехал, лежало в притороченной к седлу дорожной сумке. Теперь можно двигаться дальше.
А дальше, я намеривался направиться в столицу Московии, чтобы приступить к основному этапу своей работы. Но до этого, мне пришлось заехать в Вильно, где меня ожидал шляхтич Романовский, с небольшим обозом в несколько груженых разнообразным товаром телег и десятком, переодетых слугами, воинов. В Московию я намеривался въехать под видом французского купца, чтобы, не вызывая подозрений у тамошнего начальства, устроиться как можно ближе к самому сердцу страны восточных варваров – к Кремлю, где стоит царский дворец.
На всю дорогу ушел месяц, и вот, в начале июня мой обоз въехал в грязный, несуразно организованный город, населенный преимущественно оборванцами и вооруженными примитивным оружием солдатами-streltsami.
Впервые проезжая по тесным, изредка мощеным досками улочкам столицы русского царства, я удивлялся тому, как все здесь не похоже на привычную мне Европу.
Москва, с ее разбросанными во все стороны петляющими как им вздумается улицами, скорее походила на большой азиатский город, отличаясь от них лишь тем, что здесь все было деревянным и серым. Исключения составляли церкви, которые русские строили либо из белого камня, либо из красного кирпича и которых здесь было невообразимо много.
«Это хорошо», подумал я. Если московиты так религиозны, значит у них не развита научная мысль, как когда-то было и у нас в Европе, когда костры инквизиции не давали развиваться светским наукам, и прежде всего медицине, полагая ее колдовством».
И действительно – пока ехал по Москве, не встретил ни одной лекарской лавки, что вселяло в меня надежду на успех моего дела.
Записавшись в Торговой палате французским купцом Филлипом де Маниаком, я узнал у местного чиновника, где можно снять помещение поближе к Кремлю, объяснив свое желание тем, что мой товар дорогой, по карману лишь очень обеспеченным покупателям. Мне предложили несколько вариантов из которых я выбрал тот, который больше всего подходил для моих целей – в Kitay Gorod’е, на перекрестке, рядом с торговыми рядами. Прямо из окон снятой мной лавки была видна зубчатая стена кремлевской крепости.
Вот теперь все было готово для того, что приступить к последнему этапу моей работы.
***
В пытошной комнате Судного приказа, которая находилась в глубоком подвале патриарших палат, было темно, душно, пахло затухшей кровью, кислой блевотиной и опрахтелым человечьим навозом – всем тем, из чего слеплен, созданный по образу и подобию Божию человек.
Поймав себя на этой мысли, Устин Гордеич тут же недовольно покачал головой, укорив себя за богохульство. Нет, не только из мяса и крови сделан человек, но и из духа святого, что живет в каждом из нас. А дух этот и есть – подобие Божие.
Отерев взмокший от испарины лоб рукавом кафтана, он взглянул на сидящего за столом тощего человека в черной скуфье на безволосой голове, и такой же черной, поношенной рясе. Это и был главный доверенный патриарху дьяк Иван Корнильевич Шушерин.
Кроме них двоих в комнате был толмач, да готовил дыбу кат Тараска в расстегнутой бордовой рубахе и засученными до локтей рукавами. Шлепая босыми ногами по гниющим лужам, он суетился подле подвешенного к матице колеса.
– Живее, Тараска, живее, – скрипучим голосом подгонял его дьяк Иван. – Скоро уж баальника доставят, а ты воно все возишься.
– Я, отец дьяче, не вожусь. Я ремень ужо сменил, сейчас маслом капну и готово. Баальника как милаго потяну, все исскажет…
Палач поднес к колесу бутыль и тонкой струйкой принялся лить темную жидкость на колесо.
За дверью раздались шаги.
– Ведут, – молвил дьяк. – Готово, Тараска?
– Усе, – кат заткнул бутыль и отставил ее в угол.
Тяжелую дверь толкнули и на пороге показались двое дюжих стрельцов, держащих в руках завернутый в рогожу куль. Протащив куль по полу к свисающей с потолка веревке, они взметнули его вверх, а подскочивший Тараска быстрым движением набросил на торчавшие из-под рогожи заломленные руки, петлю.
– Бросай! – крикнул палач. Стрельцы отпустили куль и тот под своей тяжестью рухнул вниз, однако до пола не достал, рванулся и задергался, издавая смешанный со сдавленным мычанием хруст вырываемых суставов.