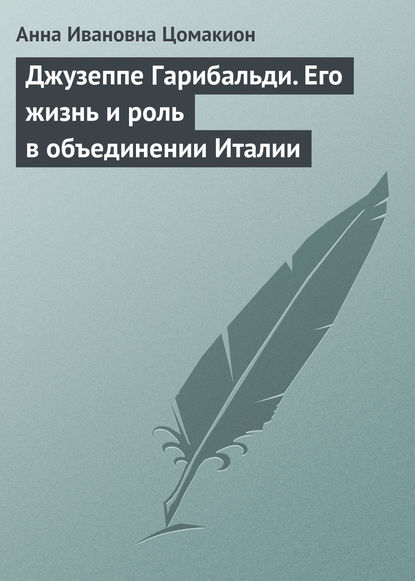По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Джузеппе Гарибальди. Его жизнь и роль в объединении Италии
Автор
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
“Что такое Гарибальди? – спрашивал он. – Человек, ничего более. Но человек в самом высоком смысле этого слова. Человек свободы, человек человечности. Vir, как назвал бы его соотечественник Вергилий. Есть у него армия? Нет. Только горсть волонтеров. Боевые запасы? Нет их. Порох? Несколько бочек. Орудия? Взятые у неприятеля. В чем его сила? Что доставляет ему победу? Что стоит за него? Душа народов”.
Иначе относились, на первый взгляд, к успехам Гарибальди в Турине. Вскоре появился изданный Кавуром циркуляр, которым воспрещалась деятельность всех комитетов, созданных для вербовки волонтеров. С этих пор все желавшие прийти на помощь Гарибальди должны были отправляться в Сицилию поодиночке и с соблюдением строгой тайны. Тем не менее, в середине августа в армии Гарибальди насчитывалось уже 16 с половиной тысяч солдат и офицеров. В этом случае, как и всегда, Кавур оставался верен своей политике; циркуляр, так резко выражавший порицание экспедиции, был издан лишь с целью отвести глаза кому следует. В сущности же министр не только не препятствовал, но даже много содействовал делу гарибальдийцев различными тайными распоряжениями.
В середине июня Гарибальди с частью волонтеров и полевой батареей отправился морем в Милаццо на помощь Медичи, осадившему город и оттесненному затем генералом Боско. Высадившись в Лимери, на близком расстоянии от Милаццо, Гарибальди приготовился к немедленной атаке. Заметив, что успех начинает клониться в сторону противника, он спешит к морю, пробирается на свое судно, сам наводит орудие на правое крыло неаполитанцев и, таким образом, отвлекает от своего центра наиболее опасные для него крепостные орудия. Убедившись, что хитрость его удалась, он снова возвращается на прежнее место, чтобы за неимением лошади, убитой под ним, сражаться пешком в рядах своих храбрых волонтеров.
Наконец 23 июля на рейде показались несколько судов, и между ними – неаполитанский паровой фрегат с поднятым на фок-мачте парламентерским флагом. Крепость Милаццо со всеми боевыми запасами, с провиантом и всем инвентарем была передана Гарибальди; неаполитанское войско должно было очистить крепость и уплыть на судах, стоявших на рейде. Кроме того, было обещано прекращение на два месяца враждебных действий против гарибальдийцев как в Сицилии, так и во всем Неаполитанском королевстве.
Вскоре по очищении Милаццо сдалась и Мессина. Сдача последней произошла без всякого боя, по конвенции, заключенной с комендантом. В силу той же конвенции, заключенной с комендантом Мессины, Гарибальди предоставлена была и цитадель Сиракузы. С этих пор Сицилия могла себя считать окончательно избавленной от гнета неаполитанского тирана. Здесь уже все было сделано, и театр военных действий предстояло перенести в Калабрию.
28 июля Гарибальди отправился к мессинскому маяку, чтобы распорядиться приготовлениями к переправе на материк. Отправляясь 5 мая во главе “тысячи” в Сицилию, Гарибальди имел в виду снарядить еще другую экспедицию, в Папскую область. Таким образом он думал сразу покончить с владениями папы и короля обеих Сицилии. Но как ни практичен казался этот план его автору, он, однако, не совпадал с видами будущего короля Италии и окружавших его политиков. Думая остановить победное шествие народного героя, Виктор Эммануил отправил к нему письмо, в котором в дружеских выражениях советовал ему отказаться от высадки на континент. Письмо короля заканчивалось знаменательными словами: “Следуйте моему совету, генерал, вы увидите, как он полезен для Италии, которой вы дадите возможность еще более подняться во мнении Европы, показав, что, умея побеждать, она умеет благоразумно пользоваться плодами своих побед”. Такого же мнения был и Кавур. Под давлением французского императора, настоятельно требовавшего от правительств Пьемонта, Неаполя и Англии, чтобы положен был предел успехам Гарибальди и приняты меры против распространения восстания на материке, он решил помешать готовившейся экспедиции в Папскую область.
Глубоко огорченный недоброжелательным отношением к нему со стороны правительства, Гарибальди, однако, не склонился под гнетом неблагоприятных условий и твердо решил, вопреки всем препятствиям, собственными усилиями достигнуть намеченной цели. На письмо Виктора Эммануила он отвечал, что на этот раз, к сожалению, должен оказать ему неповиновение: “Народ зовет меня, – писал он, – и я нарушу свой долг, если не откликнусь на его призыв”.
Глава VI. Гарибальди в Неаполе
План высадки. – Фаро. – Гарибальдийское войско, его внешний вид, вооружение и внутренняя организация. – Взятие Реджо. – Поход на Неаполь. – Письмо Франциска II. – Борьба партий в Неаполе. – Отъезд короля в Капую. – Въезд Гарибальди в Неаполь. – Народные овации. – Первые распоряжения диктатора. – Мадзини. – Падре Гавацци. – Празднество в Санта-Фе. – Сражение при Волтурно. – Появление пьемонтских войск в Абруццах. – Несправедливые обвинения. – Свидание в Теано. – Капитуляция Капуи. – Плебисцит. – Въезд короля в Неаполь. – Принятие власти Виктором Эммануилом. – Отъезд Гарибальди. – Прощание с волонтерами. – Прокламация
Каждое утро, вставая, по своему обыкновению, на заре, Гарибальди отправлялся на Фаро (мессинский маяк). Здесь, взобравшись на башню маяка, он обдумывал подробности переправы на материк. Гарибальди любил эти утренние прогулки, они давали ему несколько часов покоя и уединения. Всякий раз, когда у него назревал план какого-нибудь важного предприятия, он выбирал для своих прогулок где-нибудь по соседству возвышенное место с широким горизонтом и живописным видом и здесь, в тиши уединения, обдумывал подробности предстоящего дела. Но поездки на Фаро имели для Гарибальди еще и другое значение: в его присутствии быстрее подвигались подготовительные работы, имевшие целью облегчить переправу на материк.
Почти каждый день сюда приставали суда с войсками и военным снаряжением. Оригинальную и пеструю картину представляли эти войска благодаря живописному разнообразию своих костюмов. Из-за поспешности, с которой производилось их обмундирование, не мог быть принят никакой общий образец. По большей части в этом вопросе предоставлен был полный простор личной фантазии непосредственного начальника. Здесь смешивались красные, белые, синие кепи, круглые шляпы a la Гарибальди; серые и красные, фланелевые, бумажные и полотняные блузы. Костюм самого Гарибальди состоял из красной рубашки, голубовато-серых брюк, небрежно повязанного шейного платка, венгерской шапочки и белого пончо. В вооружении войска замечалась та же пестрота, что и в обмундировке. По образчикам различных эпох и различных систем можно было проследить всю историю огнестрельного дела, начиная от ружей с кремневым замком, переделанным в ударный, и кончая энфильдскими швейцарскими винтовками.
Не меньшей оригинальностью отличалась и внутренняя организация войска. Здесь не было полных и правильных списков и перекличек, присягу Гарибальди решительно отвергал; внешние меры для поддержания порядка и дисциплины вполне отсутствовали. Еще свободнее были офицеры: каждый находился где хотел, и некоторые роты в самые решительные и трудные минуты не знали, где их предводители, и не заботились об этом. Состав войска был самый разнообразный: адвокаты, медики, студенты, купцы, ремесленники оставили свои занятия и взялись за оружие. Так называемые “ученые должности”, то есть должности горнистов, барабанщиков, трубачей и фурьеров были почти все заняты старыми пьемонтскими солдатами, отслужившими свой срок или дезертировавшими из рядов регулярной армии. Но вообще старых солдат было мало, в роте едва можно было найти до двадцати человек с усами и бородой; остальные были юноши часто не старше четырнадцати лет, а многие казались на вид двенадцатилетними детьми. И эти-то более всего отличались в минуты опасности. Герои 1848 года и других войн за независимость занимали старшие офицерские должности. Некоторые из них, отклоняя всякие почести, поступали рядовыми в генуэзские карабинеры. Войско это, составленное из отборных людей, большею частью из первой тысячи, пользовалось особым благорасположением Гарибальди за те подвиги отчаянной храбрости и самопожертвования, которыми оно не раз отличалось. Как и все партизаны, Гарибальди был беден кавалерией: главную силу волонтеров составляли штыки.
Вся эта разношерстная, недисциплинированная толпа сдерживалась единственно нравственным обаянием вождя и тем энтузиазмом, который он так умел поддерживать среди своих соратников. Стойко и терпеливо переносили они всевозможные лишения; они не роптали, когда при недостатке денежных средств наполовину сокращалось следуемое им жалованье; их патриотизм не останавливался ни перед какой жертвою. Понятно, что при таких условиях не было надобности в дисциплинарных взысканиях. Единственное наказание, допускаемое Гарибальди, – расстрел немедленный и беспощадный – применялось крайне редко. Военных советов не существовало, но каждый, имевший что-нибудь сообщить, заметить или известить о чем-нибудь, мог во всякое время явиться к самому генералу. Все решения исходили от него, и, по большей части, ему одному принадлежала инициатива всякого нового предприятия. Обдумав новый план, Гарибальди не знал колебании. Когда наступало время приступить к делу, он будто просыпался от сна; приказ следовал за приказом, и они давались с твердостью, которая показывала, что решение неотменимо. Но приказ всегда заключал в себе лишь общую идею; подробности предоставлялись исполнителю.
В битве Гарибальди являлся не столько главнокомандующим, сколько главным помощником в затруднениях. Всегда появляясь в наиболее опасном пункте, он примером своим воодушевлял людей и быстро поправлял дело.
Обыкновенно ласковый и приветливый в отношениях с товарищами, герой не знал пределов своему гневу, когда замечал в ком-нибудь из них недостаток преданности делу, желание уклониться от опасности. Тогда из его уст вырывалось знаменитое “Andate!”[3 - “Уходи!” (um.)], которое могли выносить только горячо любившие его подчиненные. Это “Andate!” заставило однажды посланника Виктора Эммануила, явившегося с неприятным генералу поручением, пятиться назад через всю залу до выходной двери, за которой он исчез, благословляя судьбу, что счастливо отделался. Но достаточно было, чтобы Гарибальди заметил, что обвинение его несправедливо, и тогда не было дружеских слов, не было извинений, которые он не пустил бы в ход, чтобы вознаградить обиженного. Насколько он был ласков и приветлив, видно уже из приема, который оказывали ему крестьянские дети во время его утренних прогулок на Фаро.
На соседних озерах в несколько дней было построено двадцать барж для перевозки лошадей и артиллерии; на мысе были устроены батареи. Все приготовления делались на виду у неаполитанских военных кораблей, крейсировавших на таком близком расстоянии, что с них можно было в подробности разглядеть все, что происходило в Фаро.
Наконец в ночь с 17 на 18 августа Гарибальди переправился на калабрийский берег и немедленно по горам направился к Реджо. Взятие города было немыслимо для кого угодно, но не для Гарибальди. Несмотря на инертность населения, напуганного близким соседством неаполитанских судов, 22 августа после девятичасового боя на крепости был выброшен парламентский флаг, и город сдался. После своей высадки Гарибальди явился в Неаполь ровно через столько дней, сколько нужно употребить для этого пути армии, идущей форсированным маршем. Все время похода он преследовал неаполитанские войска, посланные, чтобы преградить ему путь в столицу. Несмотря на свое численное превосходство, последние уступали пункт за пунктом, так что поход Гарибальди в Неаполь имел вид триумфального шествия.
Вскоре Гарибальди получил от Франциска II письмо, в котором король предлагал ему мир на почетных условиях. Франциск соглашался признать независимость Сицилии и уступал диктатору все свои владения по ту сторону пролива, причем обещал уплатить 12 миллионов контрибуции и предоставлял свой флот и пятьдесят тысяч солдат для войны с Австрией и для помощи в освобождении всей итальянской территории. На это письмо Гарибальди не ответил ни слова.
В столице обеих Сицилии не было единодушия, там образовались четыре враждебные между собою партии: Гарибальди, Кавура, мюратистов и бурбонская. Колебания в политике короля, постоянная смена либеральных начинаний доведенными до крайности репрессиями создали массу недовольных. Относительный порядок удерживался лишь благодаря популярности полицейского префекта Либорио-Романо. Последний убеждал короля уступить общему настроению и отказаться от престола. Франциск, решивший было защищать свою корону до последней крайности и идти навстречу Гарибальди, оставил теперь столицу и заперся в Капуе.
7 сентября Либорио-Романо получил от Гарибальди телеграмму, в которой генерал извещал его о своем намерении вступить в Неаполь. На эту телеграмму Либорио-Романо отвечал, что Неаполь с нетерпением ждет приезда героя, чтобы встретить в нем искупителя Италии и предать в его руки судьбу государства. В тот же день, в 10 часов утра, в сопровождении семи из своих офицеров, депутации, присланной к нему из Неаполя, и нескольких офицеров национальной гвардии, Гарибальди сел на поезд в Салерно. К 11 часам он прибыл на неаполитанский вокзал, где был встречен министрами, которые поднесли ему приветственный адрес от имени жителей города. Поблагодарив министров “за спасение страны”, Гарибальди один, без конвоя, невооруженный, вступил в столицу обеих Сицилии, не смущаясь тем, что форты еще заняты неприятельскими солдатами, что артиллеристы в амбразурах крепости и на площадях с фитилями в руках стоят на своих постах возле орудий, что улицы запружены грозными отрядами королевских войск. Когда экипаж поравнялся с батареей между зданием арсенала и дворцовой площадью, солдаты, находившиеся при ней, приготовились было встретить его залпом из своих орудий, но Гарибальди поднялся в экипаже и в величавом спокойствии, скрестив руки на груди, обратился к ним с одною из своих неотразимых улыбок. Точно очарованные действием обаятельной личности героя, солдаты немедленно, как бы по команде, отдали ему честь. С этой минуты единство Италии стало совершившимся фактом.
Первые минуты появления в городе Гарибальди, встреченного на вокзале многочисленной толпой из людей всех общественных классов, прошли относительно бесшумно; но как только экипажи въехали на дворцовую площадь и поравнялись с дворцом Форестьера, в котором должен был остановиться диктатор, весь город сразу охватило общее ликование. В течение десяти часов народ стоял под окнами дворца, заставляя героя то и дело выходить на балкон. Когда же появился Фра-Панталео и сказал, что генерал устал и лег спать, шум и крики на улице сменились мертвой тишиной. Толпа на цыпочках разошлась по городу, останавливая крикунов даже в дальних кварталах тихим шепотом: “Спит, он спит!”
Тотчас же по выслушиванию адресов в королевстве был обнародован сардинский статут; в заголовке всех административных актов приказано было писать слова: “Виктор Эммануил, король Италии”. Все чиновники, не последовавшие за Франциском II, сохранили свои должности. Всем политическим арестантам была объявлена свобода; тюремные порядки подверглись реформированию. Некоторым семьям, особенно пострадавшим от преследования бурбонского правительства, назначены пенсии. Форт Сент-Эльмо, грозивший городу бомбардировкой, был разрушен. Земли, принадлежавшие бурбонскому дому, объявлены национальной собственностью. Все иезуитские корпорации изгонялись из королевства.
Население столицы выражало свой энтузиазм шумными празднествами, иллюминациями, фейерверками и уличными концертами. Каждое утро громадная толпа собиралась вокруг эстрады, с которой развивал перед публикой свои политические теории близко стоявший к Гарибальди падре Гавацци, уже в 1848 году в стенах Колизея произносивший огненные речи в пользу восстания в Риме. Маленький, черноволосый, с лицом, желтым, как померанец, с горящими глазами, в красной гарибальдийской рубашке под распахнутой сутаной, с пистолетами за поясом, он своим грубым, но в высшей степени эффектным и убедительным красноречием производил чарующее действие на толпу. Молодежь всех общественных классов наперебой записывалась в ряды освободителей. Франциск II стянул свои силы у берега Волтурно. Гарибальди основал свою главную квартиру в Казерте; в войске его насчитывалось 15 тыс. человек. Каждый день происходили небольшие стычки на аванпостах. Неаполитанцы готовились к атаке, которая началась в ночь на первое октября. Войско Франциска II было разделено на четыре колонны, из которых одною предводительствовал сам король. Сражение продолжалось от четырех часов утра до шести вечера. К этому времени гарибальдийцы окончательно разбили последнюю неприятельскую колонну, которая вынуждена была быстро отступить к Кояццо. Гарибальди с полным правом мог гордиться своей победой. Он немедленно телеграфировал в Неаполь: “Мы победили на всей линии”. В битве при Волтурно неаполитанцы потеряли четыре тысячи человек; кроме того, на другой день сдался не участвовавший в битве четырехтысячный отряд.
Теперь предстояла осада Капуи; в гарибальдийском лагере начались приготовления. Но в Турине было решено иначе. При громадных ресурсах, доставляемых королевством обеих Сицилии, при обаянии, которое окружало героя Милаццо, Мессины, Реджо и Волтурно, завершение задачи Гарибальди представлялось шуточным делом. За Неаполем должен был последовать Рим – Гарибальди открыто заявлял об этом; за Римом – Венеция. Этого-то и боялись в Турине. Кавур страшился той ответственности перед Европой, которая всей тяжестью легла бы на Пьемонт, если бы дело восстания завершилось борьбой с Австрией на севере полуострова. При таком положении вещей пьемонтское министерство решило поставить Гарибальди непреодолимую преграду к дальнейшим действиям. В то время, как диктатор собирался уже отрезать королю Франциску путь в Гаэту, пьемонтские войска вступили в Абруццы. Узнав об этом, Гарибальди не мог в первую минуту победить своего негодования и приготовил депешу, в которой приказывал встретить пьемонтцев ружейным залпом. Но с ними был Виктор Эммануил, предмет благоговейного культа для Гарибальди, – и депеша не была послана. 11 октября Гарибальди встретился с Виктором Эммануилом в Теано. 30 октября началась бомбардировка Капуи; 1 ноября Франциск II удалился в Гаэту; 2 Капуя капитулировала. Первою вошла в нее бригада волонтеров, за ней пьемонтская бригада. На этом кончилась кампания так называемой южной армии. В осаде Гаэты она не принимала никакого участия.
Между тем, 15 октября Гарибальди, предупредив решение плебисцита, послал королю копию с только что обнародованного им декрета.
“Обе Сицилии, – значилось в декрете, – обязанные своим выкупом крови, пролитой итальянцами, и свободно решившие назначить меня диктатором, отныне будут находиться, как составная часть единой и нераздельной Италии, под скипетром Виктора Эммануила и его потомков. Как только прибудет король, я передам ему диктатуру, предоставленную мне нацией.
Выполнение декрета этого поручается продиктаторам”.
Виктор Эммануил долго медлил со своим въездом в Неаполь. Если были причины, заставлявшие его спешить, то были и другие, вынуждавшие его медлить. Надобно было оправдать плебисцитом появление новой власти взамен прежней, надобно было, чтобы вступающая в город регулярная армия предварительно отличилась каким-нибудь подвигом, обеспечивающим ей сочувствие населения. С этой целью честь взятия Капуи была предоставлена пьемонтской армии. После сдачи города Виктор Эммануил мог совершить свой триумфальный въезд в столицу.
21 октября Гарибальди созвал граждан для плебисцита. Большинством в 1750 тысяч голосов против 11 тысяч Виктор Эммануил был провозглашен королем Неаполя. 6 ноября король въехал в город в экипаже рядом с диктатором. Сначала было решено, что армия волонтеров выстроится шпалерами по обе стороны пути; но по распоряжению свыше это решение было отменено, и ни одна красная блуза не бросилась в глаза королю в продолжение всей дороги.
8 ноября в тронной зале происходило торжество принятия власти Виктором Эммануилом. Король был окружен блестящим штабом. Гарибальди во главе своего правительства поднес ему плебисцит – выражение воли неаполитанского народа. С этого момента оканчивалось диктаторство Гарибальди; он сходил в разряд простых, обыкновенных подданных Виктора Эммануила; он уходил со сцены.
Гарибальди думали заплатить за его заслуги обыкновенными наградами. Ему предлагали звание маршала, один из королевских дворцов для постоянного жительства, богатое поместье из государственных земель. На все эти предложения он отвечал решительным отказом. Такой категорический отказ был вызван не простым бескорыстием, которым в высокой степени отличался герой, но другими соображениями, так сказать, высшего порядка. Приняв награду из рук короля, Гарибальди мог связать себя долгом благодарности и утратить свою независимость, равно дорогую для него и для Италии; кроме того, в глубине души он считал себя не вправе принять вознаграждение за свою услугу родине.
Рано утром на следующий день, когда большая часть жителей столицы еще покоилась мирным сном, Гарибальди в сопровождении небольшого числа своих друзей сел на пароход “Вашингтон” и удалился на Капреру. Герой, завоевавший полцарства своему народу, вернулся домой с мешком бобов под мышкой.
Прощаясь со своими волонтерами, он издал прокламацию, из которой мы приведем здесь лишь несколько заключительных строк:
“Молодые волонтеры, примите, как последнее заключение десяти битв, прощальное от меня слово. Я произношу это слово с сильным чувством и из глубины моей души. Сегодня я должен удалиться, но только на несколько дней. В день битвы я снова буду с вами, рядом с воинами за итальянскую свободу… Мы вскоре сойдемся и пойдем вместе освобождать наших братьев, находящихся еще под чужеземным владычеством. Мы вскоре сойдемся и пойдем вместе к новым торжествам”.
Глава VII. 1861 – 1866 годы
Комиссия по вопросу об армии волонтеров. – Заседание первого итальянского парламента. – Примирение Гарибальди с Кавуром. – Смерть последнего. – Аспромонте. – Гарибальди в плену. – Возвращение на Капреру. – Поездка в Англию
Деятельность нового правительства выразилась прежде всего в старании предупредить всякую возможность реакции и подавить в корне деятельность крайних партий. С этой целью оно немедленно обратило внимание на армию волонтеров, услуги которой казались ему теперь ненужными. Правительство не могло считать себя гарантированным от всевозможных неожиданностей, пока существовала эта сила, вызванная Гарибальди и способная создать серьезные затруднения для дальнейшей деятельности туринского кабинета. Решено было распустить ее. Всем ее офицерам и солдатам было предоставлено право вернуться домой.
Служба в армии Гарибальди не освобождала от установленной обыкновенной воинской повинности. Затем возник вопрос, должно ли правительство признать чины, розданные Гарибальди. Признательность по отношению к бывшему диктатору и его товарищам, завоевавшим королю многие миллионы новых подданных, требовала утверждения этих чинов. Но в армии Гарибальди было чрезвычайно много полковников и генералов, заслуги которых казались пьемонтцам сомнительными, тем более, что они не обладали специальным военным образованием. Ввиду этих соображений назначена была особая комиссия для решения вопросов о чинах. Такой контроль над действиями Гарибальди не мог не оскорбить его; кроме того, он счел себя обиженным в лице своих волонтеров и воспользовался открытием первого итальянского парламента как первым удобным случаем, чтобы публично высказать правительству свое глубокое негодование.
Сильно волновалось итальянское общество перед выборами в парламент. Было много причин для правительственной партии ожидать падения министерства. Вынужденное удаление Гарибальди на остров Капреру, лишение его диктатуры и замена его в Неаполе и Сицилии людьми, которых ненавидел бывший диктатор и которые благодаря этому стали ненавистны народу, – все эти и многие другие оскорбления, нанесенные туринским кабинетом народному кумиру, возбудили общее негодование в рядах его приверженцев. Но состоявшиеся выборы рассеяли опасения министерства. Правительство получило большинство, превзошедшее все ожидания. Гарибальди был выбран представителем от Неаполя; точно так же вошли в состав парламента его лучшие товарищи, которым нация таким образом пожелала выразить свою признательность и уважение.
Значительная доля участия в этом результате парламентских выборов, без сомнения, принадлежала Гарибальди. Обаяние, производимое в стране одним его именем, было так могущественно, что, если бы он захотел, забыв благоразумие и патриотизм, сделать парламент ареною для своей борьбы с Кавуром и резко поставить вопрос между собой и министром, то вызвал бы серьезные затруднения, с которыми неизвестно как справилась бы Италия. Чувства нации были бы, несомненно, на стороне капрерского отшельника. Но Гарибальди больше всего любил Италию и выше всего ставил ее благо, а потому уклонился от борьбы с министерством на избирательном поприще.
13 февраля последовала, наконец, сдача Гаэты. Убедившись, что всякое сопротивление бесполезно, Франциск II подписал капитуляцию и удалился в Рим, где папа предложил ему гостеприимство. Ровно через месяц сдалась и Мессинская цитадель, до сих пор находившаяся еще во власти бурбонских солдат.
В марте состоялось открытие первого итальянского парламента. Для полного единства Италии недоставало еще присоединения двух областей: Венеция была в руках австрийцев, Рим был занят французскими войсками. О Венеции теперь и думать было нечего: присоединение ее могло состояться только путем войны.
Другое дело Рим; вопрос о нем был теперь предметом общего внимания и сделался главной темою парламентских дебатов. На римском вопросе столкнулись между собою самые противоположные и могущественные интересы, интересы всего католического мира, всех католических держав, вместе взятых и каждой из них в отдельности, интересы Франции, Австрии, Испании, Италии, интересы папы и всего духовенства, интересы Наполеона, Виктора Эммануила, Кавура, Гарибальди, интересы подданных папы и жителей города. Кавур в своей речи категорически высказался в пользу Рима – столицы Италии. Мысль, что без Рима не может устроиться Италия, красною нитью проходила через всю речь министра. Но вместе с тем он решительно отказывался занять “вечный город” вопреки желанию Франции и выражал надежду, что в этом вопросе она со временем уступит общественному мнению. Что же касается папы, он признавал, что только потеря им светской власти и отделение церкви от государства способны создать для папского престола желательную для него свободу. Таким образом, желания министра в принципе совпадали с желаниями народного героя. Цель у них была общая, и расходились они только во взгляде на средства к ее достижению. В то время как Гарибальди, всегда склонный всецело отдаваться чувству, не хотел признать на своем пути никаких преград, Кавур, напротив, все средства своего громадного ума тратил на постепенную и терпеливую работу, устраняя дипломатическим путем те самые препятствия, которые в пылу своего увлечения думал силою сломить Гарибальди.
Расположение духа, в котором находился Гарибальди, глубоко обиженный в лице своих волонтеров, выразилось в ответе его депутации от миланских рабочих.
“С нами поступили дурно, – говорил он, – хотели создать настоящий дуализм между регулярной армией и волонтерами, которые, однако же, как вы знаете, сражались храбро… Но не будем говорить об этом, не станем заниматься этим… к этому сору не следует прикасаться из уважения к самому себе”.
В этой речи он не пожалел резких выражений, чтобы унизить своих противников: министров Виктора Эммануила он называл “лакеями”, их политику – чудовищной, антинациональной, вассальной; говорил, что король “дышит дурным воздухом”. В таком настроении оставил он в начале апреля Капреру и прибыл в Турин. Здесь ревматические боли продержали его несколько дней в постели, и потому он мог явиться в парламент только 18 апреля. День этот начался страшною грозой, которая могла навлечь на Италию бедственные последствия; но в самую решительную минуту Кавур и Гарибальди протянули друг другу руку примирения. Гроза миновала благодаря благоразумию, великодушию и благородству характера с обеих сторон.
За несколько часов до открытия заседания сени, лестницы и коридоры здания были переполнены публикой; на площади перед парламентом и на соседних улицах было необычайное стечение народа. Гарибальдийцы в своих красных рубашках заняли верхние галереи, набитые ими битком. В два часа пополудни, когда все члены заседания заняли свои места и один из секретарей читал отчет предыдущего заседания, раздались громкие крики, возвестившие о прибытии Гарибальди. Генерал вошел в шотландском пледе поверх красной рубашки, опираясь на руку своего друга Макки. Три или четыре минуты продолжались восторженные рукоплескания, прервавшие ход заседания. На лице Гарибальди не было видно следов болезни, которую он недавно перенес; он только заметно постарел; в длинных волосах его прибавилось много седин. Выражение лица было по обыкновению тихое, кроткое, в высшей степени достойное. Народного героя сопровождали друзья его, генералы армии волонтеров. Он занял то же место, что и в прошлом году, на крайней левой. За несколько дней перед тем Гарибальди представил президенту Ратацци проект закона, постановляющего сформирование в стране национальной гвардии, и теперь явился защищать его.
Прения начались речью Риказоли, бывшего правителя Тосканы, требовавшего, чтобы парламент выслушал жалобы волонтеров, судьбу которых, по его мнению, следовало отнести к вопросам первостепенной важности народа. Затем последовало объяснение по этому вопросу министра Фанти, покрытое рукоплесканиями толпы. После нескольких слов, сказанных членами его партии, и ответа на них Фанти, поднялся Гарибальди. Начав сдержанно и умеренно, народный герой постепенно отдался страсти и негодованию. В резких выражениях, не щадя своих противников, отрицал он всякий дуализм между армией короля и волонтерами, доказывал отсутствие в Неаполе анархии, послужившей якобы причиною отнятия у него диктаторской власти, упомянув о той не зажившей еще ране, которую нанес ему министр отчуждением Савойи и Ниццы; напомнил ему, что уступал всякий раз, когда видел, что Италии грозит опасность от их взаимных распрей. “Но, – говорил он, – пусть решит палата и сам Кавур: могу ли я пожать руку тому, кто сделал меня чужеземцем в Италии?” В течение речи Гарибальди президенту несколько раз приходилось призывать его к порядку, прося не оскорблять противников. Несколько раз прерывалась эта речь и негодующими восклицаниями Кавура, которому бросались в лицо несправедливые, незаслуженные обвинения. Шум и волнение возрастали. Президенту пришлось на время прервать заседание. Этим перерывом воспользовались друзья Гарибальди и уговорили его быть сдержаннее и умереннее. Когда возобновилось заседание, волнение Гарибальди улеглось, и он спокойно – в выражениях вполне парламентских – изложил свой взгляд на меры правительства относительно армии волонтеров. “Я явился сюда, – заключил он свою речь, – чтобы защитить мое предложение. Исправьте его, измените, если найдете нужным, но займитесь им: этого требует безопасность страны”.
Умеренная речь Гарибальди произвела благоприятное впечатление; им воспользовался друг его, генерал Биксио, чтобы призвать к примирению раздраженных вождей и их партии. В теплых, задушевных выражениях представил он несогласие, разделившее Кавура и Гарибальди, как результат печального недоразумения, которому пора положить предел. “Я приглашаю графа Кавура, – говорил он, – забыть слова, сказанные генералом Гарибальди”. Во время ответной речи Кавура, когда последний прямо и откровенно назвал причины чисто политического характера, поставившие его в невозможность иначе поступить с армией волонтеров, на стороне которой были все его симпатии, Гарибальди несколько раз порывался подойти к министру и пожать его руку, но всякий раз был останавливаем мадзинистом Цуппети, сидевшим возле него. Впечатлительный до крайности Гарибальди легко поддавался влиянию близко стоявших к нему людей, и иной раз одному из злых гениев, в которых при нем не было недостатка, удавалось заставить его служить интересам партии в ущерб благу Италии, что и произошло в данном случае. После некоторых прений президент прочел два предложения, Гарибальди и Риказоли – по мысли согласное с первым, но менее требовательное и с выражением полного доверия правительству. Выслушав это предложение, Гарибальди взял свое назад.
Многочисленная толпа ожидала у входа конца прений. Когда вышел Кавур, народ приветствовал его рукоплесканиями; но более сильные рукоплескания, более громкие возгласы достались на долю Гарибальди. Шумные манифестации сопровождали его до дома, где он остановился, и долго продолжались перед домом. Народные симпатии явно были на стороне освободителя.
Иначе относились, на первый взгляд, к успехам Гарибальди в Турине. Вскоре появился изданный Кавуром циркуляр, которым воспрещалась деятельность всех комитетов, созданных для вербовки волонтеров. С этих пор все желавшие прийти на помощь Гарибальди должны были отправляться в Сицилию поодиночке и с соблюдением строгой тайны. Тем не менее, в середине августа в армии Гарибальди насчитывалось уже 16 с половиной тысяч солдат и офицеров. В этом случае, как и всегда, Кавур оставался верен своей политике; циркуляр, так резко выражавший порицание экспедиции, был издан лишь с целью отвести глаза кому следует. В сущности же министр не только не препятствовал, но даже много содействовал делу гарибальдийцев различными тайными распоряжениями.
В середине июня Гарибальди с частью волонтеров и полевой батареей отправился морем в Милаццо на помощь Медичи, осадившему город и оттесненному затем генералом Боско. Высадившись в Лимери, на близком расстоянии от Милаццо, Гарибальди приготовился к немедленной атаке. Заметив, что успех начинает клониться в сторону противника, он спешит к морю, пробирается на свое судно, сам наводит орудие на правое крыло неаполитанцев и, таким образом, отвлекает от своего центра наиболее опасные для него крепостные орудия. Убедившись, что хитрость его удалась, он снова возвращается на прежнее место, чтобы за неимением лошади, убитой под ним, сражаться пешком в рядах своих храбрых волонтеров.
Наконец 23 июля на рейде показались несколько судов, и между ними – неаполитанский паровой фрегат с поднятым на фок-мачте парламентерским флагом. Крепость Милаццо со всеми боевыми запасами, с провиантом и всем инвентарем была передана Гарибальди; неаполитанское войско должно было очистить крепость и уплыть на судах, стоявших на рейде. Кроме того, было обещано прекращение на два месяца враждебных действий против гарибальдийцев как в Сицилии, так и во всем Неаполитанском королевстве.
Вскоре по очищении Милаццо сдалась и Мессина. Сдача последней произошла без всякого боя, по конвенции, заключенной с комендантом. В силу той же конвенции, заключенной с комендантом Мессины, Гарибальди предоставлена была и цитадель Сиракузы. С этих пор Сицилия могла себя считать окончательно избавленной от гнета неаполитанского тирана. Здесь уже все было сделано, и театр военных действий предстояло перенести в Калабрию.
28 июля Гарибальди отправился к мессинскому маяку, чтобы распорядиться приготовлениями к переправе на материк. Отправляясь 5 мая во главе “тысячи” в Сицилию, Гарибальди имел в виду снарядить еще другую экспедицию, в Папскую область. Таким образом он думал сразу покончить с владениями папы и короля обеих Сицилии. Но как ни практичен казался этот план его автору, он, однако, не совпадал с видами будущего короля Италии и окружавших его политиков. Думая остановить победное шествие народного героя, Виктор Эммануил отправил к нему письмо, в котором в дружеских выражениях советовал ему отказаться от высадки на континент. Письмо короля заканчивалось знаменательными словами: “Следуйте моему совету, генерал, вы увидите, как он полезен для Италии, которой вы дадите возможность еще более подняться во мнении Европы, показав, что, умея побеждать, она умеет благоразумно пользоваться плодами своих побед”. Такого же мнения был и Кавур. Под давлением французского императора, настоятельно требовавшего от правительств Пьемонта, Неаполя и Англии, чтобы положен был предел успехам Гарибальди и приняты меры против распространения восстания на материке, он решил помешать готовившейся экспедиции в Папскую область.
Глубоко огорченный недоброжелательным отношением к нему со стороны правительства, Гарибальди, однако, не склонился под гнетом неблагоприятных условий и твердо решил, вопреки всем препятствиям, собственными усилиями достигнуть намеченной цели. На письмо Виктора Эммануила он отвечал, что на этот раз, к сожалению, должен оказать ему неповиновение: “Народ зовет меня, – писал он, – и я нарушу свой долг, если не откликнусь на его призыв”.
Глава VI. Гарибальди в Неаполе
План высадки. – Фаро. – Гарибальдийское войско, его внешний вид, вооружение и внутренняя организация. – Взятие Реджо. – Поход на Неаполь. – Письмо Франциска II. – Борьба партий в Неаполе. – Отъезд короля в Капую. – Въезд Гарибальди в Неаполь. – Народные овации. – Первые распоряжения диктатора. – Мадзини. – Падре Гавацци. – Празднество в Санта-Фе. – Сражение при Волтурно. – Появление пьемонтских войск в Абруццах. – Несправедливые обвинения. – Свидание в Теано. – Капитуляция Капуи. – Плебисцит. – Въезд короля в Неаполь. – Принятие власти Виктором Эммануилом. – Отъезд Гарибальди. – Прощание с волонтерами. – Прокламация
Каждое утро, вставая, по своему обыкновению, на заре, Гарибальди отправлялся на Фаро (мессинский маяк). Здесь, взобравшись на башню маяка, он обдумывал подробности переправы на материк. Гарибальди любил эти утренние прогулки, они давали ему несколько часов покоя и уединения. Всякий раз, когда у него назревал план какого-нибудь важного предприятия, он выбирал для своих прогулок где-нибудь по соседству возвышенное место с широким горизонтом и живописным видом и здесь, в тиши уединения, обдумывал подробности предстоящего дела. Но поездки на Фаро имели для Гарибальди еще и другое значение: в его присутствии быстрее подвигались подготовительные работы, имевшие целью облегчить переправу на материк.
Почти каждый день сюда приставали суда с войсками и военным снаряжением. Оригинальную и пеструю картину представляли эти войска благодаря живописному разнообразию своих костюмов. Из-за поспешности, с которой производилось их обмундирование, не мог быть принят никакой общий образец. По большей части в этом вопросе предоставлен был полный простор личной фантазии непосредственного начальника. Здесь смешивались красные, белые, синие кепи, круглые шляпы a la Гарибальди; серые и красные, фланелевые, бумажные и полотняные блузы. Костюм самого Гарибальди состоял из красной рубашки, голубовато-серых брюк, небрежно повязанного шейного платка, венгерской шапочки и белого пончо. В вооружении войска замечалась та же пестрота, что и в обмундировке. По образчикам различных эпох и различных систем можно было проследить всю историю огнестрельного дела, начиная от ружей с кремневым замком, переделанным в ударный, и кончая энфильдскими швейцарскими винтовками.
Не меньшей оригинальностью отличалась и внутренняя организация войска. Здесь не было полных и правильных списков и перекличек, присягу Гарибальди решительно отвергал; внешние меры для поддержания порядка и дисциплины вполне отсутствовали. Еще свободнее были офицеры: каждый находился где хотел, и некоторые роты в самые решительные и трудные минуты не знали, где их предводители, и не заботились об этом. Состав войска был самый разнообразный: адвокаты, медики, студенты, купцы, ремесленники оставили свои занятия и взялись за оружие. Так называемые “ученые должности”, то есть должности горнистов, барабанщиков, трубачей и фурьеров были почти все заняты старыми пьемонтскими солдатами, отслужившими свой срок или дезертировавшими из рядов регулярной армии. Но вообще старых солдат было мало, в роте едва можно было найти до двадцати человек с усами и бородой; остальные были юноши часто не старше четырнадцати лет, а многие казались на вид двенадцатилетними детьми. И эти-то более всего отличались в минуты опасности. Герои 1848 года и других войн за независимость занимали старшие офицерские должности. Некоторые из них, отклоняя всякие почести, поступали рядовыми в генуэзские карабинеры. Войско это, составленное из отборных людей, большею частью из первой тысячи, пользовалось особым благорасположением Гарибальди за те подвиги отчаянной храбрости и самопожертвования, которыми оно не раз отличалось. Как и все партизаны, Гарибальди был беден кавалерией: главную силу волонтеров составляли штыки.
Вся эта разношерстная, недисциплинированная толпа сдерживалась единственно нравственным обаянием вождя и тем энтузиазмом, который он так умел поддерживать среди своих соратников. Стойко и терпеливо переносили они всевозможные лишения; они не роптали, когда при недостатке денежных средств наполовину сокращалось следуемое им жалованье; их патриотизм не останавливался ни перед какой жертвою. Понятно, что при таких условиях не было надобности в дисциплинарных взысканиях. Единственное наказание, допускаемое Гарибальди, – расстрел немедленный и беспощадный – применялось крайне редко. Военных советов не существовало, но каждый, имевший что-нибудь сообщить, заметить или известить о чем-нибудь, мог во всякое время явиться к самому генералу. Все решения исходили от него, и, по большей части, ему одному принадлежала инициатива всякого нового предприятия. Обдумав новый план, Гарибальди не знал колебании. Когда наступало время приступить к делу, он будто просыпался от сна; приказ следовал за приказом, и они давались с твердостью, которая показывала, что решение неотменимо. Но приказ всегда заключал в себе лишь общую идею; подробности предоставлялись исполнителю.
В битве Гарибальди являлся не столько главнокомандующим, сколько главным помощником в затруднениях. Всегда появляясь в наиболее опасном пункте, он примером своим воодушевлял людей и быстро поправлял дело.
Обыкновенно ласковый и приветливый в отношениях с товарищами, герой не знал пределов своему гневу, когда замечал в ком-нибудь из них недостаток преданности делу, желание уклониться от опасности. Тогда из его уст вырывалось знаменитое “Andate!”[3 - “Уходи!” (um.)], которое могли выносить только горячо любившие его подчиненные. Это “Andate!” заставило однажды посланника Виктора Эммануила, явившегося с неприятным генералу поручением, пятиться назад через всю залу до выходной двери, за которой он исчез, благословляя судьбу, что счастливо отделался. Но достаточно было, чтобы Гарибальди заметил, что обвинение его несправедливо, и тогда не было дружеских слов, не было извинений, которые он не пустил бы в ход, чтобы вознаградить обиженного. Насколько он был ласков и приветлив, видно уже из приема, который оказывали ему крестьянские дети во время его утренних прогулок на Фаро.
На соседних озерах в несколько дней было построено двадцать барж для перевозки лошадей и артиллерии; на мысе были устроены батареи. Все приготовления делались на виду у неаполитанских военных кораблей, крейсировавших на таком близком расстоянии, что с них можно было в подробности разглядеть все, что происходило в Фаро.
Наконец в ночь с 17 на 18 августа Гарибальди переправился на калабрийский берег и немедленно по горам направился к Реджо. Взятие города было немыслимо для кого угодно, но не для Гарибальди. Несмотря на инертность населения, напуганного близким соседством неаполитанских судов, 22 августа после девятичасового боя на крепости был выброшен парламентский флаг, и город сдался. После своей высадки Гарибальди явился в Неаполь ровно через столько дней, сколько нужно употребить для этого пути армии, идущей форсированным маршем. Все время похода он преследовал неаполитанские войска, посланные, чтобы преградить ему путь в столицу. Несмотря на свое численное превосходство, последние уступали пункт за пунктом, так что поход Гарибальди в Неаполь имел вид триумфального шествия.
Вскоре Гарибальди получил от Франциска II письмо, в котором король предлагал ему мир на почетных условиях. Франциск соглашался признать независимость Сицилии и уступал диктатору все свои владения по ту сторону пролива, причем обещал уплатить 12 миллионов контрибуции и предоставлял свой флот и пятьдесят тысяч солдат для войны с Австрией и для помощи в освобождении всей итальянской территории. На это письмо Гарибальди не ответил ни слова.
В столице обеих Сицилии не было единодушия, там образовались четыре враждебные между собою партии: Гарибальди, Кавура, мюратистов и бурбонская. Колебания в политике короля, постоянная смена либеральных начинаний доведенными до крайности репрессиями создали массу недовольных. Относительный порядок удерживался лишь благодаря популярности полицейского префекта Либорио-Романо. Последний убеждал короля уступить общему настроению и отказаться от престола. Франциск, решивший было защищать свою корону до последней крайности и идти навстречу Гарибальди, оставил теперь столицу и заперся в Капуе.
7 сентября Либорио-Романо получил от Гарибальди телеграмму, в которой генерал извещал его о своем намерении вступить в Неаполь. На эту телеграмму Либорио-Романо отвечал, что Неаполь с нетерпением ждет приезда героя, чтобы встретить в нем искупителя Италии и предать в его руки судьбу государства. В тот же день, в 10 часов утра, в сопровождении семи из своих офицеров, депутации, присланной к нему из Неаполя, и нескольких офицеров национальной гвардии, Гарибальди сел на поезд в Салерно. К 11 часам он прибыл на неаполитанский вокзал, где был встречен министрами, которые поднесли ему приветственный адрес от имени жителей города. Поблагодарив министров “за спасение страны”, Гарибальди один, без конвоя, невооруженный, вступил в столицу обеих Сицилии, не смущаясь тем, что форты еще заняты неприятельскими солдатами, что артиллеристы в амбразурах крепости и на площадях с фитилями в руках стоят на своих постах возле орудий, что улицы запружены грозными отрядами королевских войск. Когда экипаж поравнялся с батареей между зданием арсенала и дворцовой площадью, солдаты, находившиеся при ней, приготовились было встретить его залпом из своих орудий, но Гарибальди поднялся в экипаже и в величавом спокойствии, скрестив руки на груди, обратился к ним с одною из своих неотразимых улыбок. Точно очарованные действием обаятельной личности героя, солдаты немедленно, как бы по команде, отдали ему честь. С этой минуты единство Италии стало совершившимся фактом.
Первые минуты появления в городе Гарибальди, встреченного на вокзале многочисленной толпой из людей всех общественных классов, прошли относительно бесшумно; но как только экипажи въехали на дворцовую площадь и поравнялись с дворцом Форестьера, в котором должен был остановиться диктатор, весь город сразу охватило общее ликование. В течение десяти часов народ стоял под окнами дворца, заставляя героя то и дело выходить на балкон. Когда же появился Фра-Панталео и сказал, что генерал устал и лег спать, шум и крики на улице сменились мертвой тишиной. Толпа на цыпочках разошлась по городу, останавливая крикунов даже в дальних кварталах тихим шепотом: “Спит, он спит!”
Тотчас же по выслушиванию адресов в королевстве был обнародован сардинский статут; в заголовке всех административных актов приказано было писать слова: “Виктор Эммануил, король Италии”. Все чиновники, не последовавшие за Франциском II, сохранили свои должности. Всем политическим арестантам была объявлена свобода; тюремные порядки подверглись реформированию. Некоторым семьям, особенно пострадавшим от преследования бурбонского правительства, назначены пенсии. Форт Сент-Эльмо, грозивший городу бомбардировкой, был разрушен. Земли, принадлежавшие бурбонскому дому, объявлены национальной собственностью. Все иезуитские корпорации изгонялись из королевства.
Население столицы выражало свой энтузиазм шумными празднествами, иллюминациями, фейерверками и уличными концертами. Каждое утро громадная толпа собиралась вокруг эстрады, с которой развивал перед публикой свои политические теории близко стоявший к Гарибальди падре Гавацци, уже в 1848 году в стенах Колизея произносивший огненные речи в пользу восстания в Риме. Маленький, черноволосый, с лицом, желтым, как померанец, с горящими глазами, в красной гарибальдийской рубашке под распахнутой сутаной, с пистолетами за поясом, он своим грубым, но в высшей степени эффектным и убедительным красноречием производил чарующее действие на толпу. Молодежь всех общественных классов наперебой записывалась в ряды освободителей. Франциск II стянул свои силы у берега Волтурно. Гарибальди основал свою главную квартиру в Казерте; в войске его насчитывалось 15 тыс. человек. Каждый день происходили небольшие стычки на аванпостах. Неаполитанцы готовились к атаке, которая началась в ночь на первое октября. Войско Франциска II было разделено на четыре колонны, из которых одною предводительствовал сам король. Сражение продолжалось от четырех часов утра до шести вечера. К этому времени гарибальдийцы окончательно разбили последнюю неприятельскую колонну, которая вынуждена была быстро отступить к Кояццо. Гарибальди с полным правом мог гордиться своей победой. Он немедленно телеграфировал в Неаполь: “Мы победили на всей линии”. В битве при Волтурно неаполитанцы потеряли четыре тысячи человек; кроме того, на другой день сдался не участвовавший в битве четырехтысячный отряд.
Теперь предстояла осада Капуи; в гарибальдийском лагере начались приготовления. Но в Турине было решено иначе. При громадных ресурсах, доставляемых королевством обеих Сицилии, при обаянии, которое окружало героя Милаццо, Мессины, Реджо и Волтурно, завершение задачи Гарибальди представлялось шуточным делом. За Неаполем должен был последовать Рим – Гарибальди открыто заявлял об этом; за Римом – Венеция. Этого-то и боялись в Турине. Кавур страшился той ответственности перед Европой, которая всей тяжестью легла бы на Пьемонт, если бы дело восстания завершилось борьбой с Австрией на севере полуострова. При таком положении вещей пьемонтское министерство решило поставить Гарибальди непреодолимую преграду к дальнейшим действиям. В то время, как диктатор собирался уже отрезать королю Франциску путь в Гаэту, пьемонтские войска вступили в Абруццы. Узнав об этом, Гарибальди не мог в первую минуту победить своего негодования и приготовил депешу, в которой приказывал встретить пьемонтцев ружейным залпом. Но с ними был Виктор Эммануил, предмет благоговейного культа для Гарибальди, – и депеша не была послана. 11 октября Гарибальди встретился с Виктором Эммануилом в Теано. 30 октября началась бомбардировка Капуи; 1 ноября Франциск II удалился в Гаэту; 2 Капуя капитулировала. Первою вошла в нее бригада волонтеров, за ней пьемонтская бригада. На этом кончилась кампания так называемой южной армии. В осаде Гаэты она не принимала никакого участия.
Между тем, 15 октября Гарибальди, предупредив решение плебисцита, послал королю копию с только что обнародованного им декрета.
“Обе Сицилии, – значилось в декрете, – обязанные своим выкупом крови, пролитой итальянцами, и свободно решившие назначить меня диктатором, отныне будут находиться, как составная часть единой и нераздельной Италии, под скипетром Виктора Эммануила и его потомков. Как только прибудет король, я передам ему диктатуру, предоставленную мне нацией.
Выполнение декрета этого поручается продиктаторам”.
Виктор Эммануил долго медлил со своим въездом в Неаполь. Если были причины, заставлявшие его спешить, то были и другие, вынуждавшие его медлить. Надобно было оправдать плебисцитом появление новой власти взамен прежней, надобно было, чтобы вступающая в город регулярная армия предварительно отличилась каким-нибудь подвигом, обеспечивающим ей сочувствие населения. С этой целью честь взятия Капуи была предоставлена пьемонтской армии. После сдачи города Виктор Эммануил мог совершить свой триумфальный въезд в столицу.
21 октября Гарибальди созвал граждан для плебисцита. Большинством в 1750 тысяч голосов против 11 тысяч Виктор Эммануил был провозглашен королем Неаполя. 6 ноября король въехал в город в экипаже рядом с диктатором. Сначала было решено, что армия волонтеров выстроится шпалерами по обе стороны пути; но по распоряжению свыше это решение было отменено, и ни одна красная блуза не бросилась в глаза королю в продолжение всей дороги.
8 ноября в тронной зале происходило торжество принятия власти Виктором Эммануилом. Король был окружен блестящим штабом. Гарибальди во главе своего правительства поднес ему плебисцит – выражение воли неаполитанского народа. С этого момента оканчивалось диктаторство Гарибальди; он сходил в разряд простых, обыкновенных подданных Виктора Эммануила; он уходил со сцены.
Гарибальди думали заплатить за его заслуги обыкновенными наградами. Ему предлагали звание маршала, один из королевских дворцов для постоянного жительства, богатое поместье из государственных земель. На все эти предложения он отвечал решительным отказом. Такой категорический отказ был вызван не простым бескорыстием, которым в высокой степени отличался герой, но другими соображениями, так сказать, высшего порядка. Приняв награду из рук короля, Гарибальди мог связать себя долгом благодарности и утратить свою независимость, равно дорогую для него и для Италии; кроме того, в глубине души он считал себя не вправе принять вознаграждение за свою услугу родине.
Рано утром на следующий день, когда большая часть жителей столицы еще покоилась мирным сном, Гарибальди в сопровождении небольшого числа своих друзей сел на пароход “Вашингтон” и удалился на Капреру. Герой, завоевавший полцарства своему народу, вернулся домой с мешком бобов под мышкой.
Прощаясь со своими волонтерами, он издал прокламацию, из которой мы приведем здесь лишь несколько заключительных строк:
“Молодые волонтеры, примите, как последнее заключение десяти битв, прощальное от меня слово. Я произношу это слово с сильным чувством и из глубины моей души. Сегодня я должен удалиться, но только на несколько дней. В день битвы я снова буду с вами, рядом с воинами за итальянскую свободу… Мы вскоре сойдемся и пойдем вместе освобождать наших братьев, находящихся еще под чужеземным владычеством. Мы вскоре сойдемся и пойдем вместе к новым торжествам”.
Глава VII. 1861 – 1866 годы
Комиссия по вопросу об армии волонтеров. – Заседание первого итальянского парламента. – Примирение Гарибальди с Кавуром. – Смерть последнего. – Аспромонте. – Гарибальди в плену. – Возвращение на Капреру. – Поездка в Англию
Деятельность нового правительства выразилась прежде всего в старании предупредить всякую возможность реакции и подавить в корне деятельность крайних партий. С этой целью оно немедленно обратило внимание на армию волонтеров, услуги которой казались ему теперь ненужными. Правительство не могло считать себя гарантированным от всевозможных неожиданностей, пока существовала эта сила, вызванная Гарибальди и способная создать серьезные затруднения для дальнейшей деятельности туринского кабинета. Решено было распустить ее. Всем ее офицерам и солдатам было предоставлено право вернуться домой.
Служба в армии Гарибальди не освобождала от установленной обыкновенной воинской повинности. Затем возник вопрос, должно ли правительство признать чины, розданные Гарибальди. Признательность по отношению к бывшему диктатору и его товарищам, завоевавшим королю многие миллионы новых подданных, требовала утверждения этих чинов. Но в армии Гарибальди было чрезвычайно много полковников и генералов, заслуги которых казались пьемонтцам сомнительными, тем более, что они не обладали специальным военным образованием. Ввиду этих соображений назначена была особая комиссия для решения вопросов о чинах. Такой контроль над действиями Гарибальди не мог не оскорбить его; кроме того, он счел себя обиженным в лице своих волонтеров и воспользовался открытием первого итальянского парламента как первым удобным случаем, чтобы публично высказать правительству свое глубокое негодование.
Сильно волновалось итальянское общество перед выборами в парламент. Было много причин для правительственной партии ожидать падения министерства. Вынужденное удаление Гарибальди на остров Капреру, лишение его диктатуры и замена его в Неаполе и Сицилии людьми, которых ненавидел бывший диктатор и которые благодаря этому стали ненавистны народу, – все эти и многие другие оскорбления, нанесенные туринским кабинетом народному кумиру, возбудили общее негодование в рядах его приверженцев. Но состоявшиеся выборы рассеяли опасения министерства. Правительство получило большинство, превзошедшее все ожидания. Гарибальди был выбран представителем от Неаполя; точно так же вошли в состав парламента его лучшие товарищи, которым нация таким образом пожелала выразить свою признательность и уважение.
Значительная доля участия в этом результате парламентских выборов, без сомнения, принадлежала Гарибальди. Обаяние, производимое в стране одним его именем, было так могущественно, что, если бы он захотел, забыв благоразумие и патриотизм, сделать парламент ареною для своей борьбы с Кавуром и резко поставить вопрос между собой и министром, то вызвал бы серьезные затруднения, с которыми неизвестно как справилась бы Италия. Чувства нации были бы, несомненно, на стороне капрерского отшельника. Но Гарибальди больше всего любил Италию и выше всего ставил ее благо, а потому уклонился от борьбы с министерством на избирательном поприще.
13 февраля последовала, наконец, сдача Гаэты. Убедившись, что всякое сопротивление бесполезно, Франциск II подписал капитуляцию и удалился в Рим, где папа предложил ему гостеприимство. Ровно через месяц сдалась и Мессинская цитадель, до сих пор находившаяся еще во власти бурбонских солдат.
В марте состоялось открытие первого итальянского парламента. Для полного единства Италии недоставало еще присоединения двух областей: Венеция была в руках австрийцев, Рим был занят французскими войсками. О Венеции теперь и думать было нечего: присоединение ее могло состояться только путем войны.
Другое дело Рим; вопрос о нем был теперь предметом общего внимания и сделался главной темою парламентских дебатов. На римском вопросе столкнулись между собою самые противоположные и могущественные интересы, интересы всего католического мира, всех католических держав, вместе взятых и каждой из них в отдельности, интересы Франции, Австрии, Испании, Италии, интересы папы и всего духовенства, интересы Наполеона, Виктора Эммануила, Кавура, Гарибальди, интересы подданных папы и жителей города. Кавур в своей речи категорически высказался в пользу Рима – столицы Италии. Мысль, что без Рима не может устроиться Италия, красною нитью проходила через всю речь министра. Но вместе с тем он решительно отказывался занять “вечный город” вопреки желанию Франции и выражал надежду, что в этом вопросе она со временем уступит общественному мнению. Что же касается папы, он признавал, что только потеря им светской власти и отделение церкви от государства способны создать для папского престола желательную для него свободу. Таким образом, желания министра в принципе совпадали с желаниями народного героя. Цель у них была общая, и расходились они только во взгляде на средства к ее достижению. В то время как Гарибальди, всегда склонный всецело отдаваться чувству, не хотел признать на своем пути никаких преград, Кавур, напротив, все средства своего громадного ума тратил на постепенную и терпеливую работу, устраняя дипломатическим путем те самые препятствия, которые в пылу своего увлечения думал силою сломить Гарибальди.
Расположение духа, в котором находился Гарибальди, глубоко обиженный в лице своих волонтеров, выразилось в ответе его депутации от миланских рабочих.
“С нами поступили дурно, – говорил он, – хотели создать настоящий дуализм между регулярной армией и волонтерами, которые, однако же, как вы знаете, сражались храбро… Но не будем говорить об этом, не станем заниматься этим… к этому сору не следует прикасаться из уважения к самому себе”.
В этой речи он не пожалел резких выражений, чтобы унизить своих противников: министров Виктора Эммануила он называл “лакеями”, их политику – чудовищной, антинациональной, вассальной; говорил, что король “дышит дурным воздухом”. В таком настроении оставил он в начале апреля Капреру и прибыл в Турин. Здесь ревматические боли продержали его несколько дней в постели, и потому он мог явиться в парламент только 18 апреля. День этот начался страшною грозой, которая могла навлечь на Италию бедственные последствия; но в самую решительную минуту Кавур и Гарибальди протянули друг другу руку примирения. Гроза миновала благодаря благоразумию, великодушию и благородству характера с обеих сторон.
За несколько часов до открытия заседания сени, лестницы и коридоры здания были переполнены публикой; на площади перед парламентом и на соседних улицах было необычайное стечение народа. Гарибальдийцы в своих красных рубашках заняли верхние галереи, набитые ими битком. В два часа пополудни, когда все члены заседания заняли свои места и один из секретарей читал отчет предыдущего заседания, раздались громкие крики, возвестившие о прибытии Гарибальди. Генерал вошел в шотландском пледе поверх красной рубашки, опираясь на руку своего друга Макки. Три или четыре минуты продолжались восторженные рукоплескания, прервавшие ход заседания. На лице Гарибальди не было видно следов болезни, которую он недавно перенес; он только заметно постарел; в длинных волосах его прибавилось много седин. Выражение лица было по обыкновению тихое, кроткое, в высшей степени достойное. Народного героя сопровождали друзья его, генералы армии волонтеров. Он занял то же место, что и в прошлом году, на крайней левой. За несколько дней перед тем Гарибальди представил президенту Ратацци проект закона, постановляющего сформирование в стране национальной гвардии, и теперь явился защищать его.
Прения начались речью Риказоли, бывшего правителя Тосканы, требовавшего, чтобы парламент выслушал жалобы волонтеров, судьбу которых, по его мнению, следовало отнести к вопросам первостепенной важности народа. Затем последовало объяснение по этому вопросу министра Фанти, покрытое рукоплесканиями толпы. После нескольких слов, сказанных членами его партии, и ответа на них Фанти, поднялся Гарибальди. Начав сдержанно и умеренно, народный герой постепенно отдался страсти и негодованию. В резких выражениях, не щадя своих противников, отрицал он всякий дуализм между армией короля и волонтерами, доказывал отсутствие в Неаполе анархии, послужившей якобы причиною отнятия у него диктаторской власти, упомянув о той не зажившей еще ране, которую нанес ему министр отчуждением Савойи и Ниццы; напомнил ему, что уступал всякий раз, когда видел, что Италии грозит опасность от их взаимных распрей. “Но, – говорил он, – пусть решит палата и сам Кавур: могу ли я пожать руку тому, кто сделал меня чужеземцем в Италии?” В течение речи Гарибальди президенту несколько раз приходилось призывать его к порядку, прося не оскорблять противников. Несколько раз прерывалась эта речь и негодующими восклицаниями Кавура, которому бросались в лицо несправедливые, незаслуженные обвинения. Шум и волнение возрастали. Президенту пришлось на время прервать заседание. Этим перерывом воспользовались друзья Гарибальди и уговорили его быть сдержаннее и умереннее. Когда возобновилось заседание, волнение Гарибальди улеглось, и он спокойно – в выражениях вполне парламентских – изложил свой взгляд на меры правительства относительно армии волонтеров. “Я явился сюда, – заключил он свою речь, – чтобы защитить мое предложение. Исправьте его, измените, если найдете нужным, но займитесь им: этого требует безопасность страны”.
Умеренная речь Гарибальди произвела благоприятное впечатление; им воспользовался друг его, генерал Биксио, чтобы призвать к примирению раздраженных вождей и их партии. В теплых, задушевных выражениях представил он несогласие, разделившее Кавура и Гарибальди, как результат печального недоразумения, которому пора положить предел. “Я приглашаю графа Кавура, – говорил он, – забыть слова, сказанные генералом Гарибальди”. Во время ответной речи Кавура, когда последний прямо и откровенно назвал причины чисто политического характера, поставившие его в невозможность иначе поступить с армией волонтеров, на стороне которой были все его симпатии, Гарибальди несколько раз порывался подойти к министру и пожать его руку, но всякий раз был останавливаем мадзинистом Цуппети, сидевшим возле него. Впечатлительный до крайности Гарибальди легко поддавался влиянию близко стоявших к нему людей, и иной раз одному из злых гениев, в которых при нем не было недостатка, удавалось заставить его служить интересам партии в ущерб благу Италии, что и произошло в данном случае. После некоторых прений президент прочел два предложения, Гарибальди и Риказоли – по мысли согласное с первым, но менее требовательное и с выражением полного доверия правительству. Выслушав это предложение, Гарибальди взял свое назад.
Многочисленная толпа ожидала у входа конца прений. Когда вышел Кавур, народ приветствовал его рукоплесканиями; но более сильные рукоплескания, более громкие возгласы достались на долю Гарибальди. Шумные манифестации сопровождали его до дома, где он остановился, и долго продолжались перед домом. Народные симпатии явно были на стороне освободителя.