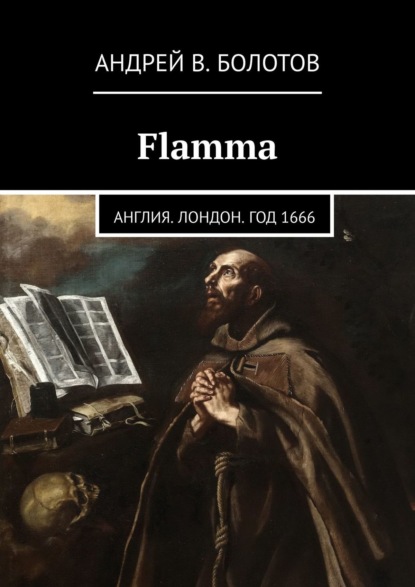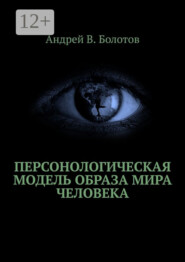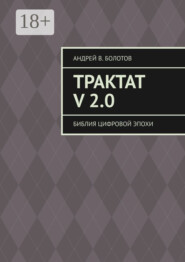По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Flamma. Англия. Лондон. Год 1666
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И все же вы должны оставить секту, – твердо сказал архидьякон, решивший, что Филипп, пожалуй, прав и не стоит больше отходить от основной темы их разговора.
– В этом то и состоит затруднение, ваше преподобие. Идея, во время эпидемии призванная объединить людей верой в счастливое избавление, по окончании ее вывернулась на изнанку: избавлением стала смерть, а жизнь сделалась приговором. Общество превратилось в культ столь страшный, что теперь он не отпускает просто так своих, пусть даже невольных, членов.
– Сколько вам нужно? – неожиданно поинтересовался архидьякон, думая, что Филипп имеет дело с обычной шайкой вымогателей и мошенников.
– Помилуйте, Люциус! – искренне обиделся тот, заставив покраснеть и потупить взор вновь упрекнувшего себя архидьякона. – Если бы речь шла о деньгах я бы их заработал. Но эти люди – фанатики своей развращенной веры. Им безразлично золото.
– Чего в таком случае они требуют? – спросил священник, начиная тревожиться. Он знал, что люди не подчиненные алчности, руководствуются более возвышенными мотивами в достижении своих целей. И горе, если цели эти недобрые.
– Посвящения, – мрачно ответил Филипп. – Только посвященный может покинуть секту.
– Я не понимаю…
– Обряд посвящения связывает адепта с обществом гибельной тайной, которая обеспечивает «Отверженным» то, что и остальные их секреты останутся неразглашенными. Лишь убедившись в том, что даже сама память посвященного стремится предать забвению тайну, хранителем которой он стал, секта предоставляет ему выбор: получить свободу или еще глубже погрузиться в ее отчаянную пучину.
– Но… сколь страшным должно быть деяние, чтобы человек, совершивший его, не смел рассказывать о нем? – заранее зная ответ, спросил архидьякон, вперив пронзительный взгляд в лицо Филиппа. – И даже от самого себя прятал бы о нем воспоминания. Ведь таковым, – медленно продолжал священник, – может статься только…
– …убийство, – павшим голосом закончил несчастный молодой человек. – Я должен убить некоего Маркоса Обклэра.
– Иначе?.. – желая узнать, есть ли альтернатива, поинтересовался архидьякон.
– Иначе я буду достоин избавления.
– То есть, если я вас внимательно слушал и ничего не пропустил, – смерти?
– Именно, ваше преподобие, – смерти.
С самого начала разговора и до сих пор, архидьякон не мог понять, каково отношение к нему Филиппа после всех распущенных в городе слухов, и, в зависимости от этого, как ему самому относиться к Филиппу. Когда же тот только упомянул об убийстве, Люциуса вновь стали одолевать всякого рода нелепые домыслы и подозрения. И он решил, что настало время окончательно эту неприятную для него ситуацию прояснить.
– Чем Я! могу помочь? – угрюмо спросил архидьякон, как-то по-особенному выделив слово: «Я».
– Советом святой отец, – просто отвечал молодой человек, постаравшись все же вложить в свои слова особый смысл: «Если не как друг, то как священник». И с непередаваемой горечью добавил: – Я надеюсь, вы наставите меня на истинный путь!.. ведь сам я, кажется, готов свернуть с него.
И снова, в который уже раз, архидьякону пришлось укорять себя в бесчувственности. Каким черствым сделало его сердце, похороненное там чувство вины в совершенном случайно преступлении и умышленном его сокрытии.
«Но что я могу сделать? – уныло думал он. – Я! Убийца!».
И растерянно молчал… пока, вдруг не услышал вздох… Точнее два, но прозвучавших одновременно и слившихся воедино – в печальное дыхание самой горести. Один из них был мужским и принадлежал погруженному в свои нерадостные мысли Филиппу в скорбном отчаянии ожидавшему, что же ему скажет Люциус; другой раздался прямо над ухом архидьякона, своим жаром обжигая его. Он был явно женским и заставил священника вздрогнуть, показавшись ему однажды (причем недавно и в самых неприятных обстоятельствах) слышанным. Люциус оглянулся, но никого не увидел. Чему впрочем, не удивился, вспомнив, кому именно мог принадлежать этот вздох. Зато внутри его стал зарождаться уже знакомый огонь:
«Да я убийца! Мне не вернуться назад, у меня нет возможности, что-то изменить… Я пал, погубил душу и, судя по тому, что со мной сегодня происходит, – жизнь (ибо нельзя спокойно жить, все время, опасаясь быть уличенным). Но он то… Он!.. У него еще есть выбор. Тяжелый, но, все же, выбор».
И, загоревшись пылом воодушевления, он решил:
«Я не дам этому шагу свершиться! Я не дам ему пасть! Я не позволю ему пережить, то, что пережил я!.. Я спасу его!.. Да! Я спасу его душу».
– Подумайте, как на вас посмотрит жена, – начал архидьякон. – Впрочем, нет. Подумайте, как Вы! Филипп, будете смотреть в глаза Розе.
– Ей не обязательно об этом знать, – пытаясь еще как-то храбриться, но, тем не менее, горько отвечал молодой человек. На глаза его навернулись слезы. – Моя смерть станет для нее еще большим испытанием. А убийство?.. Что ж, я, как ни будь, смирюсь с этой мыслью.
– Нет, не смиришься, – неслышно прошептал архидьякон.
И он, обеими руками ухватив Филиппа за плечи, поставил его так, что свет, проникающий сквозь витражное окно собора, упал прямо на лицо молодого человека и блеснул на его влажных глазах, отразивших в себе огромный крест позади священника. Вперив свой горящий взор в эти ставшие удивленными, глаза, в самую глубь их, в самую душу, Люциус твердым голосом непоколебимой воли провозгласил:
– Ты! никого не убьешь!!!
Тон, каким слова эти были произнесены, превратил их в приказ. В эти слова, в этот взгляд священник вложил всю свою боль, все страдания, которые пережил он сам, сделавшись убийцей. С удовольствием наблюдал архидьякон их действие; следил, как в глазах Филиппа появляется осмысленный ужас перед тем, что он собирался совершить, и суеверный страх перед самим священником, на миг показавшимся ему одним из тех древних оракулов, в глазах которых, как в мистическом зеркале, можно увидеть весь кошмар грядущего и предотвратить его.
Филипп задрожал всем телом и медленно попятился. Но Люциус не стал его задерживать и не сказал больше ни слова. Теперь он был уверен: молодой человек откажется от преступления. И только мысль о том, что из-за извращенных верований сектантов Филипп может погибнуть, омрачала еще лицо архидьякона.
– Бог не допустит этого! – сквозь зубы прошипел Люциус, хмуро поглядывая на украшающие храм распятия; а его пальцы, обвивающие сверкнувший в них золотой крест, судорожно сжались в кулак.
Однако в таком напряженном состоянии, архидьякон пробыл не долго. Скоро успокоившись, он поднялся в свою келью, где никто не мог помешать ему предаваться размышлениям о уже проведенных сегодня тяжких беседах и готовиться к не менее тяжелым, но еще только предстоящим разговорам в Уайт-холле.
Вдруг он улыбнулся, как человек, голову которого посетила счастливая мысль.
– Судьба сама дает мне средство, – пробормотал Люциус себе под нос и снова погрузился в раздумья, развивая внезапно возникшую идею.
***
В семь часов в келью архидьякона постучался Павел.
– Карета его преосвященства епископа Лондонского ждет вас во дворе собора, – громко объявил он.
И только слова «Я иду», сопровождаемые загадочной ухмылкой архидьякона, были ему на то ответом.
Глава IX. Пир во время чумы
Когда Люциус спустился во двор Собора святого Павла, там его действительно ждал экипаж украшенный гербами лондонского епископа. Сам же прелат вышел архидьякону навстречу и, критическим взглядом окинув его вполне обыкновенную сутану, недовольно указал на нее пальцем.
– Ты, в самом деле, собираешься ехать к королю в этом? – с непередаваемым выражением полного непонимания спросил епископ, обычно предпочитавший светские костюмы своей епископской мантии и ожидающий того же (с поправкой на сан или должность) от других.
Люциус улыбнулся.
– Вам предстоит еще многому удивиться этим вечером, – вместо ответа сказал он; и, обратив внимание его преосвященства на то, в каком нетерпений тройка запряженных в экипаж коней роет копытами снег, предположил, что таким скакунам не стоит зря простаивать.
Епископ, зная, что Люциус никогда и ничего не говорит попусту, добродушно усмехнулся этой хитрости своего друга и, пропуская его в карету, с удовольствием подумал:
«Пожалуй, вечер и впрямь обещает быть интересным».
***
Карета, увлекаемая тройкой горячих арабских иноходцев, быстро неслась по уже начинающим погружаться в сумерки улицам Лондона.
Люциус был спокоен, молчалив и необычайно собран. Епископ время от времени озадачено поглядывал на него, но не беспокоил. Однако безмолвие ему скоро наскучило, и он, желая вызвать архидьякона на разговор, вкрадчивым тоном спросил:
– Ты, надеюсь, понимаешь, для чего я уговорил тебя отправиться со мной на королевский прием, Люциус?
– Конечно, ваше преосвященство, – ответил архидьякон. – Вы, кажется, говорили о том, что мне необходимо развеяться.
– В этом то и состоит затруднение, ваше преподобие. Идея, во время эпидемии призванная объединить людей верой в счастливое избавление, по окончании ее вывернулась на изнанку: избавлением стала смерть, а жизнь сделалась приговором. Общество превратилось в культ столь страшный, что теперь он не отпускает просто так своих, пусть даже невольных, членов.
– Сколько вам нужно? – неожиданно поинтересовался архидьякон, думая, что Филипп имеет дело с обычной шайкой вымогателей и мошенников.
– Помилуйте, Люциус! – искренне обиделся тот, заставив покраснеть и потупить взор вновь упрекнувшего себя архидьякона. – Если бы речь шла о деньгах я бы их заработал. Но эти люди – фанатики своей развращенной веры. Им безразлично золото.
– Чего в таком случае они требуют? – спросил священник, начиная тревожиться. Он знал, что люди не подчиненные алчности, руководствуются более возвышенными мотивами в достижении своих целей. И горе, если цели эти недобрые.
– Посвящения, – мрачно ответил Филипп. – Только посвященный может покинуть секту.
– Я не понимаю…
– Обряд посвящения связывает адепта с обществом гибельной тайной, которая обеспечивает «Отверженным» то, что и остальные их секреты останутся неразглашенными. Лишь убедившись в том, что даже сама память посвященного стремится предать забвению тайну, хранителем которой он стал, секта предоставляет ему выбор: получить свободу или еще глубже погрузиться в ее отчаянную пучину.
– Но… сколь страшным должно быть деяние, чтобы человек, совершивший его, не смел рассказывать о нем? – заранее зная ответ, спросил архидьякон, вперив пронзительный взгляд в лицо Филиппа. – И даже от самого себя прятал бы о нем воспоминания. Ведь таковым, – медленно продолжал священник, – может статься только…
– …убийство, – павшим голосом закончил несчастный молодой человек. – Я должен убить некоего Маркоса Обклэра.
– Иначе?.. – желая узнать, есть ли альтернатива, поинтересовался архидьякон.
– Иначе я буду достоин избавления.
– То есть, если я вас внимательно слушал и ничего не пропустил, – смерти?
– Именно, ваше преподобие, – смерти.
С самого начала разговора и до сих пор, архидьякон не мог понять, каково отношение к нему Филиппа после всех распущенных в городе слухов, и, в зависимости от этого, как ему самому относиться к Филиппу. Когда же тот только упомянул об убийстве, Люциуса вновь стали одолевать всякого рода нелепые домыслы и подозрения. И он решил, что настало время окончательно эту неприятную для него ситуацию прояснить.
– Чем Я! могу помочь? – угрюмо спросил архидьякон, как-то по-особенному выделив слово: «Я».
– Советом святой отец, – просто отвечал молодой человек, постаравшись все же вложить в свои слова особый смысл: «Если не как друг, то как священник». И с непередаваемой горечью добавил: – Я надеюсь, вы наставите меня на истинный путь!.. ведь сам я, кажется, готов свернуть с него.
И снова, в который уже раз, архидьякону пришлось укорять себя в бесчувственности. Каким черствым сделало его сердце, похороненное там чувство вины в совершенном случайно преступлении и умышленном его сокрытии.
«Но что я могу сделать? – уныло думал он. – Я! Убийца!».
И растерянно молчал… пока, вдруг не услышал вздох… Точнее два, но прозвучавших одновременно и слившихся воедино – в печальное дыхание самой горести. Один из них был мужским и принадлежал погруженному в свои нерадостные мысли Филиппу в скорбном отчаянии ожидавшему, что же ему скажет Люциус; другой раздался прямо над ухом архидьякона, своим жаром обжигая его. Он был явно женским и заставил священника вздрогнуть, показавшись ему однажды (причем недавно и в самых неприятных обстоятельствах) слышанным. Люциус оглянулся, но никого не увидел. Чему впрочем, не удивился, вспомнив, кому именно мог принадлежать этот вздох. Зато внутри его стал зарождаться уже знакомый огонь:
«Да я убийца! Мне не вернуться назад, у меня нет возможности, что-то изменить… Я пал, погубил душу и, судя по тому, что со мной сегодня происходит, – жизнь (ибо нельзя спокойно жить, все время, опасаясь быть уличенным). Но он то… Он!.. У него еще есть выбор. Тяжелый, но, все же, выбор».
И, загоревшись пылом воодушевления, он решил:
«Я не дам этому шагу свершиться! Я не дам ему пасть! Я не позволю ему пережить, то, что пережил я!.. Я спасу его!.. Да! Я спасу его душу».
– Подумайте, как на вас посмотрит жена, – начал архидьякон. – Впрочем, нет. Подумайте, как Вы! Филипп, будете смотреть в глаза Розе.
– Ей не обязательно об этом знать, – пытаясь еще как-то храбриться, но, тем не менее, горько отвечал молодой человек. На глаза его навернулись слезы. – Моя смерть станет для нее еще большим испытанием. А убийство?.. Что ж, я, как ни будь, смирюсь с этой мыслью.
– Нет, не смиришься, – неслышно прошептал архидьякон.
И он, обеими руками ухватив Филиппа за плечи, поставил его так, что свет, проникающий сквозь витражное окно собора, упал прямо на лицо молодого человека и блеснул на его влажных глазах, отразивших в себе огромный крест позади священника. Вперив свой горящий взор в эти ставшие удивленными, глаза, в самую глубь их, в самую душу, Люциус твердым голосом непоколебимой воли провозгласил:
– Ты! никого не убьешь!!!
Тон, каким слова эти были произнесены, превратил их в приказ. В эти слова, в этот взгляд священник вложил всю свою боль, все страдания, которые пережил он сам, сделавшись убийцей. С удовольствием наблюдал архидьякон их действие; следил, как в глазах Филиппа появляется осмысленный ужас перед тем, что он собирался совершить, и суеверный страх перед самим священником, на миг показавшимся ему одним из тех древних оракулов, в глазах которых, как в мистическом зеркале, можно увидеть весь кошмар грядущего и предотвратить его.
Филипп задрожал всем телом и медленно попятился. Но Люциус не стал его задерживать и не сказал больше ни слова. Теперь он был уверен: молодой человек откажется от преступления. И только мысль о том, что из-за извращенных верований сектантов Филипп может погибнуть, омрачала еще лицо архидьякона.
– Бог не допустит этого! – сквозь зубы прошипел Люциус, хмуро поглядывая на украшающие храм распятия; а его пальцы, обвивающие сверкнувший в них золотой крест, судорожно сжались в кулак.
Однако в таком напряженном состоянии, архидьякон пробыл не долго. Скоро успокоившись, он поднялся в свою келью, где никто не мог помешать ему предаваться размышлениям о уже проведенных сегодня тяжких беседах и готовиться к не менее тяжелым, но еще только предстоящим разговорам в Уайт-холле.
Вдруг он улыбнулся, как человек, голову которого посетила счастливая мысль.
– Судьба сама дает мне средство, – пробормотал Люциус себе под нос и снова погрузился в раздумья, развивая внезапно возникшую идею.
***
В семь часов в келью архидьякона постучался Павел.
– Карета его преосвященства епископа Лондонского ждет вас во дворе собора, – громко объявил он.
И только слова «Я иду», сопровождаемые загадочной ухмылкой архидьякона, были ему на то ответом.
Глава IX. Пир во время чумы
Когда Люциус спустился во двор Собора святого Павла, там его действительно ждал экипаж украшенный гербами лондонского епископа. Сам же прелат вышел архидьякону навстречу и, критическим взглядом окинув его вполне обыкновенную сутану, недовольно указал на нее пальцем.
– Ты, в самом деле, собираешься ехать к королю в этом? – с непередаваемым выражением полного непонимания спросил епископ, обычно предпочитавший светские костюмы своей епископской мантии и ожидающий того же (с поправкой на сан или должность) от других.
Люциус улыбнулся.
– Вам предстоит еще многому удивиться этим вечером, – вместо ответа сказал он; и, обратив внимание его преосвященства на то, в каком нетерпений тройка запряженных в экипаж коней роет копытами снег, предположил, что таким скакунам не стоит зря простаивать.
Епископ, зная, что Люциус никогда и ничего не говорит попусту, добродушно усмехнулся этой хитрости своего друга и, пропуская его в карету, с удовольствием подумал:
«Пожалуй, вечер и впрямь обещает быть интересным».
***
Карета, увлекаемая тройкой горячих арабских иноходцев, быстро неслась по уже начинающим погружаться в сумерки улицам Лондона.
Люциус был спокоен, молчалив и необычайно собран. Епископ время от времени озадачено поглядывал на него, но не беспокоил. Однако безмолвие ему скоро наскучило, и он, желая вызвать архидьякона на разговор, вкрадчивым тоном спросил:
– Ты, надеюсь, понимаешь, для чего я уговорил тебя отправиться со мной на королевский прием, Люциус?
– Конечно, ваше преосвященство, – ответил архидьякон. – Вы, кажется, говорили о том, что мне необходимо развеяться.