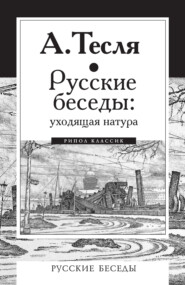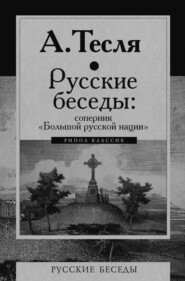По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Истинно русские люди. История русского национализма
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Конечно, несовершенство есть неразлучный товарищ всего земного, но история должна ли только мирить нас с несовершенством, должна ли погружать нас в нравственный сон квиетизма? В том ли состоит гражданская добродетель, которую народное бытописание воспламенять должно? Не мир, но брань вечная должна существовать между злом и благом…»
Значительно позднее, уже около 1850 г., М. А. Фонвизин (1787–1854), продолжая споры более ранних лет, записывал для себя:
«Г-жа Сталь сказала где-то, что в жизни народов свободе во всех ее видах (политической, гражданской, личной) неоспоримо принадлежит законное право давно перед самовластием. Эта мысль гениальной писательницы верна относительно европейского человечества и подтверждается древнею и даже среднею историей России, которая только в новейшее время (с Петра Великого) сделалась классическою почвою самодержавия».
Н. Тургенев, сообщая своему брату из Петербурга 30.XI.1816 г. о начале печатания «Истории…» Карамзина, отмечал, что еще ничего из нее не читал, но «Карамзин, сколько я заметил, думает и доказывает, что Россия стояла и возвеличивалась деспотизмом, что здесь называют самодержавием».
Показательно, что и Тургенев, и Фонвизин с промежутком почти в тридцать пять лет спорят с Карамзиным ровно об одном и том же – о логике русской истории, утверждая, что «самодержавие» или «деспотизм» никак не сквозная линия и тем более не цель, а лишь одно из исторических обстоятельств, к тому же достаточно позднее – примеры подобного правления можно легко найти в истории и других европейских народов, история же России должна указывать на иное – на начала свободы, ей присущие, быть героическим повествованием, как настаивал, например, М. Ф. Орлов (1788–1842).
Примечательно, что сам Карамзин разделял во многом эти взгляды – в период более ранний, на исходе XVIIII и в начале XIX столетия. Так, в повести «Марфа Посадница», опубликованной в основанном и редактировавшемся им с 1802 г. журнале «Вестник Европы», Карамзин не только описывает (соединяя воедино два похода Ивана III на Новгород, в 1471 и 1477 гг., в одно событие) падение новгородской вольности, вкладывая в уста Марфе Посаднице следующую, например, реплику: «Подданные Иоанна! Умираю гражданкою Новгородскою!» (т. е. противопоставляя гражданство, республиканские принципы монархическому подданству), но и помещает эти события в параллель к мифологическому восстанию новгородца Вадима против Рюрика. Мраморный бюст Вадима украшает в описании Карамзина вечевую площадь в Новгороде – к памяти Рюрика обращаются посланцы московского великого князя, к Вадиму апеллирует Марфа, Рюрик выступает носителем самодержавных начал, но они оказываются не только исторически следующими за первоначальной вольностью, но и не неоспоримыми – ведь Вадим не только поднимает восстание против Рюрика, но и оказывается в изображении Карамзина прародителем Новгородской республики, тем самым демонстрируя по меньшей мере множественность, вариативность политических принципов, на которых может быть основано сообщество.
Полемизируя с Карамзиным 1810-х гг., Никита Муравьев фактически обращается к тем же тезисам, которые использовал Карамзин в начале 1800-х:
«Сравнивая историю российскую с древнею, историк наш говорит: „Толпы злодействуют, режутся за честь Афин или Спарты, как у нас за честь Мономахова или Олегова дому – немного разности“.
Я нахожу некоторую разность. Там граждане сражались за власть, в которой они участвовали; здесь слуги дрались по прихотям господ своих».
И все-таки различие между взглядами Карамзина начала 1800-х и Муравьева исхода 1810-х существенно: для Карамзина речь идет об индивидуальных добродетелях, оттого и на исходе своей жизни он мог добросовестно заявлять, что является «республиканцем», – напротив, для Муравьева быть вполне «республиканцем», живя и действуя в самодержавной монархии, невозможно: республиканство есть добродетель гражданская, практикуемая только в совместной жизни – республиканец может примириться с самодержавием от отчаяния, принять последнюю как неизбежное, но не может прославлять последнее, т. е. нельзя быть республиканцем в частной жизни и подданным в жизни публичной, это противоречие.
Республиканские добродетели Карамзина вполне независимы от русского контекста – не случайно там, где он повествует о них на русском материале, как делает это в 1790-х – начале 1800-х, он свободен от истории, русские детали там исключительно условны, напротив, там, где он историчен – он защищает самодержавие как оправданную историей форму русской государственности, то, чем она создана и без чего распадается. Напротив, М. Ф. Орлов, как и Никита Муравьев, ищет поместить республиканские добродетели в саму плоть русской истории[12 - Как в дальнейшем, уже в 1840-х гг., М. И. Фонвизин будет устанавливать смысл русской истории, связывая с германской – т. е. с «началами свободы», отмечая, к примеру: «Предки наши славяне были, как и их соседи германцы, народ полудикий, но свободный, и в общественному быту славян преобладала стихия демократическая – общинная […]».], обращаясь к кн. П. А. Вяземскому (1792–1878), брату по отцу жены историографа (письмо от 4.V.1818):
«Я читал Карамзина. Первый том мне не пришелся по сердцу. Он сам в предисловии говорит, что пленительнейшая черта римских историков есть то, что на каждом шагу видим в них римских граждан во всей силе сего слова. Зачем же он в классической книге своей не оказывает того пристрастия к Отечеству, которое в других прославляет? Зачем хочет быть беспристрастным космополитом, а не гражданином?»
Еще более показателен отзыв Н. И. Тургенева – в отличие от М. Ф. Орлова, непосредственно ожидавшего от историка прославления гражданских добродетелей и славного прошлого России, истории ее ранних времен, соответствующих политическим желаниям читателя, готового пожертвовать фактологией ради идеологии, Тургенев сосредоточивается на идеологическом осмыслении событий, даваемом Карамзиным, – не возражая по поводу сути описываемого, он оспаривает оценки. В дневниковой записи от апреля 1818 г., по прочтении 6-го тома «Истории…», повествующей о царствовании Иоанна III, государя, наиболее близкого к идеальному образу правителя в глазах Карамзина-историографа, противопоставляющего его Петру I, Тургенев отмечает:
«Я вижу в царствовании Иоанна щастливую эпоху для независимости и внешнего величия России, благодетельную даже для России, по причине уничтожения уделов: с благоговением благодарю его как Государя, но не люблю его как человека, не люблю как русского, так как я люблю Мономаха. Россия достала свою независимость, но сыны ее утратили личную свободу на долго, на долго, может быть, навсегда. История ее с сего времени принимает вид строгих анналов самодержавного правительства […] вольность народа послужила основанием, на котором самодержавие воздвигло Колосс Российский».
Декабристский круг понимает «нацию» как политическое сообщество, связанное с идеей представительства, – наиболее полно эти идеи отразятся в двух конституционных проектах, принадлежащих соответственно Никите Муравьеву и Павлу Пестелю (1793–1826). И тот и другой стремятся укоренить свое видение в истории – так, Муравьев, конструируя федеративное устройство (и здесь во многом сходясь с Александром I), которому соответствует двухпалатный парламент, именует его «Народным вечем», верхняя палата которого, представляющая области, должна была называться «Верховной Думой». Ориентируясь на американский опыт, области, на которые разделяется империя, Муравьев именует «державами», выбирая прямой аналог states. Еще более показателен текст Пестеля, о котором А. И. Миллер пишет:
«В Русской Правде изложен наиболее радикальный и последовательный, выдержанный совершенно во „французском духе“ проект строительства нации в Российской империи. Он сочетает радикальные политические преобразования, включая уничтожение, в том числе буквальное, династии, и самую радикальную ассимиляторскую программу».
Критерии национальной принадлежности – в этой логике совпадающие с критериями гражданства, включают и у Пестеля, и у Муравьева языковой критерий. Согласно последнему, определяется двадцатилетний переходный период, по прошествии которого «никто не обучившийся русской грамоте не может быть признан гражданином». Пестель, в свою очередь, поступает более радикально, но в той же логике, выделяя среди подданных России (1) «русских» и (2) «иностранцев», т. е. тех, кто присягал «прежним Властелинам над Россиею, но не Россию за свое отечество признали». Последние, дабы считаться «русскими», должны, во-первых, подтвердить свой выбор русского подданства (теперь уже России, а не династии) и, во-вторых, сделать выбор в пользу русского языка – либо же, отвергая культурную идентичность, теперь уже сделаться иностранцами в полном смысле слова. Ассимиляторская программа Пестеля лучше всего видна в параграфе 16 гл. 2 «Русской Правды», озаглавленном «Все племена должны быть слиты в один Народ»:
«Один Народ и все различные оттенки в одну общую массу слить так, чтобы обитатели целого пространства Российского Государства все были Русские […]. Средства общие состоят главнейше в том, чтобы, во первых, на целом пространстве Российского Государства господствовал один только язык российский: Все сношения тем самым чрезвычайным образом облегчатся; Понятия и образ мыслей сделаются однородные; Люди объясняющиеся на одном и том же языке теснейшую связь между собою возымеют и однообразные составлять будут один и тот же народ […] все сии различные имена [племен] были уничтожены и везде в общее Название Русских во едино слиты. В третьих, чтоб одни и те же Законы, один и тот же образ Управления по всем частям России существовали и тем самым в Политическом и Гражданском отношениях вся Россия на целом своем пространстве бы являла вид Единородства, Единообразия и Единомыслия. Опыты всех веков и всех Государств доказали что Народы везде бывают таковыми, каковыми их соделывают правление и Законы под коими они живут».
Программа Пестеля, как отмечает А. И. Миллер, характеризуется крайним радикализмом – кажется, никто другой из декабристов, не говоря о последующих направлениях националистической мысли, не решался помыслить преобразование империи в одну нацию целиком – собственно, вариант, предлагаемый Муравьевым, федерация, является способом преодолеть имперскую неоднородность в рамках становления гражданского порядка без радикальной программы унификации и ассимиляции, представляющейся утопической и, закономерным образом, якобинской. Если угодно, лидеры Северного и Южного декабристского обществ разыграли в интеллектуальном плане противостояние жирондистов и якобинцев в спорах об устройстве Франции, что не удивительно – национализмы вообще строятся с оглядкой друг на друга, а для этого времени, как во многом и для последующих, именно французский образец был наиболее впечатляющим и успешным.
Лекция 3
«Официальная народность» и «большая русская нация»
Народ без Историка творение недовершенное, без самопознания.
М. П. Погодин. Исторические афоризмы. 1836
Выступление «декабристов» на исходе 1825 г. было одним из последних в волне пронунсиаменто, сотрясавших Европу и Латинскую Америку на исходе наполеоновских войн и в первые годы после их завершения – в ряду испанской и неаполитанской революций, греческого восстания в Османской империи и провозглашения независимости Греции, волнующего и впечатляющего опыта американских республик, пока еще не дошедших до стадии, способной разочаровать любого энтузиаста. Декабристское восстание стало важнейшей границей как в политической, так и в интеллектуальной истории Российской империи – оно определило смену поколений, гораздо более резкую и насильственную, чем та, которая определялась бы естественным ходом вещей. Александр Койре обращал внимание на «глубокие различия между представителями этих двух поколений. Они отражали противоположность умонастроений двух исторических эпох и – last but not least – двух столиц. (Немаловажно, в самом деле, что „философское“ движение родилось в Москве; […] оно нигде более и не было возможно). Они не только ставили разные проблемы, но и одни и те же проблемы, такие, как отношения между Россией и Западом, они формулировали в разных терминах и понимали в разном смысле. Два поколения разделяли всего лишь десять лет, но это были годы значительных событий, глубоких изменений в существовании и ориентации России; и духовная атмосфера, первые впечатления детства, отрочества и юности, формировавшие и определявшие умонастроения тех и других, были совершенно различными! Первые, старшие, рождались на закате правления Екатерины Великой; к их первым детским впечатлениям принадлежал террор царствования Павла I. Все они участвовали в либеральном движении в царствование Александра I; они участвовали в войне; они были глубочайшим образом обмануты и раздражены реакцией и мистицизмом, привносимым императором в Россию. Вторые же появились на свет в первые годы царствования Александра; их детскими впечатлениями были война и вызванный ею патриотический порыв – подростками они питались рассказами о боях и славе; чувство национальной гордости стало неотъемлемой частью их души, а история России – частью их образования. „История…“ Карамзина была для всех этих юношей настольной книгой; величие настоящего естественным образом сопрягалось в их умах с величием прошлого. Болезненное чувство „выскочек“ было уже почти чуждо им; ими владела вера в собственные силы и в будущее своей страны.
Значительно позднее, уже около 1850 г., М. А. Фонвизин (1787–1854), продолжая споры более ранних лет, записывал для себя:
«Г-жа Сталь сказала где-то, что в жизни народов свободе во всех ее видах (политической, гражданской, личной) неоспоримо принадлежит законное право давно перед самовластием. Эта мысль гениальной писательницы верна относительно европейского человечества и подтверждается древнею и даже среднею историей России, которая только в новейшее время (с Петра Великого) сделалась классическою почвою самодержавия».
Н. Тургенев, сообщая своему брату из Петербурга 30.XI.1816 г. о начале печатания «Истории…» Карамзина, отмечал, что еще ничего из нее не читал, но «Карамзин, сколько я заметил, думает и доказывает, что Россия стояла и возвеличивалась деспотизмом, что здесь называют самодержавием».
Показательно, что и Тургенев, и Фонвизин с промежутком почти в тридцать пять лет спорят с Карамзиным ровно об одном и том же – о логике русской истории, утверждая, что «самодержавие» или «деспотизм» никак не сквозная линия и тем более не цель, а лишь одно из исторических обстоятельств, к тому же достаточно позднее – примеры подобного правления можно легко найти в истории и других европейских народов, история же России должна указывать на иное – на начала свободы, ей присущие, быть героическим повествованием, как настаивал, например, М. Ф. Орлов (1788–1842).
Примечательно, что сам Карамзин разделял во многом эти взгляды – в период более ранний, на исходе XVIIII и в начале XIX столетия. Так, в повести «Марфа Посадница», опубликованной в основанном и редактировавшемся им с 1802 г. журнале «Вестник Европы», Карамзин не только описывает (соединяя воедино два похода Ивана III на Новгород, в 1471 и 1477 гг., в одно событие) падение новгородской вольности, вкладывая в уста Марфе Посаднице следующую, например, реплику: «Подданные Иоанна! Умираю гражданкою Новгородскою!» (т. е. противопоставляя гражданство, республиканские принципы монархическому подданству), но и помещает эти события в параллель к мифологическому восстанию новгородца Вадима против Рюрика. Мраморный бюст Вадима украшает в описании Карамзина вечевую площадь в Новгороде – к памяти Рюрика обращаются посланцы московского великого князя, к Вадиму апеллирует Марфа, Рюрик выступает носителем самодержавных начал, но они оказываются не только исторически следующими за первоначальной вольностью, но и не неоспоримыми – ведь Вадим не только поднимает восстание против Рюрика, но и оказывается в изображении Карамзина прародителем Новгородской республики, тем самым демонстрируя по меньшей мере множественность, вариативность политических принципов, на которых может быть основано сообщество.
Полемизируя с Карамзиным 1810-х гг., Никита Муравьев фактически обращается к тем же тезисам, которые использовал Карамзин в начале 1800-х:
«Сравнивая историю российскую с древнею, историк наш говорит: „Толпы злодействуют, режутся за честь Афин или Спарты, как у нас за честь Мономахова или Олегова дому – немного разности“.
Я нахожу некоторую разность. Там граждане сражались за власть, в которой они участвовали; здесь слуги дрались по прихотям господ своих».
И все-таки различие между взглядами Карамзина начала 1800-х и Муравьева исхода 1810-х существенно: для Карамзина речь идет об индивидуальных добродетелях, оттого и на исходе своей жизни он мог добросовестно заявлять, что является «республиканцем», – напротив, для Муравьева быть вполне «республиканцем», живя и действуя в самодержавной монархии, невозможно: республиканство есть добродетель гражданская, практикуемая только в совместной жизни – республиканец может примириться с самодержавием от отчаяния, принять последнюю как неизбежное, но не может прославлять последнее, т. е. нельзя быть республиканцем в частной жизни и подданным в жизни публичной, это противоречие.
Республиканские добродетели Карамзина вполне независимы от русского контекста – не случайно там, где он повествует о них на русском материале, как делает это в 1790-х – начале 1800-х, он свободен от истории, русские детали там исключительно условны, напротив, там, где он историчен – он защищает самодержавие как оправданную историей форму русской государственности, то, чем она создана и без чего распадается. Напротив, М. Ф. Орлов, как и Никита Муравьев, ищет поместить республиканские добродетели в саму плоть русской истории[12 - Как в дальнейшем, уже в 1840-х гг., М. И. Фонвизин будет устанавливать смысл русской истории, связывая с германской – т. е. с «началами свободы», отмечая, к примеру: «Предки наши славяне были, как и их соседи германцы, народ полудикий, но свободный, и в общественному быту славян преобладала стихия демократическая – общинная […]».], обращаясь к кн. П. А. Вяземскому (1792–1878), брату по отцу жены историографа (письмо от 4.V.1818):
«Я читал Карамзина. Первый том мне не пришелся по сердцу. Он сам в предисловии говорит, что пленительнейшая черта римских историков есть то, что на каждом шагу видим в них римских граждан во всей силе сего слова. Зачем же он в классической книге своей не оказывает того пристрастия к Отечеству, которое в других прославляет? Зачем хочет быть беспристрастным космополитом, а не гражданином?»
Еще более показателен отзыв Н. И. Тургенева – в отличие от М. Ф. Орлова, непосредственно ожидавшего от историка прославления гражданских добродетелей и славного прошлого России, истории ее ранних времен, соответствующих политическим желаниям читателя, готового пожертвовать фактологией ради идеологии, Тургенев сосредоточивается на идеологическом осмыслении событий, даваемом Карамзиным, – не возражая по поводу сути описываемого, он оспаривает оценки. В дневниковой записи от апреля 1818 г., по прочтении 6-го тома «Истории…», повествующей о царствовании Иоанна III, государя, наиболее близкого к идеальному образу правителя в глазах Карамзина-историографа, противопоставляющего его Петру I, Тургенев отмечает:
«Я вижу в царствовании Иоанна щастливую эпоху для независимости и внешнего величия России, благодетельную даже для России, по причине уничтожения уделов: с благоговением благодарю его как Государя, но не люблю его как человека, не люблю как русского, так как я люблю Мономаха. Россия достала свою независимость, но сыны ее утратили личную свободу на долго, на долго, может быть, навсегда. История ее с сего времени принимает вид строгих анналов самодержавного правительства […] вольность народа послужила основанием, на котором самодержавие воздвигло Колосс Российский».
Декабристский круг понимает «нацию» как политическое сообщество, связанное с идеей представительства, – наиболее полно эти идеи отразятся в двух конституционных проектах, принадлежащих соответственно Никите Муравьеву и Павлу Пестелю (1793–1826). И тот и другой стремятся укоренить свое видение в истории – так, Муравьев, конструируя федеративное устройство (и здесь во многом сходясь с Александром I), которому соответствует двухпалатный парламент, именует его «Народным вечем», верхняя палата которого, представляющая области, должна была называться «Верховной Думой». Ориентируясь на американский опыт, области, на которые разделяется империя, Муравьев именует «державами», выбирая прямой аналог states. Еще более показателен текст Пестеля, о котором А. И. Миллер пишет:
«В Русской Правде изложен наиболее радикальный и последовательный, выдержанный совершенно во „французском духе“ проект строительства нации в Российской империи. Он сочетает радикальные политические преобразования, включая уничтожение, в том числе буквальное, династии, и самую радикальную ассимиляторскую программу».
Критерии национальной принадлежности – в этой логике совпадающие с критериями гражданства, включают и у Пестеля, и у Муравьева языковой критерий. Согласно последнему, определяется двадцатилетний переходный период, по прошествии которого «никто не обучившийся русской грамоте не может быть признан гражданином». Пестель, в свою очередь, поступает более радикально, но в той же логике, выделяя среди подданных России (1) «русских» и (2) «иностранцев», т. е. тех, кто присягал «прежним Властелинам над Россиею, но не Россию за свое отечество признали». Последние, дабы считаться «русскими», должны, во-первых, подтвердить свой выбор русского подданства (теперь уже России, а не династии) и, во-вторых, сделать выбор в пользу русского языка – либо же, отвергая культурную идентичность, теперь уже сделаться иностранцами в полном смысле слова. Ассимиляторская программа Пестеля лучше всего видна в параграфе 16 гл. 2 «Русской Правды», озаглавленном «Все племена должны быть слиты в один Народ»:
«Один Народ и все различные оттенки в одну общую массу слить так, чтобы обитатели целого пространства Российского Государства все были Русские […]. Средства общие состоят главнейше в том, чтобы, во первых, на целом пространстве Российского Государства господствовал один только язык российский: Все сношения тем самым чрезвычайным образом облегчатся; Понятия и образ мыслей сделаются однородные; Люди объясняющиеся на одном и том же языке теснейшую связь между собою возымеют и однообразные составлять будут один и тот же народ […] все сии различные имена [племен] были уничтожены и везде в общее Название Русских во едино слиты. В третьих, чтоб одни и те же Законы, один и тот же образ Управления по всем частям России существовали и тем самым в Политическом и Гражданском отношениях вся Россия на целом своем пространстве бы являла вид Единородства, Единообразия и Единомыслия. Опыты всех веков и всех Государств доказали что Народы везде бывают таковыми, каковыми их соделывают правление и Законы под коими они живут».
Программа Пестеля, как отмечает А. И. Миллер, характеризуется крайним радикализмом – кажется, никто другой из декабристов, не говоря о последующих направлениях националистической мысли, не решался помыслить преобразование империи в одну нацию целиком – собственно, вариант, предлагаемый Муравьевым, федерация, является способом преодолеть имперскую неоднородность в рамках становления гражданского порядка без радикальной программы унификации и ассимиляции, представляющейся утопической и, закономерным образом, якобинской. Если угодно, лидеры Северного и Южного декабристского обществ разыграли в интеллектуальном плане противостояние жирондистов и якобинцев в спорах об устройстве Франции, что не удивительно – национализмы вообще строятся с оглядкой друг на друга, а для этого времени, как во многом и для последующих, именно французский образец был наиболее впечатляющим и успешным.
Лекция 3
«Официальная народность» и «большая русская нация»
Народ без Историка творение недовершенное, без самопознания.
М. П. Погодин. Исторические афоризмы. 1836
Выступление «декабристов» на исходе 1825 г. было одним из последних в волне пронунсиаменто, сотрясавших Европу и Латинскую Америку на исходе наполеоновских войн и в первые годы после их завершения – в ряду испанской и неаполитанской революций, греческого восстания в Османской империи и провозглашения независимости Греции, волнующего и впечатляющего опыта американских республик, пока еще не дошедших до стадии, способной разочаровать любого энтузиаста. Декабристское восстание стало важнейшей границей как в политической, так и в интеллектуальной истории Российской империи – оно определило смену поколений, гораздо более резкую и насильственную, чем та, которая определялась бы естественным ходом вещей. Александр Койре обращал внимание на «глубокие различия между представителями этих двух поколений. Они отражали противоположность умонастроений двух исторических эпох и – last but not least – двух столиц. (Немаловажно, в самом деле, что „философское“ движение родилось в Москве; […] оно нигде более и не было возможно). Они не только ставили разные проблемы, но и одни и те же проблемы, такие, как отношения между Россией и Западом, они формулировали в разных терминах и понимали в разном смысле. Два поколения разделяли всего лишь десять лет, но это были годы значительных событий, глубоких изменений в существовании и ориентации России; и духовная атмосфера, первые впечатления детства, отрочества и юности, формировавшие и определявшие умонастроения тех и других, были совершенно различными! Первые, старшие, рождались на закате правления Екатерины Великой; к их первым детским впечатлениям принадлежал террор царствования Павла I. Все они участвовали в либеральном движении в царствование Александра I; они участвовали в войне; они были глубочайшим образом обмануты и раздражены реакцией и мистицизмом, привносимым императором в Россию. Вторые же появились на свет в первые годы царствования Александра; их детскими впечатлениями были война и вызванный ею патриотический порыв – подростками они питались рассказами о боях и славе; чувство национальной гордости стало неотъемлемой частью их души, а история России – частью их образования. „История…“ Карамзина была для всех этих юношей настольной книгой; величие настоящего естественным образом сопрягалось в их умах с величием прошлого. Болезненное чувство „выскочек“ было уже почти чуждо им; ими владела вера в собственные силы и в будущее своей страны.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: