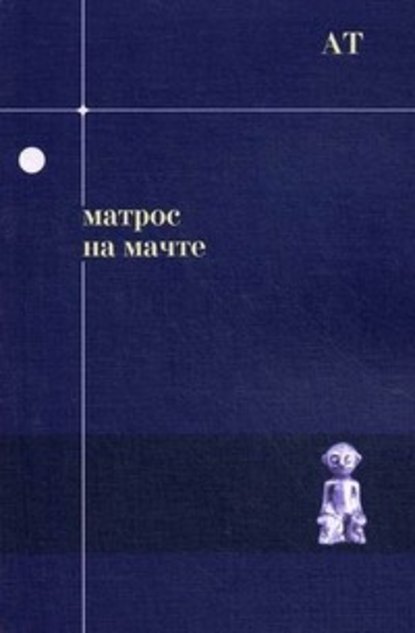По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Матрос на мачте
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Дед-свистун
Я замерла на одной ноге как японский журавль, разглядывая магическую картинку с двумя домиками. Вторую поджала под себя. День был солнечный, и я слышала, как вовсю стрекочут цикады, а в тополях у двухэтажного дома насвистывает невидимая птица. И от этого мне стало так хорошо, что захотелось пропрыгать на одной ноге к этим переросшим дом тополям, в которых раздавалось смешное, то тонкое, то почти грудное и басовитое (ну конечно, по-птичьи), пение в ритме заржавленного вальса. Ветер шумел листьями, и они то закипали серебристой изнанкой, то затихали. Но пенье птицы не затихало, казалось, она собралась исполнить небольшой концерт и делала это медленно и старательно, а когда сбивалась, возвращалась к своему неудавшемуся коленцу и тщательно высвистывала его снова. Мне очень захотелось чихнуть, и от этого нос у меня стал вытягиваться, что было немудрено, раз уж я цапля. Он стал вытягиваться и вытягивался до тех пор, пока не уткнулся в фетровую шляпу, откуда и выудил листок бумаги, где не только уместилось описание расположения этих домов на местности с восходящей кипарисовой аллеей за двухэтажным домом, но и обозначились контуры ватной фигурки старика, который появился на дорожке, усеянной галькой и пылью и впадающей в полянку, где и расположились, окаймляя ее с двух сторон как ладони, два деревянных дома.
Потому местность эта и показалась мне магической, что сначала нехотя и не очень точно, словно начерно, а потом все более филигранно и пригнанно совпала с описанием, найденным мной на одном из листков, которые были разбросаны повсюду в этом городе, тот ли для того, чтобы, перемешавшись с его аллеями, пляжами и грунтом, выпрямить ему спину и изменить осанку, то ли для того, что бы вставить мне на место тайный позвонок, распрямляющий цапельную мою осанку словно крону дерева. Этот рисунок я положила в шляпу, которую нашла у Луки, и время от времени его изучала.
Местность совпала сама с собой, но была кое-где проложена буквами и поэтому подрагивала и двоилась как вибрирующая струна. По направлению к фигурке старика проехал мальчик на велосипеде. На нем была майка с тонкими лямками на загорелых плечах, и было слышно, как вывертываются из-под велосипедных шин круглые голыши и замирают, стукнувшись друг о дружку, но уже в другом положении.
В самом центре полянки, как раз между домами, расположилось четырехугольное одноэтажное сооружение с белеными стенками, испещренными темными отметинами от выпавшей штукатурки, и одним окном, в котором с улицы можно было разглядеть среди сумрака тусклый огонек действующей керосинки со стоящей на ней цинковой кастрюлей. Не сразу было видно, что это именно керосинка, потому что колорит внутри окна был землист и коричнев с подогревом, как на картинах старых голландцев, а вернее, на некоторых их натюрмортах, нарочно затененных и погруженных в сумрачные и теплые древесные полутона. Но если на них, этих полотнах, рядом с вазой, полной почти неправдоподобно светлыми фруктами, время от времени тускло горела ручка оловянной или латунной, а то и серебряной вилки, то в странном домике на поляне горел за слюдяным окошечком керосинки лишь теплый и вытянувшийся вдоль фитиля огонек пламени. Над крышей сооружения высилась довольно-таки высокая цилиндрической формы труба без дыма, потому что было лето и жители домов готовили на керосинках. Но в самом домике явно никого не было. И на полянке тоже не было никого, вот только разве проехал мальчик на велосипеде в сторону приближающегося старика с седой бородой, красным морщинистым лицом, в картузе и с палкой в руке. Старик шел не оглядываясь, и в походке его было что-то странное, не сразу поддающееся взгляду и определению. В ней словно сочетались сразу два самостоятельных, но переплетающихся движения.
У людей обычно такого не бывает, но бывает у волн, особенно у морских. У них это случается во время наката и сильного ветра, существующих в одно и то же время, и тогда на большой волне с ее неторопливым ритмом располагаются еще и маленькие рваные волночки, и поэтому в ней живут сразу два движения – неторопливо-размеренное, космическое, величественное, гомеровское, а также несерьезно-игривое, аристофановски развинченное и бестолковое. Но если у морских волн это сочетание остается в конце концов природным и естественным, то у старика в ватной одежде это было не так. Маленькие волночки, пробегающие по его телу, вызывали в наблюдателе ощущение неестественности и тайного коварства, словно ему пытались впарить не оговоренный велосипед «Турист» с тремя переключениями, а какой-нибудь тяжеленный, хоть, впрочем, и вполне ходкий, «Прогресс», на котором, конечно же, можно было доехать со свистом от одного санатория до другого, но уж никак не свезти на трассу юную блондинку с волосами платиново-синеватыми, развевающимися в ночном ветре от поднятой скорости при влете в ночную арку с чернильными тенями, играющими на ее стенах, и вылете из нее навстречу золотому фонарю. Казалось, что старик с белой проволочной бородой что-то затаил в уме нехорошее, что-то знает такое об окружающей его местности, чего не знает она сама, а мелкие волночки все пробегают по его одежде, рукам и ногам, все перебирают его очертания, словно он не старик с красным лицом, а тополь у дома в ветре, и от этого кажется, что он то ли немой, то ли глухой, или даже вообще не живой старик, а еще кто-то, потому что приходят же разные мысли людям в голову, когда они смотрят из окон. Но он не был ни глухим и ни немым, а все было как раз наоборот. Потому что в тот момент, когда он появлялся, на полянке раздавался сначала робкий одиночный свист, впрочем, тут же, словно преодолевая свое одиночество, набиравший наглую и блатную силу и рассыпающийся трелью по окрестностям. И тут же, ему навстречу, возникал другой – это мальчишка в укороченных и размахрившихся внизу брюках, заложив пальцы двух рук в рот так, что тот раздвигался словно резиновый, и выпятив зад, словно велогонщик, выбегал на поляну из деревянного подъезда с козырьком и заливался испепеляющим и серебряным свистом такой силы и чистоты, что закладывало в ушах. Соловьи-разбойники всех размеров и мастей – от выгоревшего светлячка до армянского недоростка – возникали на полянке словно шампиньоны, проламывающие асфальт, и так же мощно и беспощадно, как пролом гриба навстречу ненужному ему солнцу, звучал их ртутный, прохватывающий уши и живот нездешней заморозкой знобкий свист.
От этого красное лицо старика мучительно искажалось, и было видно, что он пытается остановить начавшуюся с ним, запущенную чудовищным свистом метаморфозу и какое-то время ему кажется, что у него это получается. Но пока он справляется с конвульсивными гримасами на красном морщинистом лице, ноги его начинают двигаться быстрее, словно подтанцовывая, предательски подпрыгивают и, несмотря на то что лицо его наконец-то принимает совершенно спокойное выражение, шаги учащаются и незаметно переходят в сбивчивый и жалкий бег. Он спохватывается и пытается притормозить в отчаянной попытке вернуть себе утраченное достоинство, и это ему почти удается. Но переключение внимания на ноги возвращает лицу свободу страха, и от этого оно снова искажается и на миг становится почти схожим со страдающим ликом титана с Пергамского фриза, но тут же соскальзывает в бессмысленную маску страха и ненависти. И вот он уже бежит с перекошенным от страдания и ужаса лицом, затыкая уши руками и крутя направо и налево головой с прижатыми к ушам ладонями и выставленными по бокам локтями в продранным рукавах, и от этого становится похож на гадкую птицу с короткими неопрятными крыльями у висков.
Вот так мы и утрачиваем соседство богов. Потому что теперь титанов одолевают не они, а дети людей, побывавших на последней великой и жалкой войне, и дети тех, кто сумел от нее спастись. А также их дети и дети их детей. Потому что их родителям открылось за эти годы что-то такое, что теперь, словно рана кентавра Хирона, не скоро закроется, но так и будет пачкать землю зловонными и ядовитыми выделениями, сочащимися из нее вместе с черной морской кровью. И кричащий что-то в воздух от тоски и ужаса старик так и будет пропадать за спуском с полянки, на узком мостике, с двух сторон обросшем ореховыми кустами, а дети тех, кто побывал на войне, и дети тех, кто счастливо от нее отделался, будут гнаться за ним, не приближаясь вплотную, но и не отставая, так и будут гнаться за ним в плотном и прозрачном как медуза облаке свербящего душу свиста, забавляясь, счастливо смеясь и выкрикивая время от времени свое бессмысленное, как заговор маленьких убийц, слово: «Дед-свистун!.. Дед-свистун!..», и дети их детей будут делать то же самое до тех пор, пока у рожденного великой Геей-Землей не пойдет черная кровь из ушей и он не рухнет во всем своем нечистом тряпье сразу за мостиком на вздрогнувшую землю, раскрыв черный беззубый рот. Но не умрет, а встанет и пойдет дальше, тяжело отдуваясь и постепенно нащупывая изначальный ритм, в котором поверх больших космических волн пробегают малые аристофановы – мелкие, злые и вздорные волночки.
И через неделю все повторится снова, потому что есть только одна дорога через полянку с голландским пламенем и высокой трубой, ведущая к магазину и прачечной, а ежели бы и была другая, в обход, то все равно дед-свистун не пошел бы по другой. Потому что боль притягивает боль, а сложенные многократно боли образуют судьбу, носящую в себе величие как плод, зачатый от Зевса. И все же это только слова с ущербом. Это слова с ущербом, потому что они слова. Потому что даже Зевс, названный словом, будет в конце концов облачен в тряпье и проволочную бороду и побежит от шайки маленьких убийц, чтобы в конце концов распасться на кирпичи и языки, как это случилось с Вавилонской башней, – распасться и погибнуть. Но настоящий Единый не позволяет облечь себя в слова, он насаждает вокруг мостика бамбук, и тот возносится над мелким ручьем, бегущим с верха горы, никого не называя и не клича. Обвитый вокруг собственной живой пустоты свидетель цикад и июньских светляков в овраге, прибежище мое, дудка Пана.
Три истории про зеркало Снежной королевы
Я простояла там на одной ноге довольно-таки долго, тыкаясь клювом во все эти завещанные мне другим человеком картинки. Потом я снова стала Арсенией, светской такой девочкой, которая никогда не забывает о своих товарищах, гостях и близких. Я отыскала взглядом Руслана. Он сидел на куче досок, сваленных на зеленой траве, и курил. Выглядел он вполне по-европейски, но, если приглядеться, все равно было видно, что он бандит. Наверное, поэтому он мне и нравился. Это потому, что у меня еще не сформировавшийся, инфантильный ум, как сказала моя психолог. А раз так, то мне обязательно будут нравиться люди с бандитскими замашками и бандитской внешностью. Но, по-моему, это чепуха. Мне как раз нравятся люди скромные и даже мешковатые. Мой любимый герой – Юрий Живаго в старости. Мне кажется, от него должны идти во все стороны лучи света. Только они не такие, как их изображают на картинах с ангелами и святыми, а зеленые. Зеленые и шепчущиеся как листья в ветре.
Я подошла к Руслану и протянула ему руку. Он взял ее в свою и легко вскочил на ноги. Вот уж не сказала бы, что сможет. Весил он, наверное, целый центнер. Думаю, при желании можно про него сказать, что и он когда-нибудь будет мешковатым, хотя вряд ли. Я показала ему карту, которую нашла на чердаке у Луки. Не карту даже, а план на смятом куске бумажки. Из-за него-то мы сюда и приехали на такси. Там было изображение того места, где мы стояли, и несколько стрелок, ведущих за дом и упирающихся в рисунок дерева. Крона дерева была раскрашена в зеленый цвет фломастером. Руслан глянул в бумажку, потом вокруг себя и пошел в сторону одноэтажного дома. Мы обогнули его справа и вышли к оврагу, усыпанному хвоей и заросшему соснами. Дальше мы пошли мимо высохшего цементного бассейна по тропинке, ведущей вниз. По стенке бассейна вились вьюнки, и на ее бетоне в пятне света сидела шоколадная бабочка, поводя крылышками. Было слышно, как вовсю распевает птица в кроне дерева. За бассейном было темно, сумрачно и прохладно. Солнечные лучи сюда иногда все же пробирались, и тогда на тропинке завязывалась небольшая солнечная путаница, лениво исчезающая через секунду без следа.
Руслан, взглянув на клочок бумаги с планом, свернул еще раз налево, и я за ним. Тропинка привела нас к огромному буку. Тонкая серая кора казалась теплой. Руслан ухватился за ветку над головой и подтянулся. Я видела коричневые подошвы его прадо-туфель, а потом и они исчезли в листве. Было тихо, и звенела с большими паузами только одна цикада, словно серебро от шоколадки под ударами ногтя. Через минуту он спрыгнул, и в руках у него была тетрадка, завернутая в полиэтиленовую пленку. Он протянул ее мне, сел на обросший мхом камень и стал затягивать развязавшийся шнурок. «В дупле лежала», – сказал он. Я села рядом и раскрыла записи.
Историй про волшебное зеркало Снежной королевы на самом деле три. Первая изложена Андерсеном в его «Снежной королеве» и повествует о том, как злой и могучий тролль соорудил такое зеркало, где все отражалось в искаженном и карикатурном виде. Самые чудесные пейзажи и лица выглядели в нем уродливыми. Первая красавица в мире могла заглянуть в него и увидеть там омерзительную ведьму с пучками волос, растущих из носа. Это так потешало друзей тролля, троллей поменьше, что однажды они решили взобраться на небо вместе с зеркалом и дать возможность ангелам и самому Творцу полюбоваться на себя в дьявольском стекле. И вот как-то раз они всей компанией отправились к Небесам. Но уже на середине их подъема с зеркалом стали происходить странные вещи – оно начало вибрировать в их руках все быстрей и быстрей, пока не разбилось на мелкие осколки и не полетело вниз. И тут случилось самое интересное. Поскольку некоторые осколки были размером с песчинку, они не просто упали на землю, а их стал носить ветер по всему свету. И когда такой летящий осколок ударял с разлета в человека, то впивался ему в глаз или в сердце. Сердце от этого становилось ледяным, а глаза начинали видеть только уродливое, злое и отталкивающее. Такая стеклянная песчинка и попала в глаз герою «Снежной королевы», мальчику по имени Кай. Что из этого вышло, мы знаем.
Но мало кто знает, что, получив известие о зеркале троллей, эльфы сделали свое.
Они сделали его в противовес, из духа соперничества или в качестве своей собственной реплики в сторону зеркального сюжета – назовите как угодно, но скорее всего, они просто не могли его не сделать, потому что такое зеркало имело свойства, прямо противоположные зеркалу троллей: все то, что казалось людям уродливым, злым, недостоверным, пугающим, ненавистным, – все отвратительное, умирающее, безобразное претерпевало в эльфийском стекле удивительную метаморфозу. Лица, события и ландшафты, отраженные в нем, не испытывали какого-либо внешнего изменения – на первый взгляд они оставались теми же самыми. Но к ним словно прикасалась невидимая волшебная палочка, и от этого они начинали светиться изнутри, не меняя при этом ни имен, ни очертаний, ни своего расположения. Но в то же самое время они полностью меняли свой смысл, и каждый, кто глядел на мир, отраженный в зеркале эльфов, чувствовал невероятную свободу и изумление. Свобода приходила от того, что созерцатель понимал: все, что он видит, бессмертно и прекрасно. Что никогда в жизни он не видел более родных и захватывающих воображение вещей. Что уродливый сучок, что нарыв на шее нищенки, грязная, полная зловонных стоков канава, или труп раздавленной кошки, или пьяница, выдавливающий глаз жене во время семейной ссоры, или, наконец, бомж, окоченевший на горе вшам в собственной блевотине, – что это не просто вещи. Что это – нетленное сияние. Что это и есть он сам, протекающий в эти вещи как ветер в листву и наконец-то возвращенный себе самому, причастившемуся красоты и бессмертия. А изумление было вызвано тем, что зритель спрашивал себя, да как же он не видел этой явной красоты каждой вещи мира и его обитателей прежде. Как можно было проглядеть такое?
Казалось, райское зеркало было совершенным. Однако это было не так. Беда была в том, что, как мы уже говорили, оно являло собой прямую противоположность зеркалу троллей. А все, что является прямой противоположностью чему-то другому, с этим чем-то другим связано и зависит от него. Одним словом, эльфийское зеркало, как это ни покажется странно и даже обидно, не могло существовать без зеркала троллей, как, впрочем, и наоборот. Оно не было свободным. Оно было, как сейчас принято говорить, детерминированным или обусловленным. Вот почему эльфы не могли не создать свое райское стекло, раз уж тролли создали свое. Причем с зеркалом эльфов в дальнейшем произошла история, похожая на историю троллианскую. Эльфы решили поразить обитель зла, ад, в самое сердце и отправились в его глубины, неся перед собой свое зеркало. Но на подходе к самым мрачным этажам преисподней зеркало стало вибрировать и нагреваться все сильнее и сильнее и нагревалось до тех пор, пока внезапно не расплавилось. Поток горячих лучей влился во все подземные родники, бегущие наверх, к земле, и бьющие в источниках, и поэтому, когда теперь из них пьют люди, они начинают почти что видеть все вокруг прекрасным и вечным.
Еще есть и третье зеркало, которое сделали мы, люди. Это зеркало сна. Где и как оно возникло, никто не знает. Каббалист скажет одно, кришнаит – другое, христианин – третье. Но смысл один – именно люди его создали. Сами. Из своих мыслей. И оно было таким крошечным, что было – везде. Потому что самая малость, настоящее ничто, – это когда ее, этой малости, мыслишки там какой или букашки-стекляшки, для всех почти что и нет. Вот именно что для всех. Поэтому зеркало сна было отныне везде. Почему это произошло? Возможно, жизнь без сна была для начинающих уставать от себя людей чересчур живой и сильной. Возможно, они утомились. Или, быть может, им захотелось уйти далеко от своей собственной яви, чтобы потом пережить новое пробуждение, вспомнить, кто они такие на самом деле, и вернуться назад – в прозрачность и обретение друг друга наяву. Может, им захотелось обрести себя, и друг друга, и всех своих друзей, родных и любимых таким образом еще раз.
Что случилось с этим зеркалом, почти никто не знает. Но когда в мире дрогнула буква алеф, зеркало сна взяло такую силу, что встроилось почти без исключения во все человеческие глаза, сердца и головы. Никто, конечно же, никогда не признавал этого, хотя мудрецы всех стран не прекращали об этом твердить, за что их и убивали. Кому же хватит мужества признать, что он проспал наяву всю свою жизнь? (Жене такое сказать обидно, другу – нелепо, встречному – неразумно.) И что все, что с ним происходит, – любовь, путешествия, открытия – происходит на крошечном пространстве зеркальца сна, существующего лишь в условном пространстве его глаз. Куда проще договориться с другим, таким же, как и ты, спящим и видящим мир в своем крошечном зеркальце, и назвать вместе с ним свою жизнь явью. Причем повторять это соглашение не придется – всю оставшуюся жизнь оно будет просто молчаливо подразумеваться и подтверждаться как истина, которую нелепо пересматривать.
А вот этот кусочек из записок одного китайского мудреца я переношу из своего карманного компьютера в тетрадку, где я и веду свои записи о трех зеркалах. Может быть, тебя заинтересуют эти строки:
Откуда мне знать, не раскаивается ли мертвый, что когда-то умолял о продлении жизни? Тот, кто во сне пил вино, проснувшись, плачет; тот, кто во сне проливал слезы, отправляется на охоту. Когда ему что-то снится, он не знает, что это сон. Во сне он даже гадает по своему сну и только после пробуждения знает, что это был сон. Но существует еще великое пробуждение, после которого сознают, что это был великий сон. А глупец считает, что он бодрствует, и доподлинно знает, кто является правителем, а кто пастухом. Как он туп! И я и ты – все мы лишь сон. И то, что я называю тебя сном, – тоже лишь сон. Такие слова называют чрезвычайно странными, и если после десяти тысяч поколений нам встретится великий совершенномудрый, знающий их объяснение, то покажется, что до встречи с ним прошли сутки.
Радость моя, я пишу это так же, как летает вокруг меня стрекоза, – не поучая, не гордясь и не каясь. Я просто напоминаю тебе и, возможно, себе самому о наших разговорах и, может быть, о том, что обратный путь навстречу друг другу всегда – пробуждение. Что наша встреча в будущем, после того как мы отказались от своего прошлого, забыли его и пошли дальше налегке, может оказаться для нас тем самым великим пробуждением, о котором пишет китайский прозорливец. Что без отказа и встречи заново путь к нашему обретению друг друга неосуществим.
Я сижу на ветке бука и пишу эту страничку. В брючину залез муравей и пробирается вдоль бедра, и от этого мне щекотно. Наверху шумит в солнце листва. Где-то там, внизу, плещет море. Сейчас я спрыгну вниз и пойду на пляж. И сейчас ты читаешь этот листок. И все это – одновременно. Я помню тебя – и уже не помню – тогда, когда ты читаешь. К этому времени придет ангел и перекроет нашу память крылом, звонким и глухим, как пощечина. Одна моя знакомая навсегда потеряла память из-за пощечины, которую ей влепил муж, думая, что у нее был еще кто-то. В дальнейшем выяснилось, что это не соответствовало действительности. Я также знаю историю девушки, которая зачала от удара веером. И про мужчину, который от удара по лицу стал человеком-невидимкой. В дальнейшем его присутствие где-то рядом по-прежнему можно было определить, но только по запаху. Потому что после того, как с ним произошла эта метаморфоза, он стал заживо…
Осколки и уколы
Как все мы хорошо помним, два осколка поранили Кая – один вошел в глаз, второй в сердце. Сам факт нарушения телесных границ и проникновения в них, пусть даже частично, иного предмета, обладающего острым окончанием, как бы это сказать – не знаменателен же? – нет, – загадочен и обладает неким фундаментальным свойством. Свойство это мне не хотелось бы означать словом, потому что в этом случае оно сузится до понимания каждым конкретным слушателем именно этого конкретного слова. А речь идет не о слове, а об уколе. Том, который мы переживаем, не успев его оформить ни в какое понятие. Его переживает кожа, а не мозг. Покров, а не интеллект. Поэтому, чтоб не сводить то, о чем идет речь, – укол – просто к слову, я прибегну к простодушному методу перечислений, как это делали затейливые византийцы в своих акафистах, перечисляя про Господа, что он Всеблагой, Дивный, Всесильный, Промыслитель, Вседержитель, Плавающих Кормчий, Превечный и так далее, и тому подобное, а про Деву Марию тоже, что она Всеблагая, Чудес Христовых начало, Неневестная, имущая державу непобедимую или даже Благосеннолиственная – целых три корня, на которых растет неухватываемое миром, как Григорий Сковорода, древо смысла.
Итак, просто перечислим уколы, каковы они были. Два кусочка зеркала – в глаз и сердце Кая, ладно, это мы уже говорили. Какими уколами еще располагает зеркало троллей?
Сидя на щебне здесь, напротив колонн санатория, освещенных солнцем, я вспоминаю историю о принцессе и вязальной игле. Отцу предсказали, что от укола она уснет навеки. Ей, значит, предсказали, потом ее, как водится, от укола прялки или чего там, неважно, берегли не уберегли, укололась, заснула. (Тут, конечно, стоит поразмышлять, чей именно это укол – троллийский или наш, «сновидческий».)
Перечислю элементарные уколы-проникновения, знакомые почти каждому с детства.
Это, конечно же, шприц с чрезвычайно медленно уходящей из стеклянного цилиндрика вам под кожу прозрачной жидкостью. Заноза, которая в виде темной черточки торчит у вас на подушечке пальца или в ладони, и для того, чтобы ее удалить, вас пронзают еще раз, нащупывая прокаленной на огне и продезинфицированной одеколоном иголкой какой-то особый зазор подкожной щепки, после чего она, зацепленная за него острым концом, наконец-то извлекается наружу, а ранку прижигают сильно пахнущим рыжим йодом.
На улице это укус пчелы, причем укус этот возникает чаще всего не как продолжение пчелы, которую ты не видишь, а из ничего, примерно так, как в первой главе Книги Бытия творится мир, которому не было никаких причин твориться, и поэтому до сих пор этот акт переживается как внезапный, захватывающий и ошеломляющий. Я помню, как кричал на лестнице, ведущей от этого же санатория, напротив которого я расположился со своими записями, ведущей вверх, к домам, и сильно заросшей вьющимися розами поверх игры их же собственных теней на светлых ступеньках, как тут кричал мой школьный друг, худой, длинноносый, с выступающими вперед двумя верхними резцами Юрка Сильченко по прозвищу Крысюк. Он взвизгивал от ужаса и непонимания, пляша на площадке между двумя маршами, словно пытаясь схватить в воздухе смысл того, что оставалось ему неведомым, – откуда пришла эта жалящая душу и спину между лопатками боль. Я тогда первый понял, что случилось, и стал сдирать с него рубашку, и тут же подскочили два курортника – он в белом костюме, с потным лицом и запахом одеколона «Шипр» и жена его в махровой белой шляпе, толстой, как спящий тюлень, увенчанной белой – уже серой от возраста – кисточкой.
Они решили, что я избиваю маленького дохляка, которого я, кстати говоря, очень любил, и набросились на меня. Но я, хоть и опешил, тупо продолжал сдирать с ошалевшего от ужаса Крысюка рубашку, и это было делом непростым, потому что, во-первых, он сам не давался, по-прежнему завывая и отплясывая свой священный танец, а во-вторых, меня пыталась оттащить от него та потная парочка, причем особенно усердствовал муж в шипре. Но вот рубашка была сорвана, и на жалком, торчащем из узкой спины загорелом позвонке сверкнуло золотом как миг истины или запонка в рукаве длинное тельце осы. Не помню, кто осмелился ее сорвать со спины моего друга – не я ли сам? – но хорошо вижу, как и после этого маленький заморыш продолжает, взвизгивая, исполнять свой нелепый занозистый танец на ступеньках под куполом сплетшихся белых роз, и казалось, что теперь его уже никто не остановит.
Дальше я буду лаконичнее. Прокол опухоли на пальце. Кнопка, положенная шпаной на стул особенно нелюбимой учительницы. Укусы муравья, змеи, комара, пчелы, слепня, москита, елисеевских вертолетов – особого вида гигантских комаров, которые выводились одно время в сырых таинственных подвалах самого знаменитого продуктового магазина Москвы. Спица в рукаве, которой, по рассказу дворовых друзей, недавно на улице убили какую-то женщину: тот, кто убивал, положил руку ей напротив сердца, а второй, тот, что стоял за ним, ударил по выступающему из локтя концу и – насмерть, острый конец прошел насквозь. Куски утеплителя, стекловаты, которую по глупости мы брали в руки.
Бабочка, приколотая булавкой к покрашенной бледно-голубой деревянной стене, долго провисевшая у нас в бараке.
Дама в ателье, схваченная краем любопытствующего детского глаза, различившего всю ее в зашпиленной иголками бесформенной крепдешиновой робе и портного, ерзающего перед ней на коленях, что-то, кажется, держащего во рту, не помню что именно.
Острые концы агавы. Колючки какого-то растения в заповеднике Аскания-Нова, которыми запросто можно было проткнуть ладонь насквозь, полированные и словно железные.
Крапива, малина, колючая проволока. Стрекоза, ухваченная за хвост и впившаяся в палец. Рыболовецкий крючок с жальцем.
Морской скорпион. Это когда ты, нырнув с лодки и выстрелив в лежащую на песчаном дне странную узкую рыбку, поднялся наверх к днищу – оно снизу виделось все в сиянии и окружении солнечных бликов – и показал добычу друзьям, а те шарахнулись от стрелы с насаженной на нее рыбой и заорали в голос: выброси на хер! ядовитая…
Песчинка в глазу, игла хирурга, когда тебе накладывали швы на рассеченную в драке губу.
Когда ты пригласил к себе не предупредив мать и отца, которые двадцать пять лет не встречались, и как они общались, не соприкасаясь, словно на каждом проросли вдруг слои прозрачного целлофана, а потом, когда они ушли, ты ударил по зеркальному трюмо кулаком и осколок распорол тебе запястье.
Гвоздь, внезапно проросший в ботинке, булавки в купленной на ходу, с уличного прилавка у Сокола, рубашке, розовый шип при попытке добыть розу без ножниц.
Ночной стог сена под Абрамцевом, где мы с тобой пытались спрятаться от ливня и хлеставших по полю молний, и я исколол руки, разрывая его сбоку, словно, роя ход в чрево левиафана через бок и выдирая кишки, наткнулся на чешую.
Все это были уколы магических зеркал троллей и фейри. Частично – людских.
Так, через все эти бесчисленные и утомительные проникновения, их код входил в меня словно татуировка или строчка швейной машинки. Естественно, проникая под кожу и оставляя там следы, они год за годом изменяли и деформировали при помощи своей – мою внутреннюю первоначальную звездно-обморочную и нежную, как у воды, структуру, вышедшую из рук эфирного и лунного ангела-по-небу-полуночи.
Татуировка. Пирсинг. Аборт, разумеется.
Взорвавшаяся на старте в костре самодельная ракета из медного карандаша, осколок которой попал тебе в палец и вышел – к великому твоему удивлению – лишь через три дня, когда в школьной уборной ты стукнул приятеля кулаком в плечо. На подушечке пальца до сих пор можно различить лунку. До сих пор ты заново переживаешь озноб при виде неожиданно высовывающегося из тебя инородного тела, о котором ты не подозревал. Оно было круглое и латунного цвета, величиной с крышку кнопки. Так внезапно рожают, раздвинув ноги, не ребенка, а хлопок в ладоши, не ведая о часе осеменения.
Осколки и уколы изнутри
Многие из уколов и проникновений окультурены и приведены к архетипам. Это – конечно же и прежде всего – знаменитая пестрая стрела Амура, пронзающая печень, – не сердце, как думают многие, нет. У древних она пронзала то, что было ближе к земле, к области пола, а у нас, хотя не пронзает больше ничего, но существует все же в виде рисунка с сердцем на заборах и асфальте. В жанре граффити не видел ни разу. Да и на заборах его что-то не видно – наверное, ушло уже давно, а я и прохлопал. Сейчас все колющее задвигается за задники гламурного театра или смыкается в аккуратное серебряное колечко пирсинга. Сам акт пронзания – открытого жала – вытеснен массовым сознанием из сферы обихода, камуфлирован, обезвожен.
К внутреннему пронзанию относятся также муки совести, ее укоры, а как же. Об этом чуть позже.
Существует также «культурное» пронзание, которое, несмотря на явную свою метафоричность, все же неоспоримо свидетельствует о том же процессе – проникновении острой вещи сквозь некий непререкаемый защитный покров тела и души, внедрении инородного предмета во внутреннюю область, для него запретную, а для тела и души – сопряженную (понятно, что разумея именно факт проникновения) со смертельным риском.
В Библии Еве было сказано, что змей, совративший ее и первого человека, будет жалить их в пяту, но голова его сокрушится от пяты же одного из ее потомков, читай, Иисуса из Назарета.