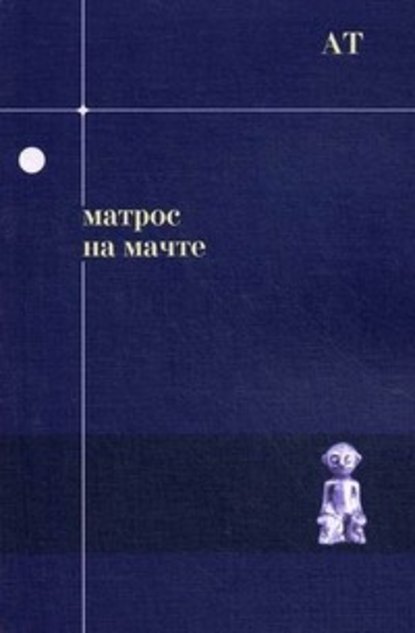По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Матрос на мачте
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Конечно не все, – поддержал меня Руслан. – Парусные тоже есть. Они не хуже. В общем, на любителя. Завтра.
Он вежливо взял меня под локоть, и мы пошли по узкому трапу на палубу. Трап пружинил и раскачивался, а вода под ногами была зеленая и переливалась как битые бутылки.
Глухонемой
Уже через полчаса. Я пожалела. О том, что приперлась сюда. Сначала все было еще куда ни шло, познакомились, повосхищались друг другом, загаром, яхтой, погодой, шмотками на. А потом пошли все те же разговоры, от которых я через пять минут чувствую ком в желудке, через пятнадцать – как он разрастается и добирается до горла, а через шестнадцать никакие правила приличия уже не могут помешать мне подняться и начать активные поиски дороги в туалет. И вот я сижу в этом самом туалете, слушаю музыку и думаю, как отсюда поскорее убраться. Дело в том, что яхта уже в море, и просто так на берег не спрыгнешь. А спрыгнуть хочется, потому что я не хочу больше про Lancome, и я не хочу про Сerryti, и меня мутит от Hugo-MaxMara-Ungaro, и про Alfa Spider мне тоже неинтересно. Вот что значит расслабиться – сразу же оказываешься среди зомби.
Зомби они и есть зомби, что с них взять. Только зачем мне было сюда ехать? Наверное, все-таки вчерашний вечер и ночь сильно на меня подействовали. Наверное, я наврала Светке, когда сказала, что у меня нет никакой эмоциональной травмы, наверное, она у меня есть. Когда я таких, как эти, послушаю, мне вообще начинает казаться, что слова надо запретить. Не то чтобы запретить, а взять и перестать их употреблять. Вот это было бы здорово. Потому что большинству из них все равно, про что говорить, вернее, им неважно, что это значит, а это как пароль-ответ. Я тебе: «Дукатти». А ты мне: «Харлей-Дэвидсон». А что «Дукатти» и что этот самый «Харлей» – неважно. Они весь вечер будут обсуждать, на чем лучше ездить, причем фанат «Харлея» будет словесно опускать фаната «Дукатти», а тот свысока объяснять, что «Харлей» – дешевка и для более крутых забав не годится, потому что в нем в три раза меньше мощности, и вообще.
Еще я вспомнила одного глухонемого мальчика, с которым одно время дружила, и подумала: как бы он описал вот этот день? Он, наверное, взял бы свою толстую тетрадку и написал что-нибудь такое: «Очень синее небо. Внизу ходят большие рыбы с плавниками, их не видно, потому что вода толстая. По палубе идут мурашки. Это работает мотор. Я очень люблю флаги и рыб. Мне нравится флаг над яхтой, мне нравятся рыбы в море. Я дружу с одной рыбой. Она на картинке. Она большая и серебристая. Глаза и рот. Еще у нее хвост как серп. Я никогда не буду их ловить. Я дружу с рыбой. Мы разговариваем. Потому что она понимает меня без слов. Меня многие понимают без слов. Яхта, небо, волны и водоросли – они меня понимают без слов. Нам хорошо, когда мы слышим друг друга и понимаем. Еще моя рыба умеет летать. Поэтому нам не нужны слова. Я не умею летать. Но я люблю смотреть, как летают другие – бабочки, рыбы, стрекозы и утки. Им не нужно что-то говорить. Они летят и так говорят. Утка не говорит, что она утка, она говорит хвостом и крыльями: вот я. Она говорит ух-л… Шу-шу. Неправды нет. Для уток и рыб нет неправды. Поэтому они такие красивые. Яхта плывет. Она плывет вдоль берега. Берег зеленый. На нем стоят белые санатории. Дальше видны горы. Они зеленые внизу и сине-сизые наверху».
Он ни за что, конечно, не стал бы писать, какие здесь собрались придурки и как ему тошно среди них. А может, ему и не было бы среди них тошно, потому что он и им бы, наверное, порадовался за компанию. Многие говорили, что он дурачок, но он не был дурачком. Он ходил в спецшколу – его возила мать на шикарном BMW, которого он, по-моему, даже не замечал. Он как-то написал мне, что ему нравятся колеса, потому что они толстые и быстрые. Так вот, он не только знал стереометрию лучше всех в школе, но еще и помнил наизусть все исторические документы – послания Папы Иннокентия или письма Грозного. Он также мог сходу расписать всю шахматную партию за звание чемпиона мира между Алехиным и Капабланкой, я это случайно выяснила, но он не понимал, что здесь особенного, и, кажется, считал, что любой на это способен. Способен вот так, запросто, взять и написать всю партию – ход за ходом.
Конечно, я так не могла. И как он писал-разговаривал, тоже бы не смогла. Но попробовать ведь можно. Я бы еще так написала: «Я сижу в туалете. Я тут уже сто лет сижу». Нет, не так… «Я сегодня плыву в море. Сегодня очень красивый день. Наверное, это лучший день в моей жизни. Я люблю Лао-цзы. Это китаец. Он говорил, что общаться с помощью слов не надо. Надо общаться с помощью узелков. Что селения должны быть маленькими. Что пусть они стоят близко. Чтобы крик петуха из одного селения могли услышать в другом. Я люблю деревья, несколько рассказов и стихотворений и одну сумасшедшую старуху. Она ходит в подвенечном платье и мужской шапке. Она ходит в подземном переходе. Она бранится, но никого не видит и не слышит. Она большая и угловатая. Подвенечное платье новое, ни пятнышка. Я пыталась с ней поговорить. Она остановилась и слушала. Потом схватила меня за плечо, сказала: фу – и стала плакать. Она плакала недолго, и ей было не больно. Потом вокруг собрались пьяные парни и стали что-то у нее спрашивать. От их пива воняло. Потом они ушли. Потом ушла она. А я ушла за ней. Я хотела узнать, где она живет. Но у меня не получилось. Потому что у ангелов нет дома на земле. У них дом на небе. Сумасшедшая старуха не была ангелом. Но ангел в ней жил. Это был его деревянный дом на земле. Он стирает ей подвенечное платье по ночам. Ему для этого корыта не нужно. «Индезита» не нужно. У ангелов свои секреты. Не такие, как у нас с вами. Они такие, как у ангелов и ангелов. Потому что у волков и волков одни секреты, а у белок и белок – другие. Еще есть секреты у снежинок и снежинок. Они их не рассказывают. Они бы и рассказали, но это не нужно. Потому что с секретами жизнь интересней. Хотя и опасней. Ведь если у льва не будет секретов от барашка, то он перестанет есть мясо. А пока есть, он его ест. А если у людей не будет секретов от ангелов, они тоже перестанут обманывать и убивать друг друга. Как Лев Толстой. Он похож на небо. На толстое облако в небе. Оно летит и ему хорошо. Потому что оно все знает и про Анну Каренину и про Наташу, и про Оленина, и знает лучше. Летит и молчит. Но его все понимают, кто знает хоть один секрет. Мне хорошо. Я вышла на палубу, и ветер ерошит мне волосы. Я вижу двух дельфинов справа. Они прыгают на фоне зеленого берега. Потому что когда они высоко подпрыгивают, то оказываются прямо рядом со мной. И тогда они оказываются на фоне зеленого берега. Не надо ни о чем говорить. Они улыбаются. Я знаю, что главное – это улыбка. Не слова. Потому что улыбка главнее. Еще я люблю глухонемого мальчика Никиту, как идет дождь в деревне или в парке и еще Шарманщика. Я влюблена в Шарманщика. Вот как это бывает. Я не знаю Шарманщика. У него, наверное, нет шарманки. Но у него есть я. Он пишет мне письма про Владимира Соловьева и пропавшую букву. Соловьев – это философ. Он хрупкий и сильный и прыгает, как кузнечик, когда хочешь накрыть его ладонью. Соловьева я тоже люблю, но Шарманщика больше. Мир большой. Но если мне кто-нибудь расскажет, как это делается, я из него обязательно сбегу. Мне все равно, куда. Но кое-что я прихвачу с собой. Самое главное. Не буду говорить что, но шарманка там тоже будет. В подарок».
Ци-лин
Ко мне подошла Светка и сказала: что случилось? Ничего не случилось. Я не хочу про Багамы и как отдыхают в Сардинии, про коллекцию Гальяно и ресторан Nobu.
– А ты не слушай, забей, пойдем, а то неудобно. Они там монетки в воду бросают, кто поймает. Они хорошие ребята, пойдем.
Нечего делать, я пошла со Светкой, не за борт же прыгать. Ребята, загорелые дочерна, столпились у борта, и один из них, наверное главный, заводила, объяснял:
– Девочки, вот видите, это пятьдесят центов. Беру в руки. – Он взял монетку в правую руку с платиновым перстнем на безымянном пальце с ухоженным светлым ногтем и, зажав между указательным и средним, пижон, сразу видно, не пропускает ни одного голливудского фильма. – Подбрасываю! – кинул монетку вверх, так что она, взлетев, блеснула на солнце и на миг зависла над водой, а потом упала, с коротким шипящим звуком рассекла поверхность, и было видно, как она, блуждая из стороны в сторону и жарко отсверкивая на солнце, погружается в глубину. – И тот, кто ее поймает, выигрывает наш главный сегодняшний приз.
– Шикарная игра, – сказала девочка рядом со мной.
Я не поняла, что тут шикарного, но смолчала. Она была в зеленом купальнике, и капельки пота бисером высыпали у нее на верхней губе.
– А что за приз?
– Ага, что за приз? – подхватила вторая, у которой начали облезать плечи от солнца.
– Будете довольны, девочки! Самый модный в этом сезоне парфюм. Прямо из П-орижа.
Руслана нигде не было видно.
Не знаю, зачем я его стала высматривать.
В крошечной каютке я переоделась в розовый купальник, который мне выдали, и, когда вышла на палубу, супербой с перстнем бросил монетку. Тут важно не пытаться поймать ее в воздухе – бесполезно. Главное, пока она летит вверх, тебе надо прыгнуть за борт вниз головой – и я прыгнула – перевернуться лицом к поверхности – перевернулась – и сквозь пузыри, образованные твоим падением, различить, как войдет монетка в воду. Это простой секрет. Когда монетка входит в воду, ее движение сразу замедляется, и она начинает рыскать из стороны в сторону, поблескивая в прозрачной воде. Вот тут-то и нужно подплыть к ней, не выныривая на поверхность, и просто подставить ладонь. Ничего сложного. Но это надо знать, а девицы на яхте не знали. А я знаю, потому что долго жила у моря и меня до сих пор иногда принимают на пляже за местную.
Я не думала, зачем я прыгнула, это была формула свободы: монетка в небо, ты – в воздух, за борт, а потом удар и блаженное скольжение в невесомости с переворотом глазами к небу.
Во всем, что вижу, во всех этих картинках – в этой и в тех, что были раньше, – есть секрет. Называется он «найди единорога». Есть такие задачки в детских книжках: нарисовано, например, пятнадцать-двадцать фигурок, холмы какие-нибудь, сосны, море, скажем, а между ними запряталось какое-нибудь диковинное или, наоборот, знакомое животное или человек, которого надо найти. Чаще всего он там прячется или вверх ногами, или где-то в ветвях дерева, или под животом оленя. Сразу разглядеть невозможно. Но я всегда радовалась – и когда искала, и когда находила. А когда находила, картинка становилась совсем другой, словно у нас с ней был теперь общий секрет, и если ее обитатели и продолжали прятать фигурку, то уже не от меня, потому что мы с ними теперь были заодно и как бы друзья, а от других, еще не посвященных в наш секрет. Так и с людьми бывает. Вот понравился тебе человек, и начинаешь искать в нем ци-лина, единорога, и сразу, конечно, найти не можешь, потому что на то он и ци-лин, что на него можно смотреть в упор и не узнать. Вот в этом-то у ци-лина-единорога вся и фишка – у других животных этого нет, и даже у людей нет, а вот у ци-лина есть: ты можешь разглядывать его нос к носу и не увидишь, а увидишь какую-нибудь корову или даже знакомого велосипедиста, а единорога не увидишь. Потому что никому не известно, каков собой единорог на самом деле. Его не с чем сравнить, понимаете? А если то, что не знаешь, не с чем сравнить, то, скорее всего, ты этого и не увидишь. Вот, например, «Рено» можно сравнить с «Майбахом», а «Труссарди» – с «Версаче», это понятно, что видишь и то и то, а вот «Фенди» с единорогом не сравнишь. С ним не сравнишь ни лошадь, ни самолет, ни ромашку. Вообще ничего. А знаете почему? Потому что единорог есть то, что есть на самом деле. Он не поддается человеческому гипнозу. Ну я про то, что и автомобили, и драгоценности, и даже деревья и собаки гипнозу поддаются, потому что тот, кто на них смотрит, не их видит, а свои мысли, которые думает в это время. Думает, например, слово «падла», видя «Мерседес» новой модели, который приобрел его приятель, а не он, и тот начинает сверкать особо недостижимым для него блеском. Или видит свою подружку рядом с тем же условным приятелем, думает слово «стерва», и подружка, поддавшись гипнозу, становится не человеком со своими бедами и радостями, а ослепительной дрянью, пославшей его к черту. Все эти животные, люди и существа способны просвечивать через его мысли, искажаться, подделываться под то, что он думает. Одним словом, деформировать себя настоящего в угоду этим мыслям и переживаниям. Все. Кроме единорога.
Поэтому его никто и не видит. Поэтому, чтобы увидеть его – того, кто есть на самом деле, нужно сначала найти себя самого – того, кто ты есть на самом деле. Иначе ты его не увидишь – нечем. Я думаю, что можно сказать так: единорог живет в Стране Правды. И чтобы увидеть его, ты тоже должен зайти в эту страну, как когда-то это сделал предок Лермонтова шотландский поэт Томас Рифмач, иначе не увидишь. Поэтому считается, что единорог – мифическое животное, хотя есть свидетельства сотен людей, которые его видели. Увидеть единорога – к счастью, не то что доллар, певицу Мадонну или президента Америки или России, например.
Так вот. Встретишь иногда человека, который тебе нравится, и начинаешь искать единорога. И бывает, чем дольше ищешь, тем яснее становится, что нет там никакого единорога, что он сюда и не заглядывал, а поэтому никакой такой общей тайны с этим человеком у тебя не получится. И от этого бывает обидно.
В общем, дело в том, что во всех этих случаях, которые со мной произошли, во всех этих ситуациях и картинках, про которые я рассказываю, спрятан единорог, и пока я его не найду, все, что со мной происходит, лишено смысла. Не знаю, понятно ли я объясняю. Но только единорог – это ключ. Нашел ключ, и картинка стала тебе знакомой и дружеской. Она, как потайная дверь в библиотеке, словно поворачивается к тебе другой гранью, и тогда видишь все эти чудеса вроде девочки, поющей в лунном свете, или что в бамбуке у моста живут феи. В средние века их видели каждый день, и это была правда. Сейчас их никто не видит, и это тоже правда. Когда-то мы жили на плоской Земле, и это была правда из правд, а теперь мы живем на круглой, и это доказали наука, Галилей, Магеллан и космонавты. И это тоже правда. Потому что у каждого времени – своя единственная правда. И если сейчас, в эру процентов, виртуала, информации, глобализации и генной инженерии, кто-то начинает видеть единорогов, лунных девочек и поющий бамбук, значит, наступает новое время. Значит, наступает перелом хребта. Значит, одна эпоха кончается и за ней следует другая со своей новой правдой.
Но единорог, поскольку он не гипнотизируем, остается единорогом в любой эпохе. Это для того, чтобы можно было разгадать весь отстой и фуфло не только на любой картинке, но и в любой, даже самой замороченной и замаскированной, эпохе. А также, возможно, увидеть ее истинный смысл и подружиться с ней.
Так вот. Сейчас единорог стоит на корме. Он стоит там как луч света, как стеклянная пальма. Он стоит там как тишина. Как пуп земли и ось мира. Он есть, и его нет. В глазах у него блеск и соринка от древа Жизни. Он – дырка от бублика. Рядом с ним стоит девица с сожженными плечами и не видит его. Она видит быстрый секс в каюте. А он ее видит. И он любит всех – каждого из нас. И на его фоне яхта становится призрачной. Потому что он расширен как вселенная и даже больше.
Сейчас я вылезу на палубу с пойманной монеткой, послушаю его тишину, а потом возьму свои брюки, футболку, босоножки и снова прыгну за борт. Я прыгну за борт и поплыву подальше от этой тошнотворной яхты без парусов. К берегу. Он тут, рядом. Не так уж далеко мы от него отплыли.
Отсвет стеклянного дома
Прыгать за борт мне не пришлось, хотя я и собрала все свои манатки в узел и замотала мобильный с кошельком в целлофановый пакет. Руслан стоял рядом и наблюдал, как мое королевское величество собирается отчалить. И когда я подошла к борту, он взял меня за плечо: «Мне тоже здесь надоело, там есть лодка. Давайте-ка совершим вылазку на берег». Я даже расстроилась, так мне хотелось прыгнуть со всей одеждой за борт. То ли выпрыгнуть из мусорной корзины, то ли впрыгнуть в эту самую мусорную корзину. В том-то и беда, что никогда не понимаешь, что же именно ты делаешь. Иногда кажется, что ты выпрыгнула откуда-то, а на самом деле потом оказывается, что ты впрыгнула. Но прыгать, как я уже сказала, не пришлось.
Этот Руслан и в Сорбонне тоже учился, и изъяснялся очень неплохо и непросто, а меня это всегда отчего-то грело. В общем, он меня уговорил. Через двадцать минут мы были на берегу. Кажется, никто даже не обратил особого внимания на наш побег, потому что все уже курили коноплю и были сильно на взводе. Конечно, Светка расстроилась, что я уехала, да и мне ее бросать не хотелось, но я ничего не могла с собой поделать. Бывает, что «судьба стучится в дверь» – у меня нет-нет да и прорываются такие вот высокопарные выражения, но я себя за это не осуждаю – так вот, она стучится, и тогда все вокруг приобретает словно еще одно измерение. Как будто становится само на себя не похожим, как будто сдвигается на миллиметр со своей оси.
Однажды я гуляла по набережной в районе Дома музыки. Был май, цвела сирень, по Водоотводному каналу плыли утки, и солнце заходило за крыши трехэтажных домов на той стороне речки. Один дом был бледно-палевый, а второй серый, с колоннами, которые начинались почему-то только со второго этажа и шли под крышу. И тут я увидела, что это очень странные дома. Все остальное было знакомое, обычное, майское и московское – люди, во все лопатки спешащие по домам, пластиковые бутылки из-под пива, брошенные на площадке у воды, парочка, бредущая к ступенькам, обнявшись, а вот дома были будто не отсюда. Я сначала не поняла, почему, и стала приглядываться, и тогда увидела, что они словно излучают лунный свет.
Они светились над речкой холодноватым колеблющимся, как мне казалось, светом, похожим на ртутный, и я никак не могла понять, откуда он тут взялся. Не от речки же он на них зеркалил. На них вообще не должно было быть никакого света, потому что солнце заходило – за них. Но он был, и они, эти дома, были с луны, окруженные домами с земли. Они словно продавили зеркало и вышли наружу в его отсветах.
Так я и стояла, ожидая, наверное, что они сейчас не только усилят свое магическое свечение, но еще и постепенно оторвутся от земли, поднимутся в воздух и полетят. Один из них подлетит ко мне и предложит перебраться внутрь, хотя вряд ли. Уж очень отрешенный, лунный был на них свет. Они сами были как сомнамбулы и меня просто не заметили бы. А внизу текла мутная цвета хаки вода, от которой ничем не пахло. Так я стояла и смотрела на них, наверное, полчаса, пока не догадалась обернуться. Так и есть. За моей спиной высился, просвечивая из-за зеленых веток липы, десятиэтажный дом с тонированными зеркальными стеклами, похожий на огромный сотовый. От него-то и отражалось заходящее солнце, отбрасывая лунный свет на ту сторону темневшей набережной, превращая ее в лунный пейзаж дополнительным светом. Все волшебное всегда просто. Был один художник – Магритт, он любил такие эффекты: дом стоит в ночи с зажженным напротив фонарем, хотя сверху дневное небо.
И вот когда мы с Русланом пошли по пляжу, а потом выбрались на набережную, а лодка с матросом, оставляя белый след, ушла к яхте, все вокруг тоже стало иным, подсвеченным. Как будто за спиной стоял ангел со стеклянными крыльями, и свет, отражаясь от него, освещал все, что мы видели впереди. Ничего особенного тут не было – городской пляж с сотней обугленных тел, белый купол параплана с фигуркой пассажира, болтающегося высоко в синем небе, прицепившись к тросу с катера, музыка из ресторанчиков, потом белые ступеньки в окружении агав с пожелтевшими кончиками острых листьев, все эти лакированные тракторы и грузовики типа «Лендровер», припаркованные вплотную к набережной, потом театральная площадь, на которой происходят всякие кинофестивали, а потом мы взяли такси и поехали по адресу, который был упомянут в одном из листков Шарманщика.
И все это было в лунной и нелегальной подсветке. Руслан почему-то выполнял мои капризы беспрекословно и вел себя так, как у Диккенса ведут себя добрые джентльмены, появляющиеся по ходу истории неизвестно откуда и не разочаровывающие читателя до самого конца книжки – вот в этом-то и заключена их сила. Потому что в новых книгах если и появляется какой-нибудь симпатичный персонаж, то автор для так называемого правдоподобия – или чего там? – обязательно упомянет, что на самом деле он или бандит, или наркоман, или просто сукин сын. И тогда читатель якобы сразу верит автору. А вот у Диккенса добрый человек так и оказывается добрым человеком, веришь ты в это или нет, и по-моему, это самое замечательное, что может произойти в любой книжке, самое захватывающее. Он никого не собирается ни трахнуть, ни кинуть, ни пристрелить, ни облагодетельствовать. Он просто живет, оставаясь добрым и порядочным. Ну про Руслана-то я, скорее всего, преувеличила, потому что со временем еще выяснится, что он за человек такой на самом деле. А поскольку мне всегда везло на приключения, выяснится, наверное, что-нибудь не самое приятное. Ну например, что он любовник престарелой знаменитости вроде Пугачевой или Лили Брик или что его отец спонсировал бойню в Чечне, а сам он какой-нибудь маленький воришка, но в больших масштабах. Потому что маленький воришка в больших масштабах ? это в России уже не воришка, а бизнесмен.
Но пока что это были мои предположения, которые он ничем не подтвердил. У него все время звонил сотовый, и он отвечал кратко и загадочно и часто по-чеченски, так что мне трудно было понять, кто он такой на самом деле. Мы въехали на самый верх асфальтовой дороги, которая вилась рядом с белыми в листве санаторскими корпусами, оснащенными статуями нимф и колоннами, и остановились.
Я вышла из такси, вдыхая приятный запах раскаленного от мотора и солнца капота, как это бывает летом на юге, и уточнила адрес у какой-то женщины с белым платком на голове, незагорелой и толстой. Было слышно, как из оврага неистово и мерно стрекочут цикады, словно сошла с ума пружина напольных часов и все колесики заверещали одновременно. Дом, который мы разыскивали, оказался рядом. Туда было трудно проехать, и мы отпустили машину.
Мы пошли пешком и вышли на полянку с двухэтажным деревянным домом справа и одноэтажным слева. Рядом с двухэтажным росли тополя и слива, дрожащие листьями на фоне открытых настежь и темных, как чернила, окон второго этажа, а рядом с дверью, на улице, торчала над зацементированной канавкой водопроводная колонка, а вернее, просто труба с краном на конце, из которого какой-то мальчишка набирал воду в розовое пластмассовое ведро, и гнутая труба тряслась от напора, и поэтому струя выходила дрожащей.
И тут я замерла, как цапля или японский журавль, которого я однажды видела в зоопарке, как он стоял весь в себе, не обращая внимания на распаренных посетителей с их малышами, обляпанными липким мороженным. Он стоял на одной ноге, нездешний, величественный, созерцающий драконов в небе и неподвижный как Джомолунгма. И конечно же, он видел то, что для простого смертного недоступно, и примерно то же самое, что видела сейчас я и что начинало просвечивать сквозь эту божественную картинку с тополями, двумя домиками и горой, поросшей грушами, за двухэтажным домом. Руслан тоже как-то притих, на меня глядя, а я так и порывалась встать на одну ногу и вобрать вторую, с расцарапанной коленкой, куда-то внутрь, под серые свои перья. И мне это удалось.
Кошка на заборе
Странно думать, что вообще что-то может существовать. Вот, например, смотришь на барак или кипарис и привычно считаешь, что они существуют. Но, во-первых, они даже настолько, насколько существуют, существуют все-таки для тебя, а каким образом они существуют для кого-то другого, тебе это, в общем, недоступно. А во-вторых, что это значит – существовать? Это что я, например, смотрю себе под ноги и вижу белый камень с серебряными отметинками, наполовину ушедший в землю, о который запинаюсь ногой? То есть, когда я его вижу и запинаюсь, то считается, что он существует, а если не вижу и не запинаюсь, то он существует, но я об этом не знаю. А что я знаю о том, что он существует, когда я его вижу? И что я знаю о признаках его существования? Что он тяжелый, сбитый, с серебряными отметинками, шершавый, наверное, горячий, что он камень. Но не какой-то, а вот этот, под ногами. А над ним барак, который тоже существует. Так вот мне всегда было очень интересно, каков орган существования у предмета или человека. То есть какой именно орган отвечает за существование того или иного предмета или события. Наверное, есть же такой орган, который тому, что может быть не замечено как существующее, способен придать, и придает, качество существования. Как, например, если воздух выдыхать в резиновый шарик, то он со временем придаст резинке форму существования в качестве воздушного шарика. Или если скоростной катер тянет лыжника на доске, то такой серфинг существует благодаря катеру. Так вот что тянет, например, кузнечика или кипарис – какой катер, благодаря чьей скорости я могу сказать, что кипарис и кузнечик существуют?
Или неужели вы думаете, что все люди на земле, которых вы видите, действительно существуют? Или вот эта черная кошка с белой лапкой, которая сейчас балансирует на проволочном заборе, намереваясь спрыгнуть в чей-то огород с помидорами и виноградом, но еще не знает, в какое место приземлиться, и от этого смешно водит белой лапкой по воздуху, словно удерживая равновесие или читая лекцию с кафедры, – по какому признаку вы можете определить ее существование? А все эти миллионы прозрачных бактерий и животных, которые летают вокруг нас с вами, проникая насквозь, – есть они или их нет? Или их не было, а потом биологи их придумали, что они должны быть, вот они словно и появились. Ведь это всегда так было: сначала этого не было, потом люди придумывали, что это есть, ну например деньги, а дальше оказывалось, что они не только появлялись, но и что без них и жить невозможно. Или еще дикари на островах Полинезии. Сначала придумали, что они дикари, и стали их уничтожать, потом решили, что они тоже люди, и продолжили уничтожать так, что вроде бы и не уничтожают вовсе. Или вот что земля плоская, а потом круглая, а потом стало все равно.
Иногда мне кажется, что ничего не существует, чего бы какой-нибудь умник заранее не придумал. Недавно, например, я смотрела выступление по телевидению сторонников глобализации – исключительно ухоженные и отожравшиеся физиономии, и они уже все за всех решили, как им переделывать планету. А когда телеведущий Гордон, который мне нравится, потому что не просто образованный, а еще и печаль в глазах есть (а сейчас человек с печалью в глазах большая редкость, все либо остервенелые, либо озабоченные, либо – морда тяпкой), так вот когда он их спросил: да что ж вы все планету-то переделываете, неужели не пора с себя самого начать наконец? – они этого даже и не услышали. Да им и не нужно – слышать. Они, блин, уже и так все знают. Вот смехота-то! А понять они не могут, амебы, что их на самом-то деле и нет, что даже не сами они так придумали, что говорить и куда ездить, а за них уже все придумано было, им оставалось только повестись, делая вид, что это они сами ВСЕ выбрали. Впрочем, ведутся почти все. Шарманщик вон не повелся, и что? Где он теперь есть? Кого он в чем убедил?
Мать меня часто бранит за такие разговоры. Она считает, что это ненормально. Она меня даже к психологу водила, хотя отец и возражал. Он говорит, что у меня просто ускоренное развитие некоторых аспектов личности, он так и сказал – аспектов, и что я, слава Богу, не вундеркинд, но у меня ускоренный рост в прямом смысле слова – быстро расту, и по этой же причине по некоторым другим показателям я на сегодняшний день – безнадежная тупица. Но он считает, что скоро все должно выровняться. Это его мнение, хоть, конечно, он мне его не сообщает. Но я знаю, что именно так он и думает. Пускай. Я к нему хорошо отношусь, хоть он и не запретил матери тащить меня к этому психологу. Это потому что, когда выпьет, он чувствует себя виноватым, а последнее время он пьет все чаще. Но он на меня ни разу в жизни голоса не повысил – случай в наше хлопотливое время небывалый.
Психолог спросила меня: а что же есть настоящего в вашей жизни? То, без чего вы бы себя чувствовали неуютно. Она, конечно, как-то не так спросила, потому что они так в лоб не спрашивают, а больше молчат и дают тебе возможность «выговориться», но смысл был именно такой. В общем, она спрашивает о главном на тот период, а я говорю: Лола. Она так осторожно спрашивает: а кто это Лола? Я говорю: черепаха. Домашняя черепаха? У нас нет черепахи, говорит мать. А я говорю: у вас нет, а у меня есть. И где она живет? Она в реке живет, недалеко от яузского моста. Ты хочешь сказать, что тебе хотелось бы такое иметь? Иметь такого друга? Хорошо. А почему ее зовут Лола? Так, говорю. Она смешная. Передние плавники короткие, а задние длинные. Но психологиня не пропустила мимо ушей имени черепахи. Я ясно увидела, как она просто-таки напряглась под своим халатом, как пантера перед прыжком. Смешно. По-моему, она решила, что все дело в Набокове с его навязшей в зубах историей про маленькую девочку, которая связалась с взрослым мужчиной, и как они там весь роман ездили из одного кемпинга в другой. Довольно скучная книга. Я больше Набокова вообще не читаю. Немудрено, что американцам нравится. Они в большинстве ребята простые. Наши-то, пожалуй, еще потупее, но иногда с фантазией, а те нет. Америка – лучшая в мире страна, вот и весь разговор.
Я вышла в коридор, а они с матерью еще о чем-то долго разговаривали. По-моему, они решили, что у меня сексуальные проблемы, связанные с быстрым ростом. Сейчас везде одни сексуальные проблемы. Спросишь какую-нибудь первоклашку, как дела, и выясняется, что она уже по уши в этих самых проблемах. Типа все, как у людей.
Я ее впервые увидела одним жарким июньским вечером, когда забралась почти что под мост, спасаясь от жары. Я села на набережную, прямо на камни, они были мокрые и прохладные, не то что там, наверху. Потом рискнула, сняла туфли и засунула ноги в воду, они у меня прямо горели. Вот тут-то она и подплыла. Я сначала решила, что обозналась. Черепахи, вроде, тропические все же животные, и водятся они в чистых водах, а не в таких, как наша бедная Яуза-помойка посреди Москвы. Из нее и рыбки-то, если положить их на сковородку, начинают вонять машинным маслом, мне приятель рассказывал. Но через минуту пришлось смириться с фактом – ко мне подплыла настоящая черепаха, причем довольно-таки живая и бодрая. Не похоже было, что она собирается заболеть или помереть от грязи. Тогда я поняла, что она каким-то образом от городской грязи заколдована. Что невероятно, но остается фактом – помойка ее не взяла. Она подплыла совсем близко и ткнулась жестким холодным носом мне в ногу. У меня в сумке лежал бутерброд с сервелатом, я достала колбасу и предложила ей. Она внимательно потыкалась носом в кружок и стала есть. Причем ела она очень деликатно, не так, как утки или воробьи, которые всегда устраивают драку вокруг любого куска. Лола ела не торопясь, с чувством неомраченного достоинства. Этим она меня и сразила, можно сказать, наповал. Как будто не на помойке находится, где ее могут переехать мотором, или выловить, или задушить мазутом с любого катера, а по меньшей мере на королевском приеме, где все уже в сборе и теперь только и остается, что наслаждаться жизнью, причем делать это красиво и никуда не спеша, потому что все остальное время – наше. Я такого больше никогда не видела. Вокруг плыл какой-то мусор, гомошились утки, сверху трясся от машин мост, и время от времени в воду летел окурок, а она была словно накрахмаленная и парила в своей собственной воспитанности и недосягаемости, будто какой-нибудь ангел, которому земные законы не указ. Но с ангелом-то было бы все понятно – кто его поймает. А тут все дело было в том, что любой мальчишка мог ее вытащить и придушить, просто так, ни за чем, от избытка настроения, а она вела себя так, словно неуязвима и единственна, как какая-нибудь фаворитка Людовика-Солнце. Не знаю, что со мной произошло, только я с ней там два часа просидела. Мы с ней общались. И у нас получилось очень глубокое общение.
А на следующий день я пришла к мосту в то же самое время, и мы опять общались. И потом тоже. И она до сих пор там живет, и я захожу к ней пообщаться, и ничего ей за это время не сделалось. Но разве такое психологу расскажешь? Я вообще не рассказывала об этом никому на свете, даже Светке. А зачем? Вот В. С. Соловьеву я, наверное, рассказала бы. Он бы точно понял, если б был жив, и тоже пообщался бы с Лолой глубоко. Общался же он с собаками и голубями так, что те его потом годами не забывали. А остальные – что они могут, кроме как лопотать на телевидении о том, как они познакомились со своим мужем-продюсером и все покатило или еще что-нибудь в таком же роде. Куда им до Лолы! Вот кто существует на самом деле. В этом одном я и уверена. В Лоле. Что она – есть. Во всем остальном можно и усомниться.