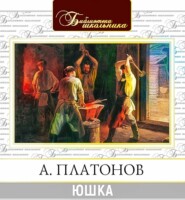По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
“…я прожил жизнь”. Письма. 1920–1950 гг.
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Два методологических совета не потеряли и сегодня своей актуальности. Первый принадлежит Пушкину: “Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок не так, как вы – иначе” (письмо П. Вяземскому, ноябрь 1825; Х, 191). Второй методологический совет мы находим в размышлениях литературоведа Б. Эйхенбаума о дневниках и письмах Л. Толстого: “К таким документам надо относиться с особенной осторожностью, чтобы не впасть в простую психологическую интерпретацию того, что весьма далеко от чистой психологии. Смешение этих двух точек зрения ведет к серьезным ошибкам, упрощая явление и вместе с тем не приводя ни к каким плодотворным обобщениям”[35 - Эйхенбаум Б. Указ. соч. С. 36.].
2
Особое место в переписке Платонова занимают его письма к власть предержащим: руководителям страны, генеральному секретарю Союза писателей и просто секретарям всех уровней, главным редакторам журналов и издательств. За исключением переписки с М. Горьким, письма Платонова к этим корреспондентам представляют тип безответного письма. Сегодня, когда мы значительно больше знаем о советском ХХ веке, безответные письма Платонова прочитываются как документ исторической и литературной эпохи, пронзительные и обличительные свидетельства самого времени.
У каждого из молчащих корреспондентов были свой резон и свои мотивы отложить личное послание писателя и не отвечать на него. Политическими и литературными обстоятельствами 1926 года можно как-то объяснить, почему не отвечает Александр Константинович Воронский (один из столпов литературной жизни первого советского десятилетия) на просьбу Платонова помочь ему преодолеть гибельную ситуацию первого московского года жизни и опубликовать его новые произведения. Но не всё объясняется и оправдывается обстоятельствами. Платонов, как свидетельствуют его письма к жене 1927 года, рассчитывал, что с публикацией книги “Епифанские шлюзы” – заметим, книги первоклассной, зрелой прозы – придет литературное признание. Но этого не произошло. В этом же году главные толстые журналы “Красная новь” и “Новый мир” отказываются от публикации подлинного шедевра – повести “Сокровенный человек”. Платонова не заметили и после выхода второй книги в 1928 году; более того, появились слухи, что печатаемое под именем Платонова ему не принадлежит, а написано каким-то “старым” писателем[36 - См. об этом в письме жене 1928 года, с. 255 наст. издания.]… Ведущим критикам, погруженным в литературную и политическую борьбу, в общем-то, и недосуг было читать книги появившегося в Москве писателя, за которым никто не стоял: ни группировка, ни авторитетные для эпохи имена. Критика бросится создавать репутацию Платонову, как только обозначится актуальный политический заказ. В 1929 году на Платонова обратят внимание в связи с политическим “делом” Пильняка и Замятина, в ходе которого вспомнят рассказ “ЧеЧе-О”, опубликованный в “Новом мире” как совместная работа Пильняка и Платонова. Впечатление о Платонове как ученике Пильняка сохранится в литературном сообществе надолго, а его публичные объяснения[37 - См.: “Б. А. Пильняк «Че-Че-О» не писал. Написан он мною единолично. Б. Пильняк лишь перемонтировал и выправил очерк по моей рукописи” (“Против халтурных судей (Ответ В. Стрельниковой)”, 1929). Автограф очерка “Че-Че-О” хранится в фонде А. Платонова ОР ИМЛИ (Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 92).] критика не захочет услышать. В донесении в НКВД от 10 декабря 1930 года этот образ приобретает и вовсе гротескные черты: “Сказывается здесь и та закваска, кот<oрую> Платонов получил в начале своей лит<ературной> работы. Ведь, когда он только начал писать, на него сразу же обратил внимание Пильняк, помог ему овладеть грамотой. Приобрел этим влияние на него и, конечно, немало попортил”[38 - Андрей Платонов в документах ОГПУ – НКВД – НКГБ. 1930–1945 / Публикация В. Гончарова и В. Нехотина // “Страна философов” Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. С. 850.] (курсив наш. – Н. К.).
Чисто политический характер имеет и история вокруг публикации рассказа “Усомнившийся Макар”, с которой к Платонову придет всесоюзная известность. События развивались следующим образом: недовольство Сталина – признание редакцией допущенной ошибки – статья вождя РАППа критика Л. Авербаха “О целостных масштабах и частных Макарах”, напечатанная в журналах (“Октябрь”, “На литературном посту”), а 3 декабря 1930 года – на страницах главной газеты страны – “Правды”. Именно в 1930 году в НКВД заводится папка, в которую начинают собираться материалы о Платонове, поставляемые общавшимися с ним современниками. Первые донесения в папке датированы 6 декабря 1930 года, т. е. появляются сразу после правдинской статьи Авербаха и письма Платонова в редакцию “Правды”. В уже цитированной сводке от 10 декабря 1930 года, написанной близким Платонову и явным знатоком литературной жизни “года великого перелома”, в целом точно описывается ситуация Платонова, оказавшегося в промежутке между двумя главными литературными лагерями – пролетарских писателей и попутчиков – и не примкнувшего ни к одному из них: “Бытовые условия Платонова очень трудные – нет комнаты, нет денег, износилась одежда. Литературные работники из РАППа или близко стоящие к пролетсектору от него отшатнулись после скандального рассказа «Усомнившийся Макар» (в «Октябре»). Этим пользуются «попутчики», группирующиеся вокруг изд<ательст>ва «Федерация». Они чувствуют в нем силу <…> и, вызывая в нем раздражение против слабых писателей, в бытовом плане обставленных гораздо лучше его, стараются закрепить его за своим лагерем”[39 - Там же.].
“Правда” не напечатала письмо Платонова с разъяснениями его литературной позиции сочувственного отношения к Макару Ганушкину. Не того от него ждали, да и, кажется, он сам еще пытался выйти из ситуации по-гоголевски, когда писал новый финал жизни “частного Макара” (рассказ “Отмежевавшийся Макар”) и отдавал “невыясненному” Умрищеву (повесть “Ювенильное море”) важнейшие вехи своей политической биографии: “Умрищев давно был исключен из партии, перенес суд и отрекся в районной газете от своего чуждого мировоззрения”. Однако пролетарским писателям рекомендовалось учиться у Салтыкова-Щедрина и Гоголя описывать отрицательные типы прошлого и настоящего только с позиций нового мира и его идеологии, из которой однозначно был исключен гоголевский “смех сквозь слезы” как проявление реакционной традиции русской классической литературы. Нахождение внутри этой смеховой традиции жизни и культуры, где, по словам любимого Платоновым В. Розанова, вечно “пререкаются” ангел смеха и ангел слез, является устойчивой чертой художественной идеологии Платонова. Однако о результатах этой устойчивости, проявившей себя в опубликованной в журнале “Красная новь” повести “Впрок (Бедняцкая хроника)”, ему придется объясняться в 1931 году уже вполне по-серьезному. В первом письме в “Правду” и “Литературную газету” Платонов еще пытался отшутиться, однако вскоре стало не до шуток. Ему предстояло объясниться с главным читателем страны – И. Сталиным, и в этой ситуации разворачивающейся интриги вокруг публикации “Бедняцкой хроники” проявит свою силу текущий политический момент весны 1931 года.
Остановимся более подробно на политической ситуации писем Платонова во власть 1931 года, о которой писателю будут напоминать до конца его жизни, а повесть “Впрок” впервые переиздадут в СССР только во второй половине 1980-х годов, и то с купюрами.
В эти годы Сталин получал немало писем от советских писателей, оказавшихся в зоне истребительной критики и отлучения от литературы, однако в переписку с ними не вступал. В некотором смысле исключителен и одновременно показателен случай с “первым пролетарским поэтом” и кремлевским жителем Демьяном Бедным[40 - Д. Бедный жил в Кремле (до 1933 года), в поездках по СССР ему предоставлялся собственный “протекционный вагон”, его стихотворные фельетоны без задержки печатались в “Правде” и “Известиях” практически каждую неделю (см.: Большая цензура. Писатели и журналисты в стране Советов. 1917–1956. Документы. М., 2005. С. 103, 107, 109).]. Самый успешный писатель советской России впервые крупно ошибся в 1930 году, опубликовав в “Правде” и “Известиях” цикл очередных фельетонов. Бедный привычно и виртуозно клеймил русского “мужика” со всеми его историческими пороками, клеймил в полном следовании идеологическому курсу “года великого перелома” (название статьи И. Сталина, опубликованной в “Правде” 7 ноября 1929 года), однако в официальном пропагандистском дискурсе в течение полугода происходят радикальные изменения, определяемые статьями Сталина “Головокружение от успехов” (“Правда”, 1930, 2 марта), “Ответ товарищам-колхозникам” (3 апреля) и “Постановлением ЦК ВКП(б) о борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении” (15 марта). Партия неожиданно публично осудила “перегибы” в проведении коллективизации и заявила о борьбе с “искривлениями и их носителями”, с “опьяненными успехами товарищами”, которые “стали сползать с пути наступления на кулака на путь борьбы с середняком”, и призвала на местах преодолеть “головокружение от успехов”…
Принятое 6 декабря 1930 года постановление секретариата ЦК ВКП(б) “О фельетонах Демьяна Бедного «Слезай с печки», «Без пощады»” выполнено в полном следовании духу и букве партийных документов весны 1930 года: “ЦК обращает внимание редакций «Правды» и «Известий», что за последнее время в фельетонах т. Демьяна Бедного стали появляться фальшивые нотки, выразившиеся в огульном охаивании «России» и «русского» (статьи «Слезай с печки», «Без пощады»); в объявлении «лени» и «сидения на печке» чуть ли не национальной чертой русских («Слезай с печки»); в непонимании того, что в прошлом существовало две России, Россия революционная и Россия антиреволюционная, причем то, что правильно для последней, не может быть правильным для первой; в непонимании того, что нынешнюю Россию представляет ее господствующий класс, рабочий класс, и прежде всего русский рабочий класс, самый активный и самый революционный отряд мирового рабочего класса, причем попытка огульно применить к нему эпитеты «лентяй», «любитель сидения на печке» не может не отдавать грубой фальшью. ЦК надеется, что редакции «Правды» и «Известий» учтут в будущем эти дефекты в писаниях т. Демьяна Бедного”[41 - См.: Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917–1953. М., 1999. С. 131.]. Этот документ, опубликованный в центральных газетах, обнадежил многих, в том числе и автора “Впрок”, и тех, кто принимал решение о публикации повести.
Бедный пишет истерическое письмо Сталину, выдержанное в стилистике плача: “Пришел час моей катастрофы. Не на «правизне», не на «левизне», а на «кривизне». Как велика дуга этой кривой. <…> Я неблагополучен. Меня не будут почитать после этого не только в этих двух газетах – насторожатся везде”[42 - Там же. С. 132–133.]. В развернутом послании от 12 декабря 1930 года Сталин сформулирует “ясный ответ” Бедному, и не только ему. Для партии и для него как представителя верховной власти в стране нет писателей вне партийной критики, и эта критика должна восприниматься как директива и закон: “Десятки поэтов и писателей одергивал ЦК, когда они допускали отдельные ошибки. Вы всё это считали нормальным и понятным. А вот когда ЦК оказался вынужденным подвергнуть критике Ваши ошибки, Вы вдруг зафыркали и стали кричать о «петле». На каком основании? Может быть, ЦК не имеет права критиковать Ваши ошибки? Может быть, решение ЦК не обязательно для Вас? Может быть, Ваши стихотворения выше критики?”[43 - Там же. С. 134–137; в сокращении: Сталин И. Сочинения. Т. 13. М., 1951. С. 23–24.]
Повесть Платонова “Впрок” Сталин будет читать совсем скоро – в первых числах мая 1931 года. Правда, в отличие от письма к Бедному, внесенного в биографическую хронику 13-го тома сочинений Сталина (“И. В. Сталин пишет ответ на письмо Демьяна Бедного”[44 - Там же. С. 401.]), это событие в ней не отмечено. На письмо Платонова Сталин не ответил.
Политический вектор менялся стремительно. Если весной 1930 года, опираясь на авторитет последних партийных документов о коллективизации, можно было осмеивать “перегибщиков” всех мастей, то через год прошлогодние формулировки в отношении коллективизации были прочно забыты и власть продолжила прежний карательный курс на сплошную коллективизацию. Именно на весну – лето 1931 года приходится принятие ряда основополагающих документов по депортации “кулаков”, “пролезших в колхозы” и избежавших по каким-либо причинам экспроприации и высылки; специальной комиссией Политбюро регулярно утверждаются планы переселения кулацких семей и списки новораскулаченных (иногда на одном заседании – до 150 тысяч кулацких семей) и т. п. Все эти документы, естественно, относились к закрытым, и на них сразу же ставился гриф “Совершенно секретно. Снятие копий воспрещается”, “Строго секретно”[45 - См.: Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930–1940: В 2 кн. Кн. 1 / Отв. ред. Н. Н. Покровский. М., 2005. С. 23–24, 300.].
Повесть “Впрок” Платонов написал весной 1930 года, и практически год она находилась в редакциях журналов и издательств. В политическом же контексте радикального поворота весны 1931 года повесть была прочитана Сталиным вполне адекватно – как обличительный документ к событиям не только весны 1930-го, но и политического виража 1931 года. “Бедняцкая хроника” по сути дела дезавуировала партийные документы 1930 и 1931 годов и сняла с них гриф секретности, потому что рассказала о том, о чем со всех концов страны писали в Москву рабочие и крестьяне. Этими скорбными письмами были завалены редакции всех центральных газет. Вот лишь некоторые фрагменты из посланий, собранных в специальные папки для ответственного редактора главной газеты страны – “Правды”. Все они датированы второй половиной 1930 года и являются реальным комментарием к ситуации вокруг “Впрок”, к повести “Котлован”, к написанию которой Платонов приступил именно в это время, и одновременно к обещаниям партии весны 1930 года:
“Всё то, что пишет Центральный комитет, нетвердое слово. Было предписание Центрального комитета возвратить нежелающим быть в коллективе лошадей и инвентарь. Этого нет абсолютно, а наоборот, приедет сканевский ГПУ тов. Поляков, да вынет наган, проходит в кабинет и говорит: поди сейчас, возьми заявление назад о выходе из колхоза, не возьмешь – загоним, как кота. <…> Я, теряя последнюю каплю крови, ходил босой и голый, а стянулся на лошаденку, ее забрали. Превратили всех в батраков. <…> Писали про головокружение, наверно, у наших вождей головокружение. Теперь мы видим, точно брехня и кругом брехня”;
“Вышедших из колхозов нарсуд судит, и накладывает штраф от 100 до 350 р., и отбирает необобществленное имущество”;
“У нас семьи 7 человек. Имели один дом, крытый железом, одну лошадь и жеребенка полтора года, теленка 2 лет, 5 овец и посеву 3 десятины… Пришли и взяли всё: жеребенка, теленка, самовар, сепаратор, овец 3 головы, картофель, свеклу, кормовое сено, солому и хотели выгнать из дому, да еще взяли теленка 4-х месяцев, который был хвор.
Мы 5 остались жить в своем селе, мне 15 лет, братишке 7 лет, 2 сестренки: 1-й – 5 лет, второй 9 месяцев и матери 48 лет. Сестренка живет в людях, чтобы не сдохнуть с голода, братишка бегает, где его приютят, там его и кормят.
Прошу у советской власти защиты”;
“В газету «Неправду» тов. редактору. <…>
А вы думаете, колокола сняли тоже по желанию верующих? А зачем в это время были вооружены все коммунисты и милиционеры… Тоже по желанию народа? <…>
Какая же это свобода вероисповедания, когда у нас в селе Раменском бывшего Бронницкого уезда при фабрике «Красный Октябрь» был приказ рабочим, чтобы все вынесли иконы для сжигания, то рабочие выносили и плакали. У нас в гор. Бронницах есть собор очень ценный, как по наружности, а также и по внутренности, и этот собор завалили хламом, которому место на свалке, и притом при самых кощунственных обстоятельствах: поставили на престол граммофон, и давай трепака. Газеты также пишут, что крестьяне очень с охотой идут в колхоз. Идут и плачут, это тоже с охотой, а почему идут – боясь, как бы не увезли в Нарым или не проглотить пулю. Нет, дорогие товарищи, правды пока нет, а только существует произвол”;
“От белой муки, от мяса, от рыбы русского мужика отвадили, как отбивают ребенка от титьки. На рынке пуд манной муки 30 р. Мясо 5 р. кило, постное масло 6 р. литр, коровье – 4 р. фунт, валяные сапоги – 40 р. На государственной фабрике № 10 ставка 7 разряда 3 р. 50 к. На голодное брюхо вялые руки норму не выполняют. Рабочие говорят: страна наша богатая Россия разорена окончательно, дело делается умышленно, хлебный голод, товарный голод. Вообще над русским народом царствует насилие и произвол, и кто будет новым Мининым и Пожарским, кто спасет страну от гибели? Сталин! – ему никто не верит, действительно у него закружилась голова, и закружил всех он”;
“В село Черепаха (Сердобского района) приехала бригада раскулачивать это село и выселять из домов кулаков, а кулаками в этом селе считали всякого крестьянина данного села. В результате получилась свалка, из бригады было убито 8 человек, из крестьян – неизвестно.
Такие же события были в Епатьевском, Черноярском и Владимирском районах”;
“Дорогой редактор, к тебе великая просьба, мы все партизаны Верхнереченского района, деревни Ангюговой, спаси Россию, пока не поздно, у нас не хватает терпенья. Я везде слышал от крестьян одно проклятье советской власти. Говорят: когда дождемся свободы и когда будет война. Вы пишете про Польшу, Папу Римского и Китай – они все не страшны нам”;
“Рабочие транспорта Киевского узла почти босые, сапог для работы нигде не достанешь”;
“Довольно показывать на китайский голод, когда сами болеем от недоедания. Неприлично украшать пустые прилавки в кооперативах портретами вождей”;
“Забравшие лошадей сразу же были арестованы и посажены, некоторые сидят в данный момент”[46 - Архив РАН. Ф. 520. Оп. 1. Ед. хр. 206.].
Закрываешь эту папку с народными письмами в том подавленном состоянии, которое описал Иосиф Бродский после прочтения “Котлована”: “Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое время”[47 - Андрей Платонов: мир творчества. М., 1994. С. 154–155.]. Писали в “Правду” не какие-то враги и бывшие белогвардейцы, а рядовой люд, бедняки и середняки, бывшие красные партизаны и демобилизованные красноармейцы, рабочие заводов, коммунисты и беспартийные. За редким исключением все письма подписаны, указаны и адреса… Письма тогда же перепечатывались и отправлялись по инстанциям. Карательная система была хорошо отлажена уже в первое советское десятилетие, и можно догадываться о судьбе народных корреспондентов “Правды”. Тексты их писем были признаны откровенной кулацкой сатирой, и на десятилетия они были закрыты для чтения и изучения.
С публикацией “Впрок” и развернувшейся критикой повести связана и еще одна кампания. Власть потребовала окончательно определиться с каноном советского сатирического текста и подвести итоги дискуссиям о сатире и юморе первого советского десятилетия. 16 сентября 1931 года состоялось заседание секретариата РАППа, на котором обсуждалась тема “Пути советской сатиры” и не раз звучало имя Платонова как создателя “кулацкой сатиры”: “Платонов получил эту оценку на страницах «Правды» только потому, что его сатира, бьющая явно под Салтыкова, была уже явно классово-враждебной кулацкой сатирой”[48 - ОР ИМЛИ. Ф. 40. Ед. хр. 37. Л. 6, 11.] (курсив наш. – Н. К.). Выступавший с заключительным словом генеральный секретарь РАППа Л. Авербах призвал Академию наук к серьезной теоретической разработке вопросов советской сатиры.
На стенограмме доклада о сатире и юморе, прочитанного И. М. Нусиновым 7 октября 1931 года в главной кузнице кадров гуманитарной науки – Институте литературы и языка (ЛИЯ) Коммунистической академии, проставлена резолюция руководства института: “Использование стенограммы только с разрешения Директората”[49 - Архив РАН. Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 304. Л. 1.]. Действительный член Комакадемии Исаак Нусинов, прославившийся к этому времени участием в кампаниях разоблачения буржуазных тенденций в литературе, критике и литературоведении, представил вполне профессиональный социально-политический анализ идеологии ведущих советских сатириков и юмористов. Вопрос сатиры М. Булгакова к этому времени уже был отработан в критике 1920-х годов, и здесь особых нюансов не возникало: “…в идеологическом плане М. Булгаков не советский литератор”. К не нарушающим фундаментальные основы советской идеологии Нусинов отнес сатиру И. Эренбурга с ее “иронической формой”, романы И. Ильфа и Е. Петрова (остроумная “оппозиция против прошлого”, когда “отрицательное прошлое показано в юмористических поверхностных тонах”), а также не сатирические, а юмористические новеллы М. Зощенко и П. Романова (“юморист оплакивает распад родного для него мира, погибающего под ударами нового мира”). Имя автора “Впрок” Нусинов даже не упоминает, однако именно к нему относится это заключение о сатире, которой должна быть закрыта дорога на страницы советской печати: “Это сатира не исправляющая систему, не самокритическая, не как критика друга или попутчика, а сатира, уничтожающая систему”[50 - Там же. Л. 8.] (курсив наш. – Н. К.). Добавим: уничтожающая языком самого народа. Такого в “год великого перелома”, тогда же названного еще и “второй большевистской” революцией, не позволил себе никто из современников Платонова.
В этом политическом контексте становится понятной развязка историй двух пролетарских писателей, попавших в немилость к Сталину. В то время как в печати разворачивалась антиплатоновская кампания, обвиненный в политических грехах Демьян Бедный уже был прощен и переживал новое восхождение к вершинам литературного и политического успеха. 20 мая 1931 года все центральные газеты отводят целые страницы под материалы, посвященные празднованию двадцатилетия активной работы первого пролетарского поэта. На первой странице “Правды” 20 мая печатается стихотворение Бедного “Вытянем!!”, посвященное магнитогорским строителям. Эпиграфом к нему взяты строки из приветствия Сталина, опубликованного в той же “Правде” буквально накануне – 19 мая.
Не прошло и полугода после партийного постановления о фельетонах Бедного, но об этом уже никто не вспоминал. Критики соревновались в красочных метафорах: “Художник-партиец”; “Выдающийся мастер художественного слова и выдающийся культурный работник”; “Боевому краснознаменцу и культармейцу”; “Ударник большевистской литературы”; “Двадцать лет на боевом посту”[51 - За коммунистическое просвещение. 1931. 20 мая. С. 2.]. Демьян выступает на пленуме Всероссийского объединения ассоциаций пролетарских писателей (ВОАПП) с программной политической речью о пролетаризации всех смежных с литературой областей искусства (т. е. “одемьянивании” не только поэзии, но всего и вся): “…ряды пролетарских писателей множатся. <…> Разбиты контрреволюционные, буржуазные группировки и «единоличники», обезврежены их мелкобуржуазные подголоски «справа» и «слева», упорно вычищается, по меткому выражению Ф. Кона, «щетками классового сознания» весь хлам, проникший в те или иные поры ВОАППовского организма, куется единство пролетарских литературных колонн”[52 - За генеральную линию партии. На пленуме ВОАПП // Там же. 28 мая. С. 4.]. Почти все газеты известили читателя о выходе 17 томов Собрания сочинений Д. Бедного, завершении подготовки еще трех томов, о торжественных заседаниях в его честь в Федерации советских писателей и в Коммунистической академии.
В отличие от Бедного Платонову в колоннах пролетарской литературы не было места. За Бедным стояла власть, которой он самозабвенно служил. За Платоновым не стоял никто: ни власть, ни литературная общественность, ни своя литературная среда.
На письма Платонова не отвечали ни Сталин, ни его окружение. Молчали и писатели-современники. Молчал Горький, получив летом 1931 года письмо Платонова с разъяснением истории вокруг “Впрок”. Это можно понять. Также можно понять, почему он молчал, когда Платонов просил его в письме 1933 года ответить на прямо поставленный вопрос: “…могу ли я быть советским писателем, или это объективно невозможно”. Вопрос, мягко говоря, риторический. Сегодня мы можем сказать, что все усилия Горького помочь Платонову стать советским писателем закончились крахом. Свидетельством этого является история участия Платонова в горьковских проектах 1933–1935 годов и список не принятых к печати произведений, написанных в ходе этой работы: роман “Счастливая Москва”, повесть “Джан”, рассказы “Семейство”, “Мусорный ветер” и “Московская скрипка”, философское эссе “О первой социалистической трагедии”.
Письма, рассказывающие о самых драматических, а порой и скорбных страницах жизни писателя, выполнены в той же интонации и стилистике, что и его проза. Как и “душевный бедняк”, герой крамольной “Бедняцкой хроники”, справедливо причисленный критикой к отечественной традиции юродства, Платонов в письмах к Сталину и властям по-юродски формулировал свою тему и вопросы прямо, “в лоб”, как он любил выражаться, и так же, как его герой, “способен был ошибиться, но не мог солгать” (“Впрок”). Житейская логика, как известно, иная: чтобы не ошибиться, можно и солгать… Отвечая 27 июня 1931 года (уже написаны письма Сталину и в центральные газеты, идет вал погромной критики) на анкету “Какой нам нужен писатель” журнала “На литературном посту”, Платонов назовет среди написанных им в последние два года произведений крамольные “Котлован” и “Шарманку”, а на вопрос “Какие затруднения встречаете вы в своей работе” сначала пишет некую общую формулу: “Затруднения внутреннего порядка: не могу еще писать так, как необходимо…” – а затем дописывает ее в логике бедного и уже уничтоженного Макара Ганушкина с его сердечным вопросом “Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен?”: “…пролетариату и мне самому”[53 - РГАЛИ. Ф. 1698. Оп. 1. Ед. хр. 1055. Л. 1–2; Андрей Платонов: воспоминания современников: материалы к биографии. М., 1994. С. 286–287.].
* * *
В ряду корреспондентов Платонова значимое место занимает Александр Фадеев. Письма Платонова к Фадееву представляют ценные материалы не только для биографии Платонова, но и для постижения человеческой и писательской драмы его современника и ровесника. Фадеев был всего на два года младше Платонова, всесоюзный литературный дебют обоих пришелся практически на одно время – середину первого советского десятилетия, но сколь разнятся их путь в пролетарскую литературу и представление о ней. Трудно сказать, были ли их отношения дружескими. В письмах Платонов обращается к Фадееву по имени и отчеству и лишь дважды сбивается на дружеское “Александр”.
Фадеев оказался одной из ключевых фигур в трех литературно-политических кампаниях исключения Платонова из литературы: история с публикацией “Впрок” (1931); дискуссия в Союзе писателей о “Литературном критике” (1939–1940); история вокруг рассказа “Семья Иванова” на фоне борьбы за советский патриотизм в освещении Великой Отечественной войны (1946–1950).
Именно Фадеев, будучи ответственным редактором журналов “Октябрь” и “Красная новь”, опубликовал крамольные произведения Платонова – рассказ “Усомнившийся Макар” (1929) и повесть “Впрок” (1931) – и вполне благополучно вышел из истории с их публикацией, более того, после закрытия РАППа (1932) вошел в оргкомитет по подготовке Первого съезда советских писателей, присутствовал на съезде в качестве делегата с решающим голосом, избран в правление ССП, а в начале 1939 года возглавил писательский союз и в первый же год своего пребывания на посту руководителя Союза советских писателей благословил погромную кампанию литературно-критических книг Платонова (“Николай Островский”, “Размышления читателя”).
Ни одного ответного письма Фадеева Платонову в настоящее время не выявлено. Фадеев не ответил даже на письма уже смертельно больного Платонова 1947–1949 годов, просто умолявшего его оказать содействие в издании избранных произведений… Несмотря на бюрократические секретарские обязанности, Фадеев в эти годы отвечает на письма-просьбы О. Форш, Н. Заболоцкого, Б. Пастернака и других также не очень обласканных властью писателей[54 - См.: Александр Фадеев. Письма и документы / Составление и комментарии Н. И. Дикушиной. М., 2001. С. 134–137, 249, 261–267.]. 12 ноября 1946 года К. Чуковский записывает в дневнике признательные слова: “Фадеев ведет себя по отношению ко мне изумительно. Выслушав фрагменты моей будущей книги, он написал 4 письма: два мне, одно Симонову в «Новый мир», другое Панферову в «Октябрь», хваля эту вещь; кроме того, восторженно отозвался о ней в редакции «Литгазеты»; и, говорят, написал еще большое письмо о том, что пора прекратить травлю против меня”[55 - Чуковский К. Дневник (1930–1969). М., 1995. С. 177.].
Случай с Платоновым оказался для генерального секретаря Союза советских писателей Фадеева особым, в некотором смысле исключительным. Видимо, в третий раз – после ошибок с “Усомнившимся Макаром” и “Впрок” – он решил не рисковать своей политической репутацией, ограничившись выделением материальной помощи Платонову (ничего исключительного в этом не было; решениями секретариата помощь в эти годы выделялась идеологически “неблагополучным” М. Зощенко, А. Ахматовой, Б. Пастернаку и др.). Характерную деталь отношения Фадеева к “делу” Платонова сохранила стенограмма заседания секретариата ССП от 4 февраля 1950 года, на котором Фадеев докладывал вопрос о выделении тяжело больному Платонову средств на путевку в Крым и произносил буквально следующее: “В связи с угрожающим для жизни положением больного туберкулезом писателя А. П. Платонова и необходимости его переезда на постоянное жительство на юг выдать А. Платонову единовременную безвозвратную ссуду в размере 10 000 рубл<ей> (десять тысяч рублей). О выдаче ссуды сговориться с т. Константиновым (Софронов: просить Крымский обком партии помочь в организации местожительства т. Платонову). Варвара Петровна, позвоните жене Платонова и скажите, что пока вопрос с книгой затягивается. Секретариат ССП вынес постановление, чтобы ему выдали единовременную безвозвратную ссуду в размере 10 тыс<яч> руб<лей>”[56 - РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 1045. Л. 35. А. Т. Константинов – председатель Литфонда СССР, Варвара Петровна – зав. секретариатом ССП В. П. Зеленская.].
Остается вопрос: понимал ли Фадеев масштаб Платонова-писателя и сделанное им в русской литературе, когда поручал заведующей секретариатом В. П. Зеленской таким образом довести до Платонова принятое решение?.. Варвара Петровна также составляла от имени секретариата бюрократические записки к возвращенным рукописям книг Платонова (никто из секретариата не обременил себя хотя бы небольшой дружеской запиской) и отправляла их вместе с рукописями тяжелобольному писателю: “Рукописи Платонова вернуть автору по распоряжению Л. М. Субоцкого – Зеленская. 13/8”[57 - ОР ИМЛИ. Ф. 629. Оп. 4. Ед. хр. 20. Л. 2.].
Ответ на поставленный выше отчасти риторический вопрос можно найти в дружеской переписке Фадеева с Петром Павленко 1930-х годов. Поразительное своей откровенностью письмо 1935 года никогда (!) не публиковалось. Редкие минуты откровения Фадеева наедине с самим собой, размышления о собственном творчестве, сравнения, как понимали искусство классики и советские писатели, их отношение к окружающей действительности и художественные результаты – горестная исповедь перемежается ироническими ремарками и перерастает в саморазоблачительный текст, пронизанный проницательными оценками советской литературы и ее места в мировой культуре:
“…я всегда чувствовал, что у меня (и у большинства современных) в изображении прошлого ли, настоящего ли несчастья людей есть в лучшем случае сила чувствительности, но не сила горечи, а именно она нужна, чтобы вызвать реакцию действенную: стремление переделать, изменить, улучшить жизнь. Впрочем, сейчас как-то всем существом тянешься к передаче радостных сторон жизни, и это, конечно, затрудняет мне несколько работу над «Удэге»: я с удовольствием настрогал бы сейчас кучу бодрых простых рассказов о колхозниках, красноармейцах, лесорубах, охотниках, корейцах, инженерах, летчиках и т. д. Говорить и писать о существе своей работы, ее «душе» и о технике, мы правда не умеем. Объясняется это, конечно, тем, что писатели мы, наверно, не очень хорошие. Какой-нибудь «мой творческий опыт рабочему автору» (есть и у меня такая книжка, а какой уж там «творческий» и какой уж там «опыт»!) – это в общем серая болтовня о том, чего сам не знаешь. Думаю, что объясняется это тем, что у нас – даже тогда, когда, как я сейчас, все силы отданы работе, – нет настоящей культуры писательского труда и того «напряженного внимания, направленного на предмет, которое позволяет увидеть его с новой неожиданной стороны» (Л. Толстой о Мопассане). Может быть, это еще придет. Иногда мне кажется, что и «принятие» – в смысле восторга, очарования, симпатии, способности подвергнуться влиянию и т. п. – слишком разных (по манере, по духу, по технике и школе) писателей прошлого и настоящего тоже свидетельствует не столько о широте ума и чувства, сколько об отсутствии (пока что) собственной, глубоко продуманной и прочувствованной творческой линии – не в общем, а в индивидуальном смысле. Мне, например, в конечном счете понравилась «Смерть Вазир-Мухтара», книга взволновала меня. В то же время Толстой, например, до сих пор самый великий и близкий для меня писатель. А я думаю, что Толстому никак не мог бы понравиться Тынянов – не потому, что Толстой «у?же», а я «шире», а потому, что Толстой именно и велик этой своей неповторимой, могучей индивидуальностью, для которой Тынянов – сплошная ложность, красивость, блеф. <…> К сожалению, часто, слишком часто подозреваешь только что написанную тобой страницу в том, что это где-то когда-то кем-то и приблизительно так же было уже написано. И только искренность пережитого волнения и сознание, что общая мысль романа индивидуальна и нова, стимулирует работу. Естественно, что и нечего бывает сказать о своей литературной работе, кроме общих мест, ибо нет убежденности в своем пути, яростного отвергания для себя (т. е. не в смысле хулиганского выбрасывания за борт, а неприемлемости в работе) чужого пути, нет настоящего поиска своей манеры – это с одной стороны, и нет настоящей муки, муки до боли в голове, до слез над тем, что не выходит в моменты сомнений. Все это признаки ремесленничества, и притом ремесленничества человека, плохо знающего свое ремесло. Единственное, что «украшает», это правдивое сознание, что у настоящих творцов было хорошо, а у тебя выходит дурно. Вот это переживается искренне, глубоко и подчас с истинной болью, потому что ведь хочется высказаться в полный голос, а в моменты каких-то взлетов кажется, что есть что сказать – такое, чего никто не сказал. В сущности, я написал тебе о том, что в личной моей работе больше всего меня волнует и печалит сейчас. А когда перечел, то подумал, что – попади такое письмецо в соответствующий сборничек (скажем: «Корифеи советской литературы о своей работе», год изд. 1984), писатель будущего мог бы только и извлечь из него то скудное соображеньице, что и «они, дескать, в себе сомневались». Но научить тому, как надо работать, вселить бодрость в сердце, как вселяют в него строки «мастера искусства и т. д.» (даже тогда и там, где мастера сомневаются и мучаются), – это письмецо не смогло бы. Но именно поэтому оно и не попадет в «соответствующий сборничек», и именно поэтому мы не мастера, а… Есть еще хороший утешитель – критерий «полезности». Утешимся, Петя, тем, что мы писатели «полезные»”[58 - РГАЛИ. Ф. 2199. Оп. 3. Ед. хр. 181. Л. 2–6.].
В письме к “милому Пете” от 24 октября 1936 года Фадеев снова доверительно рассказывает товарищу о сокровенных темах своего писательства, о том, что “очень трудно писать, когда уже стал «искушенным»”, и о переживаемой им немоте. Это, можно сказать, общечеловеческая и вечная тема писательства, однако с одной существенной поправкой, немыслимой ни для Пушкина, ни для Толстого, ни для Платонова. “Милому Пете”, которого он, как и себя, причисляет к немногочисленной когорте “умных” писателей и “истинных сынов своего времени” (“не очень умным” в этом и других письмах назван Шолохов), Фадеев вновь доверительно сообщает чистую крамолу. Оказывается, советская литература совсем не исповедует верность принципам реализма Льва Толстого, которого сам Фадеев еще в 1926 году назвал главным учителем пролетарской литературы: “…для нас не столько дело в знании жизни – ведь мы чертовски много видели и знаем! – а все дело в подлинном правдивом выражении своих мыслей и чувств от самых высоких до самых низменных, – и здесь мы еще не достигли «бесстрашия», здесь что-то нас еще пугает и сковывает”[59 - Александр Фадеев. Письма и документы. С. 51.].
Какой-то особой склонностью к метафизичности и чистой эстетике не отличался ни сам Фадеев, ни его литературные писания. Это не в укор, таким было его дарование. В опубликованной через несколько месяцев статье с каноническим для советской литературы этих лет названием “Учиться у жизни” (“Литературная газета”. 1937. 15 апреля) он признается, что восхищается романами Шолохова, но с одной существенной поправкой: “И все-таки в его книгах недостаток большой, всеобъемлющей, всечеловеческой мысли…” Фадеев не уточняет, что он вкладывает в понятие “своей” (в письме) и “большой, всеобъемлющей, всечеловеческой мысли” (в статье), однако водораздел между правдой жизни и собственной некоей эстетикой проведен со всей определенностью. Данные установки советской литературы очень важны для понимания эпистолярных “диалогов” Платонова с Фадеевым и его верными заместителями по руководству Союзом писателей. “Мрачный” Платонов был им глубоко чужд, они ведь тоже знали, как живет низовая Россия, однако смысл писательства видели в другом – в некой абстрактной идее о “большой, всеобъемлющей, всечеловеческой мысли”. Он вызывал у многих своих современников по меньшей мере раздражение своей неуступчивостью, наличием той “идеи пути” (определение А. Блока), о которой догадывался тот же Фадеев, что без нее и “настоящей муки, муки до боли в голове”, не бывает подлинных художественных открытий.
Примечательные записи к этой теме мы нашли в дневнике Всеволода Вишневского послевоенных лет, той поры, когда он был заместителем генерального секретаря Союза писателей и принимал решение по письмам Платонова:
“Я недавно прочел 25 писем из Кур<ской> области – о жизни колхозников. – (Письма к депутату.) – Тяжелое впечатление: отобранные участки; невыплата пенсий; чрезмерн<ое> обложение; несправедлив<ые> увольнения; облыжные обвинения и т. д., и т. д. – Нужда, беды человеческие… Но жить только ими – можно задохнуться, сойти с ума, погрузиться в пессимизм безвыходный… Помогают обобщения, мечта, устремленность в будущее, сам процесс борьбы, преодоления и некая поэзия истории, некая абстрагированность…”[60 - РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2136. Л. 31.] (запись от 21 января 1947 года; курсив наш. – Н. К.); “Дежурство в секретариате ССП: принял человек 15. – Просьбы, – о мат<ериальной> помощи… – Ряд людей бледен, худ… Многие болеют, устали, недоедают явно…
В подъезде нашего дома: две женщины. На одной пальто на голое тело. – «Мы эвакуированы в 41 г<оду> из Буковины. Сейчас едем – эшелоном – обратно… В эшелоне холод… Умерло пятеро сегодня… Дети… – Помогите.» – Цены на рынках растут: картофель 20 руб<лей> кило. – Видимо, к лету трудности будут еще крупнее”[61 - Там же. Ед. хр. 2137. Л. 20 об.] (запись от 24 февраля 1947 года);
2
Особое место в переписке Платонова занимают его письма к власть предержащим: руководителям страны, генеральному секретарю Союза писателей и просто секретарям всех уровней, главным редакторам журналов и издательств. За исключением переписки с М. Горьким, письма Платонова к этим корреспондентам представляют тип безответного письма. Сегодня, когда мы значительно больше знаем о советском ХХ веке, безответные письма Платонова прочитываются как документ исторической и литературной эпохи, пронзительные и обличительные свидетельства самого времени.
У каждого из молчащих корреспондентов были свой резон и свои мотивы отложить личное послание писателя и не отвечать на него. Политическими и литературными обстоятельствами 1926 года можно как-то объяснить, почему не отвечает Александр Константинович Воронский (один из столпов литературной жизни первого советского десятилетия) на просьбу Платонова помочь ему преодолеть гибельную ситуацию первого московского года жизни и опубликовать его новые произведения. Но не всё объясняется и оправдывается обстоятельствами. Платонов, как свидетельствуют его письма к жене 1927 года, рассчитывал, что с публикацией книги “Епифанские шлюзы” – заметим, книги первоклассной, зрелой прозы – придет литературное признание. Но этого не произошло. В этом же году главные толстые журналы “Красная новь” и “Новый мир” отказываются от публикации подлинного шедевра – повести “Сокровенный человек”. Платонова не заметили и после выхода второй книги в 1928 году; более того, появились слухи, что печатаемое под именем Платонова ему не принадлежит, а написано каким-то “старым” писателем[36 - См. об этом в письме жене 1928 года, с. 255 наст. издания.]… Ведущим критикам, погруженным в литературную и политическую борьбу, в общем-то, и недосуг было читать книги появившегося в Москве писателя, за которым никто не стоял: ни группировка, ни авторитетные для эпохи имена. Критика бросится создавать репутацию Платонову, как только обозначится актуальный политический заказ. В 1929 году на Платонова обратят внимание в связи с политическим “делом” Пильняка и Замятина, в ходе которого вспомнят рассказ “ЧеЧе-О”, опубликованный в “Новом мире” как совместная работа Пильняка и Платонова. Впечатление о Платонове как ученике Пильняка сохранится в литературном сообществе надолго, а его публичные объяснения[37 - См.: “Б. А. Пильняк «Че-Че-О» не писал. Написан он мною единолично. Б. Пильняк лишь перемонтировал и выправил очерк по моей рукописи” (“Против халтурных судей (Ответ В. Стрельниковой)”, 1929). Автограф очерка “Че-Че-О” хранится в фонде А. Платонова ОР ИМЛИ (Ф. 629. Оп. 1. Ед. хр. 92).] критика не захочет услышать. В донесении в НКВД от 10 декабря 1930 года этот образ приобретает и вовсе гротескные черты: “Сказывается здесь и та закваска, кот<oрую> Платонов получил в начале своей лит<ературной> работы. Ведь, когда он только начал писать, на него сразу же обратил внимание Пильняк, помог ему овладеть грамотой. Приобрел этим влияние на него и, конечно, немало попортил”[38 - Андрей Платонов в документах ОГПУ – НКВД – НКГБ. 1930–1945 / Публикация В. Гончарова и В. Нехотина // “Страна философов” Андрея Платонова: Проблемы творчества. Вып. 4. С. 850.] (курсив наш. – Н. К.).
Чисто политический характер имеет и история вокруг публикации рассказа “Усомнившийся Макар”, с которой к Платонову придет всесоюзная известность. События развивались следующим образом: недовольство Сталина – признание редакцией допущенной ошибки – статья вождя РАППа критика Л. Авербаха “О целостных масштабах и частных Макарах”, напечатанная в журналах (“Октябрь”, “На литературном посту”), а 3 декабря 1930 года – на страницах главной газеты страны – “Правды”. Именно в 1930 году в НКВД заводится папка, в которую начинают собираться материалы о Платонове, поставляемые общавшимися с ним современниками. Первые донесения в папке датированы 6 декабря 1930 года, т. е. появляются сразу после правдинской статьи Авербаха и письма Платонова в редакцию “Правды”. В уже цитированной сводке от 10 декабря 1930 года, написанной близким Платонову и явным знатоком литературной жизни “года великого перелома”, в целом точно описывается ситуация Платонова, оказавшегося в промежутке между двумя главными литературными лагерями – пролетарских писателей и попутчиков – и не примкнувшего ни к одному из них: “Бытовые условия Платонова очень трудные – нет комнаты, нет денег, износилась одежда. Литературные работники из РАППа или близко стоящие к пролетсектору от него отшатнулись после скандального рассказа «Усомнившийся Макар» (в «Октябре»). Этим пользуются «попутчики», группирующиеся вокруг изд<ательст>ва «Федерация». Они чувствуют в нем силу <…> и, вызывая в нем раздражение против слабых писателей, в бытовом плане обставленных гораздо лучше его, стараются закрепить его за своим лагерем”[39 - Там же.].
“Правда” не напечатала письмо Платонова с разъяснениями его литературной позиции сочувственного отношения к Макару Ганушкину. Не того от него ждали, да и, кажется, он сам еще пытался выйти из ситуации по-гоголевски, когда писал новый финал жизни “частного Макара” (рассказ “Отмежевавшийся Макар”) и отдавал “невыясненному” Умрищеву (повесть “Ювенильное море”) важнейшие вехи своей политической биографии: “Умрищев давно был исключен из партии, перенес суд и отрекся в районной газете от своего чуждого мировоззрения”. Однако пролетарским писателям рекомендовалось учиться у Салтыкова-Щедрина и Гоголя описывать отрицательные типы прошлого и настоящего только с позиций нового мира и его идеологии, из которой однозначно был исключен гоголевский “смех сквозь слезы” как проявление реакционной традиции русской классической литературы. Нахождение внутри этой смеховой традиции жизни и культуры, где, по словам любимого Платоновым В. Розанова, вечно “пререкаются” ангел смеха и ангел слез, является устойчивой чертой художественной идеологии Платонова. Однако о результатах этой устойчивости, проявившей себя в опубликованной в журнале “Красная новь” повести “Впрок (Бедняцкая хроника)”, ему придется объясняться в 1931 году уже вполне по-серьезному. В первом письме в “Правду” и “Литературную газету” Платонов еще пытался отшутиться, однако вскоре стало не до шуток. Ему предстояло объясниться с главным читателем страны – И. Сталиным, и в этой ситуации разворачивающейся интриги вокруг публикации “Бедняцкой хроники” проявит свою силу текущий политический момент весны 1931 года.
Остановимся более подробно на политической ситуации писем Платонова во власть 1931 года, о которой писателю будут напоминать до конца его жизни, а повесть “Впрок” впервые переиздадут в СССР только во второй половине 1980-х годов, и то с купюрами.
В эти годы Сталин получал немало писем от советских писателей, оказавшихся в зоне истребительной критики и отлучения от литературы, однако в переписку с ними не вступал. В некотором смысле исключителен и одновременно показателен случай с “первым пролетарским поэтом” и кремлевским жителем Демьяном Бедным[40 - Д. Бедный жил в Кремле (до 1933 года), в поездках по СССР ему предоставлялся собственный “протекционный вагон”, его стихотворные фельетоны без задержки печатались в “Правде” и “Известиях” практически каждую неделю (см.: Большая цензура. Писатели и журналисты в стране Советов. 1917–1956. Документы. М., 2005. С. 103, 107, 109).]. Самый успешный писатель советской России впервые крупно ошибся в 1930 году, опубликовав в “Правде” и “Известиях” цикл очередных фельетонов. Бедный привычно и виртуозно клеймил русского “мужика” со всеми его историческими пороками, клеймил в полном следовании идеологическому курсу “года великого перелома” (название статьи И. Сталина, опубликованной в “Правде” 7 ноября 1929 года), однако в официальном пропагандистском дискурсе в течение полугода происходят радикальные изменения, определяемые статьями Сталина “Головокружение от успехов” (“Правда”, 1930, 2 марта), “Ответ товарищам-колхозникам” (3 апреля) и “Постановлением ЦК ВКП(б) о борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении” (15 марта). Партия неожиданно публично осудила “перегибы” в проведении коллективизации и заявила о борьбе с “искривлениями и их носителями”, с “опьяненными успехами товарищами”, которые “стали сползать с пути наступления на кулака на путь борьбы с середняком”, и призвала на местах преодолеть “головокружение от успехов”…
Принятое 6 декабря 1930 года постановление секретариата ЦК ВКП(б) “О фельетонах Демьяна Бедного «Слезай с печки», «Без пощады»” выполнено в полном следовании духу и букве партийных документов весны 1930 года: “ЦК обращает внимание редакций «Правды» и «Известий», что за последнее время в фельетонах т. Демьяна Бедного стали появляться фальшивые нотки, выразившиеся в огульном охаивании «России» и «русского» (статьи «Слезай с печки», «Без пощады»); в объявлении «лени» и «сидения на печке» чуть ли не национальной чертой русских («Слезай с печки»); в непонимании того, что в прошлом существовало две России, Россия революционная и Россия антиреволюционная, причем то, что правильно для последней, не может быть правильным для первой; в непонимании того, что нынешнюю Россию представляет ее господствующий класс, рабочий класс, и прежде всего русский рабочий класс, самый активный и самый революционный отряд мирового рабочего класса, причем попытка огульно применить к нему эпитеты «лентяй», «любитель сидения на печке» не может не отдавать грубой фальшью. ЦК надеется, что редакции «Правды» и «Известий» учтут в будущем эти дефекты в писаниях т. Демьяна Бедного”[41 - См.: Власть и художественная интеллигенция. Документы. 1917–1953. М., 1999. С. 131.]. Этот документ, опубликованный в центральных газетах, обнадежил многих, в том числе и автора “Впрок”, и тех, кто принимал решение о публикации повести.
Бедный пишет истерическое письмо Сталину, выдержанное в стилистике плача: “Пришел час моей катастрофы. Не на «правизне», не на «левизне», а на «кривизне». Как велика дуга этой кривой. <…> Я неблагополучен. Меня не будут почитать после этого не только в этих двух газетах – насторожатся везде”[42 - Там же. С. 132–133.]. В развернутом послании от 12 декабря 1930 года Сталин сформулирует “ясный ответ” Бедному, и не только ему. Для партии и для него как представителя верховной власти в стране нет писателей вне партийной критики, и эта критика должна восприниматься как директива и закон: “Десятки поэтов и писателей одергивал ЦК, когда они допускали отдельные ошибки. Вы всё это считали нормальным и понятным. А вот когда ЦК оказался вынужденным подвергнуть критике Ваши ошибки, Вы вдруг зафыркали и стали кричать о «петле». На каком основании? Может быть, ЦК не имеет права критиковать Ваши ошибки? Может быть, решение ЦК не обязательно для Вас? Может быть, Ваши стихотворения выше критики?”[43 - Там же. С. 134–137; в сокращении: Сталин И. Сочинения. Т. 13. М., 1951. С. 23–24.]
Повесть Платонова “Впрок” Сталин будет читать совсем скоро – в первых числах мая 1931 года. Правда, в отличие от письма к Бедному, внесенного в биографическую хронику 13-го тома сочинений Сталина (“И. В. Сталин пишет ответ на письмо Демьяна Бедного”[44 - Там же. С. 401.]), это событие в ней не отмечено. На письмо Платонова Сталин не ответил.
Политический вектор менялся стремительно. Если весной 1930 года, опираясь на авторитет последних партийных документов о коллективизации, можно было осмеивать “перегибщиков” всех мастей, то через год прошлогодние формулировки в отношении коллективизации были прочно забыты и власть продолжила прежний карательный курс на сплошную коллективизацию. Именно на весну – лето 1931 года приходится принятие ряда основополагающих документов по депортации “кулаков”, “пролезших в колхозы” и избежавших по каким-либо причинам экспроприации и высылки; специальной комиссией Политбюро регулярно утверждаются планы переселения кулацких семей и списки новораскулаченных (иногда на одном заседании – до 150 тысяч кулацких семей) и т. п. Все эти документы, естественно, относились к закрытым, и на них сразу же ставился гриф “Совершенно секретно. Снятие копий воспрещается”, “Строго секретно”[45 - См.: Политбюро и крестьянство: высылка, спецпоселение. 1930–1940: В 2 кн. Кн. 1 / Отв. ред. Н. Н. Покровский. М., 2005. С. 23–24, 300.].
Повесть “Впрок” Платонов написал весной 1930 года, и практически год она находилась в редакциях журналов и издательств. В политическом же контексте радикального поворота весны 1931 года повесть была прочитана Сталиным вполне адекватно – как обличительный документ к событиям не только весны 1930-го, но и политического виража 1931 года. “Бедняцкая хроника” по сути дела дезавуировала партийные документы 1930 и 1931 годов и сняла с них гриф секретности, потому что рассказала о том, о чем со всех концов страны писали в Москву рабочие и крестьяне. Этими скорбными письмами были завалены редакции всех центральных газет. Вот лишь некоторые фрагменты из посланий, собранных в специальные папки для ответственного редактора главной газеты страны – “Правды”. Все они датированы второй половиной 1930 года и являются реальным комментарием к ситуации вокруг “Впрок”, к повести “Котлован”, к написанию которой Платонов приступил именно в это время, и одновременно к обещаниям партии весны 1930 года:
“Всё то, что пишет Центральный комитет, нетвердое слово. Было предписание Центрального комитета возвратить нежелающим быть в коллективе лошадей и инвентарь. Этого нет абсолютно, а наоборот, приедет сканевский ГПУ тов. Поляков, да вынет наган, проходит в кабинет и говорит: поди сейчас, возьми заявление назад о выходе из колхоза, не возьмешь – загоним, как кота. <…> Я, теряя последнюю каплю крови, ходил босой и голый, а стянулся на лошаденку, ее забрали. Превратили всех в батраков. <…> Писали про головокружение, наверно, у наших вождей головокружение. Теперь мы видим, точно брехня и кругом брехня”;
“Вышедших из колхозов нарсуд судит, и накладывает штраф от 100 до 350 р., и отбирает необобществленное имущество”;
“У нас семьи 7 человек. Имели один дом, крытый железом, одну лошадь и жеребенка полтора года, теленка 2 лет, 5 овец и посеву 3 десятины… Пришли и взяли всё: жеребенка, теленка, самовар, сепаратор, овец 3 головы, картофель, свеклу, кормовое сено, солому и хотели выгнать из дому, да еще взяли теленка 4-х месяцев, который был хвор.
Мы 5 остались жить в своем селе, мне 15 лет, братишке 7 лет, 2 сестренки: 1-й – 5 лет, второй 9 месяцев и матери 48 лет. Сестренка живет в людях, чтобы не сдохнуть с голода, братишка бегает, где его приютят, там его и кормят.
Прошу у советской власти защиты”;
“В газету «Неправду» тов. редактору. <…>
А вы думаете, колокола сняли тоже по желанию верующих? А зачем в это время были вооружены все коммунисты и милиционеры… Тоже по желанию народа? <…>
Какая же это свобода вероисповедания, когда у нас в селе Раменском бывшего Бронницкого уезда при фабрике «Красный Октябрь» был приказ рабочим, чтобы все вынесли иконы для сжигания, то рабочие выносили и плакали. У нас в гор. Бронницах есть собор очень ценный, как по наружности, а также и по внутренности, и этот собор завалили хламом, которому место на свалке, и притом при самых кощунственных обстоятельствах: поставили на престол граммофон, и давай трепака. Газеты также пишут, что крестьяне очень с охотой идут в колхоз. Идут и плачут, это тоже с охотой, а почему идут – боясь, как бы не увезли в Нарым или не проглотить пулю. Нет, дорогие товарищи, правды пока нет, а только существует произвол”;
“От белой муки, от мяса, от рыбы русского мужика отвадили, как отбивают ребенка от титьки. На рынке пуд манной муки 30 р. Мясо 5 р. кило, постное масло 6 р. литр, коровье – 4 р. фунт, валяные сапоги – 40 р. На государственной фабрике № 10 ставка 7 разряда 3 р. 50 к. На голодное брюхо вялые руки норму не выполняют. Рабочие говорят: страна наша богатая Россия разорена окончательно, дело делается умышленно, хлебный голод, товарный голод. Вообще над русским народом царствует насилие и произвол, и кто будет новым Мининым и Пожарским, кто спасет страну от гибели? Сталин! – ему никто не верит, действительно у него закружилась голова, и закружил всех он”;
“В село Черепаха (Сердобского района) приехала бригада раскулачивать это село и выселять из домов кулаков, а кулаками в этом селе считали всякого крестьянина данного села. В результате получилась свалка, из бригады было убито 8 человек, из крестьян – неизвестно.
Такие же события были в Епатьевском, Черноярском и Владимирском районах”;
“Дорогой редактор, к тебе великая просьба, мы все партизаны Верхнереченского района, деревни Ангюговой, спаси Россию, пока не поздно, у нас не хватает терпенья. Я везде слышал от крестьян одно проклятье советской власти. Говорят: когда дождемся свободы и когда будет война. Вы пишете про Польшу, Папу Римского и Китай – они все не страшны нам”;
“Рабочие транспорта Киевского узла почти босые, сапог для работы нигде не достанешь”;
“Довольно показывать на китайский голод, когда сами болеем от недоедания. Неприлично украшать пустые прилавки в кооперативах портретами вождей”;
“Забравшие лошадей сразу же были арестованы и посажены, некоторые сидят в данный момент”[46 - Архив РАН. Ф. 520. Оп. 1. Ед. хр. 206.].
Закрываешь эту папку с народными письмами в том подавленном состоянии, которое описал Иосиф Бродский после прочтения “Котлована”: “Если бы в эту минуту была возможна прямая трансформация психической энергии в физическую, то первое, что следовало бы сделать, закрыв данную книгу, это отменить существующий миропорядок и объявить новое время”[47 - Андрей Платонов: мир творчества. М., 1994. С. 154–155.]. Писали в “Правду” не какие-то враги и бывшие белогвардейцы, а рядовой люд, бедняки и середняки, бывшие красные партизаны и демобилизованные красноармейцы, рабочие заводов, коммунисты и беспартийные. За редким исключением все письма подписаны, указаны и адреса… Письма тогда же перепечатывались и отправлялись по инстанциям. Карательная система была хорошо отлажена уже в первое советское десятилетие, и можно догадываться о судьбе народных корреспондентов “Правды”. Тексты их писем были признаны откровенной кулацкой сатирой, и на десятилетия они были закрыты для чтения и изучения.
С публикацией “Впрок” и развернувшейся критикой повести связана и еще одна кампания. Власть потребовала окончательно определиться с каноном советского сатирического текста и подвести итоги дискуссиям о сатире и юморе первого советского десятилетия. 16 сентября 1931 года состоялось заседание секретариата РАППа, на котором обсуждалась тема “Пути советской сатиры” и не раз звучало имя Платонова как создателя “кулацкой сатиры”: “Платонов получил эту оценку на страницах «Правды» только потому, что его сатира, бьющая явно под Салтыкова, была уже явно классово-враждебной кулацкой сатирой”[48 - ОР ИМЛИ. Ф. 40. Ед. хр. 37. Л. 6, 11.] (курсив наш. – Н. К.). Выступавший с заключительным словом генеральный секретарь РАППа Л. Авербах призвал Академию наук к серьезной теоретической разработке вопросов советской сатиры.
На стенограмме доклада о сатире и юморе, прочитанного И. М. Нусиновым 7 октября 1931 года в главной кузнице кадров гуманитарной науки – Институте литературы и языка (ЛИЯ) Коммунистической академии, проставлена резолюция руководства института: “Использование стенограммы только с разрешения Директората”[49 - Архив РАН. Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 304. Л. 1.]. Действительный член Комакадемии Исаак Нусинов, прославившийся к этому времени участием в кампаниях разоблачения буржуазных тенденций в литературе, критике и литературоведении, представил вполне профессиональный социально-политический анализ идеологии ведущих советских сатириков и юмористов. Вопрос сатиры М. Булгакова к этому времени уже был отработан в критике 1920-х годов, и здесь особых нюансов не возникало: “…в идеологическом плане М. Булгаков не советский литератор”. К не нарушающим фундаментальные основы советской идеологии Нусинов отнес сатиру И. Эренбурга с ее “иронической формой”, романы И. Ильфа и Е. Петрова (остроумная “оппозиция против прошлого”, когда “отрицательное прошлое показано в юмористических поверхностных тонах”), а также не сатирические, а юмористические новеллы М. Зощенко и П. Романова (“юморист оплакивает распад родного для него мира, погибающего под ударами нового мира”). Имя автора “Впрок” Нусинов даже не упоминает, однако именно к нему относится это заключение о сатире, которой должна быть закрыта дорога на страницы советской печати: “Это сатира не исправляющая систему, не самокритическая, не как критика друга или попутчика, а сатира, уничтожающая систему”[50 - Там же. Л. 8.] (курсив наш. – Н. К.). Добавим: уничтожающая языком самого народа. Такого в “год великого перелома”, тогда же названного еще и “второй большевистской” революцией, не позволил себе никто из современников Платонова.
В этом политическом контексте становится понятной развязка историй двух пролетарских писателей, попавших в немилость к Сталину. В то время как в печати разворачивалась антиплатоновская кампания, обвиненный в политических грехах Демьян Бедный уже был прощен и переживал новое восхождение к вершинам литературного и политического успеха. 20 мая 1931 года все центральные газеты отводят целые страницы под материалы, посвященные празднованию двадцатилетия активной работы первого пролетарского поэта. На первой странице “Правды” 20 мая печатается стихотворение Бедного “Вытянем!!”, посвященное магнитогорским строителям. Эпиграфом к нему взяты строки из приветствия Сталина, опубликованного в той же “Правде” буквально накануне – 19 мая.
Не прошло и полугода после партийного постановления о фельетонах Бедного, но об этом уже никто не вспоминал. Критики соревновались в красочных метафорах: “Художник-партиец”; “Выдающийся мастер художественного слова и выдающийся культурный работник”; “Боевому краснознаменцу и культармейцу”; “Ударник большевистской литературы”; “Двадцать лет на боевом посту”[51 - За коммунистическое просвещение. 1931. 20 мая. С. 2.]. Демьян выступает на пленуме Всероссийского объединения ассоциаций пролетарских писателей (ВОАПП) с программной политической речью о пролетаризации всех смежных с литературой областей искусства (т. е. “одемьянивании” не только поэзии, но всего и вся): “…ряды пролетарских писателей множатся. <…> Разбиты контрреволюционные, буржуазные группировки и «единоличники», обезврежены их мелкобуржуазные подголоски «справа» и «слева», упорно вычищается, по меткому выражению Ф. Кона, «щетками классового сознания» весь хлам, проникший в те или иные поры ВОАППовского организма, куется единство пролетарских литературных колонн”[52 - За генеральную линию партии. На пленуме ВОАПП // Там же. 28 мая. С. 4.]. Почти все газеты известили читателя о выходе 17 томов Собрания сочинений Д. Бедного, завершении подготовки еще трех томов, о торжественных заседаниях в его честь в Федерации советских писателей и в Коммунистической академии.
В отличие от Бедного Платонову в колоннах пролетарской литературы не было места. За Бедным стояла власть, которой он самозабвенно служил. За Платоновым не стоял никто: ни власть, ни литературная общественность, ни своя литературная среда.
На письма Платонова не отвечали ни Сталин, ни его окружение. Молчали и писатели-современники. Молчал Горький, получив летом 1931 года письмо Платонова с разъяснением истории вокруг “Впрок”. Это можно понять. Также можно понять, почему он молчал, когда Платонов просил его в письме 1933 года ответить на прямо поставленный вопрос: “…могу ли я быть советским писателем, или это объективно невозможно”. Вопрос, мягко говоря, риторический. Сегодня мы можем сказать, что все усилия Горького помочь Платонову стать советским писателем закончились крахом. Свидетельством этого является история участия Платонова в горьковских проектах 1933–1935 годов и список не принятых к печати произведений, написанных в ходе этой работы: роман “Счастливая Москва”, повесть “Джан”, рассказы “Семейство”, “Мусорный ветер” и “Московская скрипка”, философское эссе “О первой социалистической трагедии”.
Письма, рассказывающие о самых драматических, а порой и скорбных страницах жизни писателя, выполнены в той же интонации и стилистике, что и его проза. Как и “душевный бедняк”, герой крамольной “Бедняцкой хроники”, справедливо причисленный критикой к отечественной традиции юродства, Платонов в письмах к Сталину и властям по-юродски формулировал свою тему и вопросы прямо, “в лоб”, как он любил выражаться, и так же, как его герой, “способен был ошибиться, но не мог солгать” (“Впрок”). Житейская логика, как известно, иная: чтобы не ошибиться, можно и солгать… Отвечая 27 июня 1931 года (уже написаны письма Сталину и в центральные газеты, идет вал погромной критики) на анкету “Какой нам нужен писатель” журнала “На литературном посту”, Платонов назовет среди написанных им в последние два года произведений крамольные “Котлован” и “Шарманку”, а на вопрос “Какие затруднения встречаете вы в своей работе” сначала пишет некую общую формулу: “Затруднения внутреннего порядка: не могу еще писать так, как необходимо…” – а затем дописывает ее в логике бедного и уже уничтоженного Макара Ганушкина с его сердечным вопросом “Что мне делать в жизни, чтоб я себе и другим был нужен?”: “…пролетариату и мне самому”[53 - РГАЛИ. Ф. 1698. Оп. 1. Ед. хр. 1055. Л. 1–2; Андрей Платонов: воспоминания современников: материалы к биографии. М., 1994. С. 286–287.].
* * *
В ряду корреспондентов Платонова значимое место занимает Александр Фадеев. Письма Платонова к Фадееву представляют ценные материалы не только для биографии Платонова, но и для постижения человеческой и писательской драмы его современника и ровесника. Фадеев был всего на два года младше Платонова, всесоюзный литературный дебют обоих пришелся практически на одно время – середину первого советского десятилетия, но сколь разнятся их путь в пролетарскую литературу и представление о ней. Трудно сказать, были ли их отношения дружескими. В письмах Платонов обращается к Фадееву по имени и отчеству и лишь дважды сбивается на дружеское “Александр”.
Фадеев оказался одной из ключевых фигур в трех литературно-политических кампаниях исключения Платонова из литературы: история с публикацией “Впрок” (1931); дискуссия в Союзе писателей о “Литературном критике” (1939–1940); история вокруг рассказа “Семья Иванова” на фоне борьбы за советский патриотизм в освещении Великой Отечественной войны (1946–1950).
Именно Фадеев, будучи ответственным редактором журналов “Октябрь” и “Красная новь”, опубликовал крамольные произведения Платонова – рассказ “Усомнившийся Макар” (1929) и повесть “Впрок” (1931) – и вполне благополучно вышел из истории с их публикацией, более того, после закрытия РАППа (1932) вошел в оргкомитет по подготовке Первого съезда советских писателей, присутствовал на съезде в качестве делегата с решающим голосом, избран в правление ССП, а в начале 1939 года возглавил писательский союз и в первый же год своего пребывания на посту руководителя Союза советских писателей благословил погромную кампанию литературно-критических книг Платонова (“Николай Островский”, “Размышления читателя”).
Ни одного ответного письма Фадеева Платонову в настоящее время не выявлено. Фадеев не ответил даже на письма уже смертельно больного Платонова 1947–1949 годов, просто умолявшего его оказать содействие в издании избранных произведений… Несмотря на бюрократические секретарские обязанности, Фадеев в эти годы отвечает на письма-просьбы О. Форш, Н. Заболоцкого, Б. Пастернака и других также не очень обласканных властью писателей[54 - См.: Александр Фадеев. Письма и документы / Составление и комментарии Н. И. Дикушиной. М., 2001. С. 134–137, 249, 261–267.]. 12 ноября 1946 года К. Чуковский записывает в дневнике признательные слова: “Фадеев ведет себя по отношению ко мне изумительно. Выслушав фрагменты моей будущей книги, он написал 4 письма: два мне, одно Симонову в «Новый мир», другое Панферову в «Октябрь», хваля эту вещь; кроме того, восторженно отозвался о ней в редакции «Литгазеты»; и, говорят, написал еще большое письмо о том, что пора прекратить травлю против меня”[55 - Чуковский К. Дневник (1930–1969). М., 1995. С. 177.].
Случай с Платоновым оказался для генерального секретаря Союза советских писателей Фадеева особым, в некотором смысле исключительным. Видимо, в третий раз – после ошибок с “Усомнившимся Макаром” и “Впрок” – он решил не рисковать своей политической репутацией, ограничившись выделением материальной помощи Платонову (ничего исключительного в этом не было; решениями секретариата помощь в эти годы выделялась идеологически “неблагополучным” М. Зощенко, А. Ахматовой, Б. Пастернаку и др.). Характерную деталь отношения Фадеева к “делу” Платонова сохранила стенограмма заседания секретариата ССП от 4 февраля 1950 года, на котором Фадеев докладывал вопрос о выделении тяжело больному Платонову средств на путевку в Крым и произносил буквально следующее: “В связи с угрожающим для жизни положением больного туберкулезом писателя А. П. Платонова и необходимости его переезда на постоянное жительство на юг выдать А. Платонову единовременную безвозвратную ссуду в размере 10 000 рубл<ей> (десять тысяч рублей). О выдаче ссуды сговориться с т. Константиновым (Софронов: просить Крымский обком партии помочь в организации местожительства т. Платонову). Варвара Петровна, позвоните жене Платонова и скажите, что пока вопрос с книгой затягивается. Секретариат ССП вынес постановление, чтобы ему выдали единовременную безвозвратную ссуду в размере 10 тыс<яч> руб<лей>”[56 - РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 15. Ед. хр. 1045. Л. 35. А. Т. Константинов – председатель Литфонда СССР, Варвара Петровна – зав. секретариатом ССП В. П. Зеленская.].
Остается вопрос: понимал ли Фадеев масштаб Платонова-писателя и сделанное им в русской литературе, когда поручал заведующей секретариатом В. П. Зеленской таким образом довести до Платонова принятое решение?.. Варвара Петровна также составляла от имени секретариата бюрократические записки к возвращенным рукописям книг Платонова (никто из секретариата не обременил себя хотя бы небольшой дружеской запиской) и отправляла их вместе с рукописями тяжелобольному писателю: “Рукописи Платонова вернуть автору по распоряжению Л. М. Субоцкого – Зеленская. 13/8”[57 - ОР ИМЛИ. Ф. 629. Оп. 4. Ед. хр. 20. Л. 2.].
Ответ на поставленный выше отчасти риторический вопрос можно найти в дружеской переписке Фадеева с Петром Павленко 1930-х годов. Поразительное своей откровенностью письмо 1935 года никогда (!) не публиковалось. Редкие минуты откровения Фадеева наедине с самим собой, размышления о собственном творчестве, сравнения, как понимали искусство классики и советские писатели, их отношение к окружающей действительности и художественные результаты – горестная исповедь перемежается ироническими ремарками и перерастает в саморазоблачительный текст, пронизанный проницательными оценками советской литературы и ее места в мировой культуре:
“…я всегда чувствовал, что у меня (и у большинства современных) в изображении прошлого ли, настоящего ли несчастья людей есть в лучшем случае сила чувствительности, но не сила горечи, а именно она нужна, чтобы вызвать реакцию действенную: стремление переделать, изменить, улучшить жизнь. Впрочем, сейчас как-то всем существом тянешься к передаче радостных сторон жизни, и это, конечно, затрудняет мне несколько работу над «Удэге»: я с удовольствием настрогал бы сейчас кучу бодрых простых рассказов о колхозниках, красноармейцах, лесорубах, охотниках, корейцах, инженерах, летчиках и т. д. Говорить и писать о существе своей работы, ее «душе» и о технике, мы правда не умеем. Объясняется это, конечно, тем, что писатели мы, наверно, не очень хорошие. Какой-нибудь «мой творческий опыт рабочему автору» (есть и у меня такая книжка, а какой уж там «творческий» и какой уж там «опыт»!) – это в общем серая болтовня о том, чего сам не знаешь. Думаю, что объясняется это тем, что у нас – даже тогда, когда, как я сейчас, все силы отданы работе, – нет настоящей культуры писательского труда и того «напряженного внимания, направленного на предмет, которое позволяет увидеть его с новой неожиданной стороны» (Л. Толстой о Мопассане). Может быть, это еще придет. Иногда мне кажется, что и «принятие» – в смысле восторга, очарования, симпатии, способности подвергнуться влиянию и т. п. – слишком разных (по манере, по духу, по технике и школе) писателей прошлого и настоящего тоже свидетельствует не столько о широте ума и чувства, сколько об отсутствии (пока что) собственной, глубоко продуманной и прочувствованной творческой линии – не в общем, а в индивидуальном смысле. Мне, например, в конечном счете понравилась «Смерть Вазир-Мухтара», книга взволновала меня. В то же время Толстой, например, до сих пор самый великий и близкий для меня писатель. А я думаю, что Толстому никак не мог бы понравиться Тынянов – не потому, что Толстой «у?же», а я «шире», а потому, что Толстой именно и велик этой своей неповторимой, могучей индивидуальностью, для которой Тынянов – сплошная ложность, красивость, блеф. <…> К сожалению, часто, слишком часто подозреваешь только что написанную тобой страницу в том, что это где-то когда-то кем-то и приблизительно так же было уже написано. И только искренность пережитого волнения и сознание, что общая мысль романа индивидуальна и нова, стимулирует работу. Естественно, что и нечего бывает сказать о своей литературной работе, кроме общих мест, ибо нет убежденности в своем пути, яростного отвергания для себя (т. е. не в смысле хулиганского выбрасывания за борт, а неприемлемости в работе) чужого пути, нет настоящего поиска своей манеры – это с одной стороны, и нет настоящей муки, муки до боли в голове, до слез над тем, что не выходит в моменты сомнений. Все это признаки ремесленничества, и притом ремесленничества человека, плохо знающего свое ремесло. Единственное, что «украшает», это правдивое сознание, что у настоящих творцов было хорошо, а у тебя выходит дурно. Вот это переживается искренне, глубоко и подчас с истинной болью, потому что ведь хочется высказаться в полный голос, а в моменты каких-то взлетов кажется, что есть что сказать – такое, чего никто не сказал. В сущности, я написал тебе о том, что в личной моей работе больше всего меня волнует и печалит сейчас. А когда перечел, то подумал, что – попади такое письмецо в соответствующий сборничек (скажем: «Корифеи советской литературы о своей работе», год изд. 1984), писатель будущего мог бы только и извлечь из него то скудное соображеньице, что и «они, дескать, в себе сомневались». Но научить тому, как надо работать, вселить бодрость в сердце, как вселяют в него строки «мастера искусства и т. д.» (даже тогда и там, где мастера сомневаются и мучаются), – это письмецо не смогло бы. Но именно поэтому оно и не попадет в «соответствующий сборничек», и именно поэтому мы не мастера, а… Есть еще хороший утешитель – критерий «полезности». Утешимся, Петя, тем, что мы писатели «полезные»”[58 - РГАЛИ. Ф. 2199. Оп. 3. Ед. хр. 181. Л. 2–6.].
В письме к “милому Пете” от 24 октября 1936 года Фадеев снова доверительно рассказывает товарищу о сокровенных темах своего писательства, о том, что “очень трудно писать, когда уже стал «искушенным»”, и о переживаемой им немоте. Это, можно сказать, общечеловеческая и вечная тема писательства, однако с одной существенной поправкой, немыслимой ни для Пушкина, ни для Толстого, ни для Платонова. “Милому Пете”, которого он, как и себя, причисляет к немногочисленной когорте “умных” писателей и “истинных сынов своего времени” (“не очень умным” в этом и других письмах назван Шолохов), Фадеев вновь доверительно сообщает чистую крамолу. Оказывается, советская литература совсем не исповедует верность принципам реализма Льва Толстого, которого сам Фадеев еще в 1926 году назвал главным учителем пролетарской литературы: “…для нас не столько дело в знании жизни – ведь мы чертовски много видели и знаем! – а все дело в подлинном правдивом выражении своих мыслей и чувств от самых высоких до самых низменных, – и здесь мы еще не достигли «бесстрашия», здесь что-то нас еще пугает и сковывает”[59 - Александр Фадеев. Письма и документы. С. 51.].
Какой-то особой склонностью к метафизичности и чистой эстетике не отличался ни сам Фадеев, ни его литературные писания. Это не в укор, таким было его дарование. В опубликованной через несколько месяцев статье с каноническим для советской литературы этих лет названием “Учиться у жизни” (“Литературная газета”. 1937. 15 апреля) он признается, что восхищается романами Шолохова, но с одной существенной поправкой: “И все-таки в его книгах недостаток большой, всеобъемлющей, всечеловеческой мысли…” Фадеев не уточняет, что он вкладывает в понятие “своей” (в письме) и “большой, всеобъемлющей, всечеловеческой мысли” (в статье), однако водораздел между правдой жизни и собственной некоей эстетикой проведен со всей определенностью. Данные установки советской литературы очень важны для понимания эпистолярных “диалогов” Платонова с Фадеевым и его верными заместителями по руководству Союзом писателей. “Мрачный” Платонов был им глубоко чужд, они ведь тоже знали, как живет низовая Россия, однако смысл писательства видели в другом – в некой абстрактной идее о “большой, всеобъемлющей, всечеловеческой мысли”. Он вызывал у многих своих современников по меньшей мере раздражение своей неуступчивостью, наличием той “идеи пути” (определение А. Блока), о которой догадывался тот же Фадеев, что без нее и “настоящей муки, муки до боли в голове”, не бывает подлинных художественных открытий.
Примечательные записи к этой теме мы нашли в дневнике Всеволода Вишневского послевоенных лет, той поры, когда он был заместителем генерального секретаря Союза писателей и принимал решение по письмам Платонова:
“Я недавно прочел 25 писем из Кур<ской> области – о жизни колхозников. – (Письма к депутату.) – Тяжелое впечатление: отобранные участки; невыплата пенсий; чрезмерн<ое> обложение; несправедлив<ые> увольнения; облыжные обвинения и т. д., и т. д. – Нужда, беды человеческие… Но жить только ими – можно задохнуться, сойти с ума, погрузиться в пессимизм безвыходный… Помогают обобщения, мечта, устремленность в будущее, сам процесс борьбы, преодоления и некая поэзия истории, некая абстрагированность…”[60 - РГАЛИ. Ф. 1038. Оп. 1. Ед. хр. 2136. Л. 31.] (запись от 21 января 1947 года; курсив наш. – Н. К.); “Дежурство в секретариате ССП: принял человек 15. – Просьбы, – о мат<ериальной> помощи… – Ряд людей бледен, худ… Многие болеют, устали, недоедают явно…
В подъезде нашего дома: две женщины. На одной пальто на голое тело. – «Мы эвакуированы в 41 г<оду> из Буковины. Сейчас едем – эшелоном – обратно… В эшелоне холод… Умерло пятеро сегодня… Дети… – Помогите.» – Цены на рынках растут: картофель 20 руб<лей> кило. – Видимо, к лету трудности будут еще крупнее”[61 - Там же. Ед. хр. 2137. Л. 20 об.] (запись от 24 февраля 1947 года);