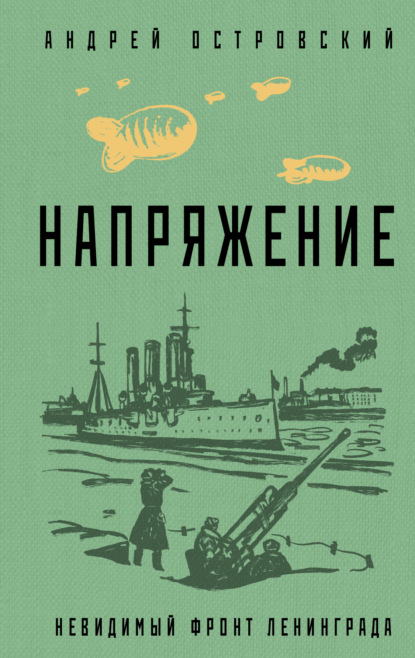По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Напряжение
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сергея Аполлинариевича?! – удивленно встрепенулся Калинов. – Ротмистра? Бывшего пристава Коломенской полицейской части? Как не знать! Попил он моей кровушки. Но я его выловил, я и расколол. О, умнейший был мужик, умнейший… А ты что вдруг его вспомнил?
– Да так, – неопределенно повертел руками Бенедиктов. – Вспомнил – значит, вспомнил. Ты-то не забыл это дело?
– Что ты, прекрасно помню, в деталях… Как первую любовь. Тогда я только начинал, совсем мальчишка… Но мы лихо сработали. Между прочим, тогда я получил первую благодарность и потерял свою первую любовь. Незадолго влюбился в одну деваху, а тут началось… Назначаю ей свидание и не прихожу. Простила. Назначаю другое – и опять обман… Какие там свидания! Три месяца мотались – день и ночь, день и ночь… – Калинов усмехнулся, хлопнул себя по шее. – Конечно, послала меня подальше… Ну, бог с ней, другую нашел. А дело было чертовски сложное.
– Посвяти, – повелительно сказал Бенедиктов, усаживаясь крепче, – и поподробнее, если можешь.
Калинов снял стекло с лампы, дважды дунул в него, поджег фитиль. Утонувшая было в сумраке комната осветилась неверным светом, качнулись тени. Сел, распластав на столе локти, взглянул куда-то на потолок.
– Ну, слушай… До революции в Политехническом институте работал один эконом, почтенный старик. Хозяйство в институте огромное, педантичный старик содержал его в порядке, но с годами стало ему трудновато. Ему помогал старший дворник, некто Дерюгин. Дерюгин тоже работал в институте давно, эконом ему всемерно доверял, и во время его отсутствия Дерюгин отпускал из кладовых краску, мел, гвозди – словом, все, что нужно. Ключи у него были все, за исключением одного – от кладовой, в которую эконом входил только сам и никого туда не впускал. А надо тебе сказать, что Дерюгин был продувной бестией. Все, что плохо лежало, он прибирал к рукам и тащил к себе. Жил же он в Парголове, в собственном доме с участком. И вот – революция, Гражданская война… Случилось так, что однажды, когда Дерюгин был в кабинете у эконома, принесли депешу. Старик ее прочел, схватился за сердце и – умер на руках дворника. В телеграмме сообщалось, что сын эконома убит на фронте. Дерюгин и тут не растерялся. Спать ему не давала та кладовая. Он обыскал теплый еще труп и отстегнул заветный ключ. Старика похоронили, Дерюгин стал как бы исполнять его обязанности. Тут же, не мешкая, ночью он полез в кладовую, и… полное недоумение и разочарование. Никаких сказочных сокровищ. Кладовая почти пуста, лишь в углу несколько ящиков с шурупами, мотки проволоки да три-четыре листа железа. С досады все забрал, увез домой. Время ты сам знаешь какое было. Разруха, народ разбегается, есть нечего, контроля никакого. Дерюгин забил свой дом чем только смог, даже кое-какие станки привез, и сам смотался подобру-поздорову. Живет, гвозди меняет на мыло, мыло на сахар, все с прибылью, все с прибылью, приторговывает, разводит поросят, одним словом – жиреет… Вот это, так сказать, экспозиция, пролог.
Калинов, пока говорил, скрутил цигарку, привстал, опершись широкими ладонями о край стола, прикурил от лампы.
– Прошло двенадцать лет. – Обдал Бенедиктова крепкой махрой, сел. – Тридцатый год… Как-то летом, в воскресенье, рано-рано утром – я дежурил – звонят из Озерков, с фабрики спортинвентаря «Голиаф»: приезжайте, ограбили. Еду. Фабричка маленькая, полукустарная – два цеха, обнесенные забором. Шьют тапочки, мячи, ну и все такое… В чем дело? Оказывается, получили они подошвенную кожу, семь тюков – ценнейший по тем временам материал. Стали готовить к производству: намочили, пропустили через валки… И вот исчезла, вся! Я тряхнул сторожа. А он ни бе ни ме ни кукареку – в сильном подпитии, спал, наверное, мертвецки, скотина. Посмотрел забор, вижу, в одном месте досочка отходит. Все ясно. Беру нашу Динку, овчарку. Кожа-то пахучая, душистая. Воскресное утро, следы не затоптаны. Динка меня прямиком в Парголово протащила и – к дому Дерюгина. Два его сыночка, оболтусы, спят, как цуцики, пьяные, среди мешков с кожей. Работали они оба на «Голиафе», за два дня до кражи оформили отпуск, помахали ручкой, сказав, что уезжают в Псков – для алиби, – и думали, что все будет шито-крыто, дураки. Мы их, конечно, взяли, начали грузить мешки на подводу. А тут какая-то баба, соседка, – Парголово же деревня, кругом избы, люди, видят: милиция, шебутня какая-то, интересно! – как заорет: «Паразиты, мои мешки украли, мои это мешки, вон и дырочка моя!» Стал я объяснять, что отдадим мешки, не нужны они нам – какое там: отдавайте сейчас, и все! Пошел я в дом искать, во что бы переложить кожу, ничего не нашел. А надо сказать, что Дерюгин-отец, тот, который дворником работал, к тому времени уже умер, где-то на улице, от разрыва сердца, а жена его – еще раньше. Сынки пропили все, даже табуретки в доме не было. Ходил я по двору, ходил, забрел в сарай, увидел какую-то проволоку. Ею стянули кожу и увезли… Парней этих раскололи уже к вечеру: кожу они должны были перевезти на Скобелевский одному дядьке. Сказали номер дома, квартиры… А по нашим правилам вещественные доказательства мы обязаны сдать в кладовую в течение суток. Ты знаешь нашу кладовую – чего там только нет! Золото, меха, часы, ковры, отрезы… В ДЛТ такого не увидишь. И приемщики – спецы, на глаз определят тебе любой товар: качество, марку, цену, кто делал, когда – и не ошибутся. Повез я сдавать кожу. Принимал золотарик Иван Дмитриевич Чупилин, Чупа, как мы его звали, – невзрачный такой мужичонка, маленький, вроде кособокий какой-то, но ас, знаток! Особенно – драгоценных металлов. Он проволоку щипчиками раскусил, кожу – на весы; проволоку тоже на весы, но на другие, маленькие. И пишет: кожа такая-то столько-то; платина – килограмм восемьсот девяносто четыре грамма в виде проволоки. У меня глаза квадратными стали. «Иван Дмитриевич, а ты не шутишь?» Он только лыбится: «А ты что, не знал? Платина, чистейшая платина высокой пробы. Смотри, какая тяжелая. Она в три раза тяжелее железа…» «Ё-мое, – думаю, – откуда у этих бродяг столько платиновой проволоки?» Вызвал из тюрьмы старшего брата, завел разговор о коже – говорить-то, по сути дела, уже нечего, – потом, как бы невзначай, про проволоку… А он и отвечает, что, дескать, проволока и правда очень хорошая, не ржавеет, они с братом ею весь плетень вокруг дома обмотали. Ну, чудеса!.. Я уже на месте сидеть не могу, но спрашиваю: откуда она у них? Тут-то он и рассказал историю с папашей. Мы, конечно, парня обратно, а сами – в Парголово. Весь тын перебрали – и правда, колья спутаны были этой проволокой, – потом забрали бухты, валявшиеся в сарае, еще раз прочесали все насквозь, и получилось что-то около… Словом, солидно… Представляешь, как сгодилась тогда нашему государству эта платина! В тридцатом-то году!..
Калинов бросил на стол коробок, который теребил в руках, встал, заходил в возбуждении по комнате.
– Ну вот, занимаемся платиной и одновременно кожей. У того дядьки на Скобелевском находим пять мешков с вырубкой – товар со «Скорохода». Для кого? А есть один мужик по фамилии Кислюк, он покупает кожу и хорошо платит. Живет Кислюк на Большой Зелениной. Берем его и его жену, а на квартире ставим засаду. За несколько дней попадают одиннадцать человек, клиенты. Толку от них мало: они – воры. У них одно: товар – деньги, куда дальше он идет, понятия не имеют, а Кислюк молчит. То есть не молчит, а крутит, врет, никак его не ущучить. Но работал он с кем-то, это было ясно. Вызвал я тогда на допрос жинку его. Пухленькая, веселая, разбитная, видно, хохлушечка. Так и так, говорю, дело-то пахнет керосином… Короче, не узнаем, с кем муж работал, – хана ему, придется за все самому отвечать. И тут она по-деревенски заголосила; бух на колени: не губите моего Гринко, по дурости связался он с этим околоточным, Александром Ивановичем, и с приставом, все это они, душегубы!.. Свихнулась, думаю, бабенка, чушь какую-то несет: какие околоточные, какие приставы на тринадцатом году советской власти! Спрашиваю. Нет, не свихнулась: Александр Иванович до революции был околоточным, а теперь работает по снабжению. Фамилию его сказала, где живет…
– Какая же его фамилия? – спросил Бенедиктов, откидываясь на спинку стула.
– Слабодской, жил он у Калинкина моста. – И, увидев, что Бенедиктов кивнул, продолжал: – А о приставе ничего не знает, ни фамилии, ни адреса. Ну нам и то хлеб. Берем Александра Ивановича; обыск на квартире дал потрясающие результаты – золото, драгоценности, шесть сберегательных книжек, на них, если не ошибаюсь, лежало что-то тысяч семьдесят… Допрашиваем. Точно, был околоточным…
В дверь постучали, тотчас просунулась голова в меховой шапке, быстро, как на шарнире, сделала кругообразное движение.
– Вы заняты?
– Иди, иди сюда, Камалетдинов, заходи! – крикнул Калинов, когда дверь уже захлопнулась, и кивнул Бенедиктову: – Прости, Сева, это недолго.
Камалетдинов мелкими шажками протопал к столу, держа несколько листков бумаги, положил их перед начальником.
– Ну что? – снизу вверх посмотрел Калинов на его сморщенное, без признаков растительности личико с заостренным носом.
– Он это. Признался, только сейчас, – ответил Камалетдинов, глазами показывая на бумаги. – Да тут было сразу ясно.
Калинов стал читать – брови его то вздымались, то падали, – но до конца не прочел, лишь посмотрел, держа листы на отдалении, заключительные строчки. Лицо его выражало брезгливость.
– Раз так, пусть несет ответственность по всей строгости законов военного времени и блокадного города, – сурово проговорил он и, отогнув изящно мизинец, что-то черкнул, широко и размашисто. – Все. Можешь идти.
Схватив бумаги, Камалетдинов неслышно исчез, даже не взглянув в сторону Бенедиктова.
– Вот она, война, – сказал в раздумье Калинов, кинув на стол ручку. – Черт знает что… – Хотел, видимо, поделиться о происшедшем, но передумал. – Ох, Сева, тяжко людям…
– Тяжко, да не всем, – возразил Бенедиктов, который вдруг явственно ощутил сладкий аромат горячего теста, хлынувший из квартиры на лестницу, а потом и спиртной запашок.
– Всем, всем… Тебе, что ли, не тяжко? Или мне?.. А если кто облегчает себе жизнь, то только за счет другого или других.
– Справедливо… Вот на этот предмет и поинтересуйся некоей Петраковой, управдомом жакта, тут, в твоем же районе.
– Как ты говоришь, Петракова? – Прищурившись, Калинов обмакнул перо в чернильницу, усмехнулся одним ртом. – Все боишься, что без работы останемся? Шучу. Ладно, поинтересуюсь… Ну, еще раз прости, что отвлекся… Так вот, околоточный Александр Иванович. С ним возни было немного: улики налицо – он быстро признался и все взял на себя. Дело у них было поставлено на широкую ногу. Он ездил на Украину, кожу выменивал на сало, сало жена продавала на Мальцевском рынке, ну и все такое прочее. Меня интересовал пристав. А о нем Александр Иванович ни гу-гу… И у меня ничего нет, одна эта должность. Попробовал сделать вид, будто мне многое известно, и между прочим спросил о приставе. Но мужик крепкий оказался, ни один мускул не дрогнул на его лице. (Бенедиктов улыбнулся: почитывает Калинов литературу!) «Какой пристав? Первый раз слышу». Хорошо, не хочешь говорить, как хочешь, тебе же будет хуже, иди подумай. А сам не знаю, с какого конца браться. Ломал голову и так и сяк… И вдруг пришла простая мысль: откуда они могут знать друг друга – тот полицейский и этот полицейский? Да по работе же! Александр Иванович был околоточным Коломенской части, логичнее всего – и тот оттуда же. Подняли архивы. В Коломенской части значились два частных пристава. Один был убит в первые дни революции, а о другом – ротмистре Сергее Аполлинарьевиче Нащекине – сведений не имелось. Запросили адресный стол. В городе Нащекины не проживали, в области тоже. И немудрено: уже потом я узнал, что Нащекин имел три паспорта и соответствующие документы. Жандарм, он ведь все паспортные дела назубок знал!.. Да… Все-таки зацепились мы за эту версию, стали отрабатывать. Как искали, тебе это неинтересно, да и не важно. Скажу только, что изрядно пришлось покорпеть. И вот попал в наше поле зрения служащий ЛЕНЖЕТа, некто Иванов Иван Владимирович, пятидесятишестилетний мужчина, дородный, чопорный, следящий за своей внешностью – усы нафабрены, эспаньолка… Сначала у нас было сильное подозрение, что это Нащекин, а потом и уверенность. Когда последнее сомнение исчезло, мы его аккуратненько на улице при всем честном народе и взяли.
– Минутку, – взмахнул рукой Бенедиктов. – Ты сказал, что у него было три паспорта. Третий – на чье имя, не помнишь?
– Почему же, помню отлично – на имя Кузьмина Ивана Георгиевича. Как видишь, фамилии самые заурядные, среди Кузьминых и Ивановых легче затеряться.
– А жил он где?
– Жил?.. Хм, это нелегко сказать. У него была дача в Дудергофе, купленная на подставное лицо; дачу содержала его сожительница. Была у него квартира в городе, в Соляном переулке, там хозяйничала другая его сожительница. И еще квартира – на Псковской улице, так сказать, рабочая. Но ни одна формально не принадлежала ему. Чаще всего он бывал на Соляном… Знаешь, Сева, если бы я тебе показал его, ты не поверил бы, что за этой респектабельной внешностью скрывается бандит, хищник. – Заметив снисходительную улыбку Бенедиктова, спохватился: – Да ты, конечно, и не таких видел. Нащекин ворочал сотнями тысяч рублей, он держал в кулаке воров, известных ему еще с дореволюционных времен, скупщиков краденого, спекулянтов, да и самого околоточного тоже. Кроме того Александра Ивановича, через которого он действовал, его не видел никто и не знал его настоящего имени, даже его сожительницы.
– Разве семьи у него не было? – спросил Бенедиктов, поглаживая подбородок.
– Жена его умерла в начале двадцатых годов, и он остался один.
– А дети?
– Детей не было. То есть был сын… Владислав?.. Да, Владислав. Перед самой революцией он окончил Морской кадетский корпус, но в Гражданскую войну, видимо, был убит. Во всяком случае, Нащекин говорил, что сына он потерял. А у нас не было никаких данных о нем.
– Так, так, так… А что делал Нащекин в Тресте жиров?
– Щелкал костяшками счетов и выписывал накладные… Он сидел на мизерной должности счетовода. Как Корейко…
– Ну, спасибо, – сказал Бенедиктов, поднимаясь. – Надеюсь, что разговор останется между нами.
– Ты меня обижаешь, – встал и Калинов, – как будто я не понимаю…
– Обижайся не обижайся, но предупредить я тебя обязан.
11. Трое
Дом одиноко стоял у самого Финского залива. Сквозь широкие окна виднелись вздыбленные, налезшие друг на друга льды, которые уходили в спокойную белую даль. Вокруг тоскливо поскрипывали на ветру обсыпанные снегом мрачные сосны. Дом с резной башенкой сбоку был одноэтажный, деревянный, обшитый вагонкой; крутая двускатная крыша придавливала его.
В стороне проходила дорога на Раквере и Нарву, но скрежет танковых гусениц и шум моторов терялись на пути к казавшемуся необитаемым дому. Угрюмая тишина окружала его, ничем не напоминая о войне.
Однажды под вечер сюда подъехал, буксуя в слежавшемся снегу, серый «Хорьх». Из него вышли четверо – трое русских и обер-лейтенант Фогт. Встречать их выскочил на мороз хромой парень с бельмом на глазу, без шапки, в старой гимнастерке с расстегнутым воротом. Он проворно отпер двери, провел прибывших в довольно просторную угловую комнату – там уже были застелены койки и жарко натоплена круглая гофрированная печь; на столе, покрытом скатертью, графин с водой, стаканы, пепельница зеленого стекла…
Пока щуплый обер-лейтенант, прикрыв дверь, вполголоса отдавал распоряжения парню, старший из приехавших – высокий, ширококостный мужчина в черной шинели со знаками капитан-лейтенанта на рукаве – осмотрелся, подняв тяжелый подбородок, потом приказал густым басом:
– Кирилл, ляжешь здесь, – кивнул на койку у окна, – Николай, занимай ту. А это – моя…
Скинул ушанку на кровать, снял шинель – на синеве кителя заблестел орден боевого Красного Знамени, – походил по комнате, заглянул в окно.
– Неплохо, жить можно… Правда, Кирюха? – Опустил горячую ладонь на спину Кириллу: – Что приуныл, товарищ?
Кирилл, не отвечая, поставил на тумбочку мешок с рацией, отряхнул руки и, налив в стакан воды, выпил с жадностью крупными глотками.
– Не трожь его, Степа, он сегодня с утра не в духах, – откликнулся Николай, вешая на гвоздь новенький «ППД».
– Господа, дом в вашем распоряжении, – сказал обер-лейтенант Фогт на чистом русском языке. Он остановился у порога; сквозь очки проглядывали строгие глазки. – Занимайтесь и отдыхайте пока, сосредоточьтесь, ближе познакомьтесь друг с другом, – впереди у вас трудная работа. За всем, что нужно, обращайтесь к вестовому. Зовут его Григорий. – Вытащил из-за двери бельмастого парня, показал, отправил обратно. – Можете гулять, но далеко ходить не рекомендую. Вживайтесь в роль, соответствующую легенде. Мы будем вас навещать, а вы будьте в полной готовности. Хайль! – Щелкнул каблуками и уехал.