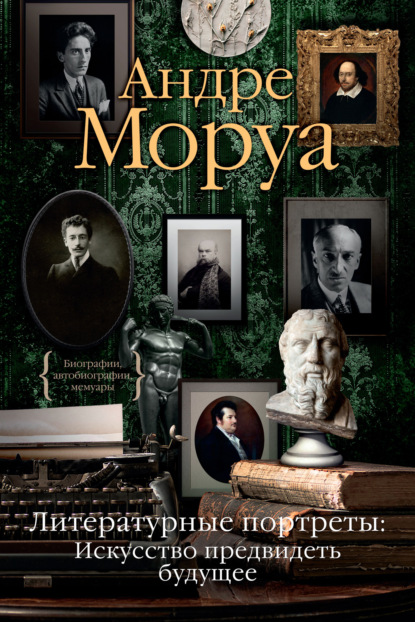По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее
Андре Моруа
Биографии, автобиографии, мемуары
Андре Моруа – известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно – психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа – признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета – своего рода мини-биографии, небольшому очерку, посвященному тому или иному коллеге по цеху, – не было случайным. Объединяя очерки в циклы, Моруа выстраивал свою историю развития литературы. В этой книге Моруа много внимания уделяет своим современникам – французским писателям Андре Жиду, Ромену Роллану, Жану Кокто, Жану Полю Сартру и Симоне де Бовуар, Луи Арагону и др. Но есть в ней разделы, посвященные выдающимся авторам других стран и эпох – Геродоту, Шекспиру, Л. Толстому и др. Невероятная эрудиция, точность наблюдений, мастерство изложения позволяют Моруа великолепно передать психологические и творческие портреты своих героев. Настоящее издание составили два авторских сборника – «От Жида до Сартра» и «От Арагона до Монтерлана». Большая часть текстов печатается на русском языке впервые.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Андре Моруа
Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее
Часть I
От Жида до Сартра
Вступительная заметка
В предыдущем томе, «От Пруста до Камю», я собрал эссе о некоторых современных писателях. Многие читатели выразили желание, чтобы я продолжил этот ряд, явно неполный. И вот новый блок. Он далек от того, чтобы исчерпать список тех, о ком стоило бы говорить. Толстой каждый вечер, ставя в своем дневнике дату следующего дня, писал: «Е… б… ж… (Если буду жив…)». Третий том позволит мне, возможно, хотя бы частично, заполнить неизбежный пробел в таком начинании. Если буду жив…
A. M.
Андре Жид
Андре Жид, родившийся в 1869 году, принадлежит к знаменательному поколению Клоделя, Валери, Пруста, Алена. Он единственный из них был удостоен Нобелевской премии. Его трудная пуританская юность, прошедшая в борьбе со своими инстинктами, его бунты и нонконформизм, его пристрастие к коммунизму (сменившееся скорым отрешением от него) привели к блистательной старости, подобной старости Гёте. Он не только стал кумиром, но и сохранил дружеские привязанности своей юности, и вызвал интерес у новых поколений. Он не нес им никаких доктрин, никаких новых идей, потому что любую доктрину рассматривал только как защиту своей чувственности. Но может быть, в этом и состояла философия или, скорее, какая-то неведомая методика, которая не знала иной реальности, кроме полной искренности желания. Воспитанный в строжайшей дисциплине, он потряс и порвал ее путы, но при этом «возвел идею принуждения», столь необходимую его натуре, в своего рода артистический аскетизм. По стилю, как и по культуре, Жид был классиком. Он не обладал ни естественной свободой Монтеня, ни точностью мысли Валери, ни гениальностью Пруста, ни глубиной Алена. И однако, он привлекал бесконечной молодостью и горячностью. Трудно сказать, что будут читать из его произведений, но их автор оставит воспоминание об успехе тем более удивительном, что его юность, казалось, сулила только поражение…
I
Об авторе, самом любимом молодыми людьми моего поколения, в годы своей юности я не знал почти ничего. А он уже был достаточно известен, и позднее я увидел из писем Жака Ривьера и Алена-Фурнье[1 - Ривьер Жак (1886–1925) – писатель и литературовед. Ален-Фурнье (наст. имя Анри Альбан Фурнье; 1886–1914) – писатель, получивший мировую известность благодаря единственному завершенному роману «Большой Мольн» (1913). – Здесь и далее в книге, кроме особо оговоренных случаев, примеч. переводчиков.], двух моих сверстников, что его произведения занимали немалое место в их юношеских мыслях. Но я был провинциальным лицеистом, к тому же в провинции весьма консервативной. В лицее Руана у меня были старые учителя, которые заставляли меня читать Гомера и Тибулла больше, чем Валери и Рембо, и самые молодые из них, если и доходили до Франса и Барреса[2 - Баррес Морис (1862–1923) – писатель и политический деятель. – Ред.], не знали Клоделя и Жида.
После войны 1914 года, во время которой я опубликовал свою первую книгу, Поль Дежарден[3 - Дежарден Поль (1859–1940) – историк. – Ред.], критик и профессор, пригласил меня провести несколько дней в старом бургундском аббатстве в Понтиньи с несколькими писателями, собиравшимися там каждое лето. В своем письме он заметил, что эта встреча будет тем более интересна, что ожидается присутствие Андре Жида.
Я до мельчайших деталей помню свою первую поездку в Понтиньи по узкоколейной железной дороге. Все двери были нараспашку, и из каждого купе доносились голоса писателей. На перроне рядом с хозяином дома стоял мужчина с бритым лицом, напоминавшим некоторые японские маски, лицом настолько удивительным, что от этого оно казалось красивым. На мужчине был широкий плащ, какие носят жители гор, в который он кутался с элегантной естественностью, а также широкополая шляпа с остроконечной тульей, сделанная из чего-то похожего на серый бархат. Это был Андре Жид.
Мы пешком прошли от вокзала до аббатства, и после первого же нашего разговора я был покорен. Чем? Прежде всего удивительно юной экспрессией, которая была заметна сразу – в его взгляде, в непринужденной походке, в оригинальности мысли. Ничто из того, что он говорил, не казалось банальным. В каждой теме он пытался добиться от собеседника не показного согласия, а искренности. Большинство людей схожи с граммофонной пластинкой. И стоит с ними познакомиться, как уже знаешь их репертуар. Жид всегда бывал разным. Очень оригинальным. Его свистящий голос удивил меня. Было что-то безапелляционное в его сомнениях, позитивное – в отрицании. «Обольстительное, доверительное и серьезное, – как говорил Мартен дю Гар[4 - Мартен дю Гар Роже (1881–1958) – писатель, лауреат Нобелевской премии 1937 г.; см. очерк о нем в наст. издании. – Ред.], – временами с громкими выкриками, когда он хочет подчеркнуть что-то важное».
Жизнь в Понтиньи мне понравилась. Каждый день с двух до четырех часов происходила открытая дискуссия на избранную тему. Это была академическая часть пребывания, а в остальное время мы могли гулять то с Жидом, то с Мартеном дю Гаром, то с Мориаком[5 - Мориак Франсуа (1885–1970) – писатель, лауреат Нобелевской премии 1952 г. – Ред.] и вести беседы, более свободные и более приятные. Вечером после ужина мы собирались, чтобы «немного поиграть». Жид в этих играх был душой общества, и тогда ощущение юности выражалось в том почти детском удовольствии, с каким он включался в игру, к примеру – в литературные портреты. Один из собравшихся загадочно обрисовывал героя какого-нибудь романа, второй, расспрашивая его, угадывал. Я вспоминаю тон ответа Жида, когда мы выбрали Мефистофеля Гёте и спросили его, главу противоположного лагеря: «Есть ли такой среди ваших друзей?» Жид ответил: «Я льщу себя надеждой!» Чертовская победа.
В этих дискуссиях меня поражала его живость. Стоило ему появиться в Понтиньи, как он тут же, находясь в любом обществе, очень быстро создавал кружки, не политические, а литературные и философские. Редко случалось, что Жид долго задерживался в одном из них. Когда я обратил на это его внимание, он ответил: «А с кем мне там спорить? В споре я всегда на стороне оппонента!» Жак Ривьер отметил, что для Жида «одна идея – это главным образом множество других», а сам Жид написал: «Для меня всегда непереносима необходимость выбора». Он утверждал, что именно в противоречиях индивидуум раскрывается по-настоящему.
В приватных разговорах он признавался, что боится одиночества, что тоска, которая может довести до желания смерти и перемежается весельем в другие минуты жизни и его юношеским любопытством, являет собой некий мифический персонаж, сложный и притягательный.
Во время пребывания в Понтиньи я рассказал ему, что работаю над «Жизнью Шелли». Он спросил:
– А вы не хотите мне показать это?
Я ответил:
– Но я еще не закончил работу…
– Прекрасно, – сказал он, – я люблю только незавершенные вещи. Законченная книга вызывает у меня впечатление чего-то мертвого, чего уже нельзя коснуться. Книга в процессе написания представляется мне каким-то прелестным живым существом.
И тогда я привез ему черновик своей рукописи в Нормандию – в его дом, стоящий недалеко от моря, на полпути между Гавром и Феканом. Я сразу узнал этот дворянский белый особняк, описанный им в «Тесных вратах».
«Похожий на множество провинциальных домов предыдущего века, с двадцатью окнами, выходящими в сад, который тянется и за домом; оконные рамы разделены на небольшие квадраты… Сад прямоугольной формы окружен стенами и образует перед домом широкую затененную лужайку, через которую дорожка из песка и гравия проложена к дому».
Дом в осеннем пейзаже «вблизи моря» выглядел олицетворением спокойствия и красоты – тех черт характера Жида, которые выдавали в нем нормандского буржуа. Благородная простота его приема напомнила мне, словно гармоничный резонанс, естественное достоинство и любезность, которые покорили меня в нем при первой же нашей встрече. Я прочел ему свою рукопись. Он терпеливо выслушал меня, делая какие-то пометки, а потом высказал свои замечания, верность и точность которых меня очаровали. Немногие из людей имели такое чувство языка, как он; немногие из людей также бывают справедливыми судьями, говоря о том, что в книге необходимо, а что – пустое украшательство. На следующий день он, в свою очередь, прочел мне несколько глав из «Фальшивомонетчиков», над которыми в то время работал. Я уехал счастливый, потрясенный своим открытием – разницей между Жидом и легендой о нем.
Позднее мне все же пришлось понять, что и в легенде есть своя доля истины и что и описание Жида, которое я сделал после нашей первой встречи, не было – тоже не было – в полной мере точным. Потому что Жид не был однозначен. Впрочем, какой человек однозначен?..
II
«В том невинном возрасте, когда жаждут, чтобы вся душа была наполнена только ясностью, нежностью и чистотой, я видел в себе лишь тень, уродство и скрытность». И еще: «Это мое одинокое и унылое детство сделало меня таким, каков я есть». Поразительное признание. На основании его автобиографии критики описали Жида как некоего пуританина, который, получив слишком суровое воспитание, якобы стал борцом с уродством пуританизма своей семьи. Это общепринятое объяснение требует уточнения.
По отцу, профессору права Полю Жиду[6 - Жид Поль (1832–1880) – юрист и историк, профессор римского права в Парижском университете. – Ред.], Андре Жид происходил из южных протестантов (его дед был пастором), а по матери – из руанской семьи Рондо, богатых промышленников-католиков, ставших протестантами в результате заключения браков. Один из Рондо был мэром Руана, и одна из улиц города носит его имя. Обе семьи были богаты. Поместье в Кювервиле, замок в Рок-Беньяке (Кальвадос), гугенотский дом на юго-западе (Изес, Монпелье), роскошные апартаменты в Париже на улице Турнон. Жид родился богатым буржуа, выходцем из протестантской среды и только много позже, уже дистанцировавшись, заинтересовался социальными битвами своего времени.
Отец был с ним нежен и внимателен; мать «оставалась слишком озабоченной другими и их суждениями». Жан Деле[7 - Деле Жан (1907–1987) – психиатр и невролог, писатель. – Ред.] очень точно определил родителей Жида[8 - «Юность Андре Жида» (издательство «Gallimard»). – Примеч. автора.]: «С одной стороны – очарование, веселость, терпимость, интеллектуальная культура; с другой – несколько давящая серьезность, строгость в отправлении культа и морали». Юность Жида прошла в атмосфере чтения Библии, Евангелий. Кальвинистская суровость матери должна была воспитать в нем стойкость. Он ей подражал, боялся ее, уважал ее. Фрейдисты сказали бы (они и сказали), что в этом уважении к ревнивой матери нужно видеть проявление неестественной чувственности сына. Впоследствии он стремился следовать традициям бережливости и простой жизни в достатке, которые она ему передала.
Когда Жиду было двенадцать, умер его отец, и это было для него невосполнимой потерей. Никто больше не возражал против требований матери, полных ненавистной ему добродетели, «единственной заботой» которой было вытравить естественные склонности ребенка. Он обожал ее сердце, «которое никогда не допускало никакой низости, которое билось только для других», беспрестанно принося себя в жертву не столько из долга благочестия, сколько из склонности своей натуры. Но к восхищению примешивалось горькое разочарование. Мать установила тиранический режим: «Никакой длительный мир между нами был невозможен. Впрочем, я отнюдь не винил свою мать: она была в своем амплуа, казалось мне, даже когда мучила меня больше всего. По правде сказать, я не уверен, что любая мать, думающая о своем долге, не ищет, как подчинить своего сына, но также нахожу вполне естественным и то, что сын восстает против этого… Я думаю, о моей матери можно было бы сказать, что качества, которые ей нравились в людях, отнюдь не были присущи тем, на кого она обращала свою любовь, – скорее ей хотелось так их видеть. Тем не менее я стараюсь понять, зачем столько душевных сил она тратила на других, главным образом на меня… Она по-своему так любила меня, что иногда заставляла ненавидеть ее и доводила до того, что нервы мои были на пределе. Представьте себе, чем могут стать беспрестанная забота и непрерывные навязчивые советы – советы, касающиеся ваших действий, мыслей, расходов, выбора ткани для вас, даже вашего чтения и названия книг».
Действительно, во многом по вине матери юноша вырос замкнутым. Рамон Фернандес[9 - Фернандес Рамон Мария Габриэль Адеодато (1894–1944) – писатель и журналист мексиканского происхождения; во время войны – коллаборационист. – Ред.] употребляет выражение «зажатый», и это, возможно, точно даже в смысле физическом. Жид описал нам одежду, которую выбирали для него в детстве: «Я очень ревниво относился к одежде и очень страдал из-за того, что был безобразно и безвкусно одет. Я носил обуженные курточки, короткие штаны, обтягивающие коленки, и полосатые носки, слишком короткие, которые сползали вниз, то один, то другой, и уползали в обувь. Я навсегда запомнил самое ужасное: накрахмаленную рубашку. Мне надо было ждать, когда я стану почти мужчиной, чтобы добиться того, чтобы мне не крахмалили больше грудь рубашки. Но так было принято, так было модно, и тут уж ничего не поделаешь. Представляете себе несчастного ребенка, который весь день, во время игры и во время занятий, неизвестно для чего носит спрятанные под курточкой своего рода белые латы, которые заканчиваются эдаким железным ошейником – пристежным воротничком, – потому что гладильщица тоже крахмалила его, и при любом повороте он врезался в шею. Из-за этого любая курточка, широкая или узкая, не сидела на такой рубашке хорошо, и на ней появлялись отвратительные складки. Попробуйте-ка заниматься спортом в подобном одеянии!»
Эта накрахмаленная рубашка и этот слишком жесткий пристегивающийся воротничок являются символами детства, в котором не было места расслабленности и свободе. «Никогда, – написал Рамон Фернандес, – никогда Жид не станет настолько старым, чтобы перестать радоваться возможности носить ненакрахмаленные рубашки, просторную одежду и чувствовать себя свободным в своей одежде. И еще нужно было бы сказать о правилах, всевозможных условностях и жестких ограничениях, которые сковали его душу».
Всю свою жизнь он утверждал, что в нем борются две провинции (Изес и Руан) и две семьи (семья Жид и семья Рондо). Этот тезис, странно звучавший, позволял ему объяснять свою неспособность занять твердую позицию и склонность к резким переменам. Сочетание моральной строгости и того, что большинство людей называют пороком. С детства он страдал нервным расстройством, это факт. Schaudern[10 - Дрожь, ужас (нем.).], о которой говорит Гёте, – дрожь, сопровождаемая слезами, обостренное чувство вины, которое ему внушило одиночество, – все это заставляло его укрываться в воображаемом мире. Артистическая натура почти всегда является компенсацией за некий изъян. Совсем юным он пожелал скрыться от действительности, которая его ранила.
Из Эльзасской школы в Париже, куда определил его отец, он был отчислен за «дурные привычки». Тем не менее он успел подружиться там с Пьером Луи (впоследствии – Луисом)[11 - Луис Пьер (наст. имя Пьер Луи; 1870–1925) – поэт и писатель-модернист, разрабатывавший античные стилизации и эротическую тематику. Главное произведение – «Песни Билитис» (1894). – Ред.], которому признался по секрету о своем стремлении писать. Французское сочинение: первое место занимает Андре Жид, второе – Пьер Луи. Но мораль победила талант, и первый ученик по французскому оказался отчислен.
В лицее в Монпелье этот незаурядный ученик, так отличавшийся от своих однокашников, подвергся «насмешкам, побоям, травле». Его считали позером, потому что он читал стихи артистично, «поставленным голосом». Всякая школа становилась для Жида адом. Он не обращал внимания, утверждает Морис Надо[12 - Надо Морис (1911–2013) – литературный критик, историк словесности, издатель. – Ред.], на упражнения в пошлости, на чрезмерную утонченность остроумия. В таких случаях он прибегал к симуляции и изображал нервный криз. Врачи попадались на эту удочку и назначали ему курс лечения. Он чувствовал сам, что становится лживым и злым. «Решительно, меня подстерегал дьявол, я был весь состряпан из тьмы, и ничто не позволяло мне предчувствовать, откуда может прийти ко мне свет. И вот внезапно случилось ангельское явление, о котором я вам сейчас расскажу, чтобы оспорить меня у Злого Духа». Этим ангельским явлением стала его любовь к кузине Мадлен Рондо.
Это случилось в 1882 году, когда ему было тринадцать лет, а ей семнадцать. Он давно любовался ее красотой, очарованием и умом. Как-то вечером он увидел, что она страдает. У ее матери, женщины весьма легкомысленной, был любовник, и Мадлен это знала. Он увидел ее в слезах, и это потрясло его – он влюбился. (Этот эпизод позднее подтолкнет его написать роман «Тесные врата».) Любовь оказала на него благотворное влияние. «Теперь моя жизнь без нее стала бессмысленной». Они вместе читали прекрасные книги, музицировали, но эта любовь не была для него связана ни с каким плотским желанием. Сексуальное беспокойство облегчалось мастурбацией. Все женщины вызывали у него страх. «Тайна женщины, если бы я смог познать ее в половом акте, но этого акта я не сделал». В общем, он оставался до двадцати трех лет одновременно девственником и развратником. Он жил, как написал доктор Деле, «в компромиссе тайного удовлетворения, отравленного чувством вины».
И тем не менее еще совсем молодым он захотел жениться на Мадлен. Это будет, думал он, мистическая женитьба. Она любила его, но встретилась с противодействием своей семьи. Ее мать к тому времени сбежала с любовником, предоставив дочери жить впредь «как ребенку, испытавшему страх». Отец ее умер, и Мадлен Рондо взяла к себе ее тетя, мадам Поль Жид, мать Андре, которая не уставала напоминать девушке об опасности принимать за любовь детскую влюбленность.
Однако той было приятно и сладостно постигать со своим кузеном, нежным и чувственным, поэзию, музыку, красоту природы. Во время каникул, проведенных в семье, они по утрам гуляли, взявшись за руки. «Благостное очарование, пришедшее тебе на память в смертный час, победит мрак». Но стоило Андре лишь заговорить о женитьбе, как мадам Жид решительно этому воспротивилась. Она судила о своем сыне с суровой простотой, увидев, что он идет сразу по двум запретным путям: «одним – от мечтаний любви и музыки, другим – от чувства вины и стыда, но в целом – путем неодолимым и навязчивым, идущим от его сексуальных наклонностей»[13 - Клод Мартен. «Андре Жид о себе» (издательство «Editions du Seuil»). – Примеч. автора.]. Мадлен уже достаточно настрадалась. Нужно ли ей соглашаться на столь рискованный союз? И что может думать сама Мадлен о браке с кузеном, который говорит ей: «Я тебя не желаю, твое тело меня смущает, а физическая близость пугает».
Он признавался также этой молодой и серьезной девушке, что способен искренне разделять мысли и вкусы многих своих друзей, не совпадающие с его мыслями и вкусами. «Эта легкость, расцвеченная всеми цветами радуги, – писала она ему, – порой слишком… напоминает хамелеона». В общем, ее первым порывом было отказаться; и это стало бы благом для обоих.
Андре Жид, чтобы завоевать ее, в двадцать лет написал «Записные книжки Андре Вальтера». Они для него то же самое, что «Вертер» для Гёте. В том и другом сочинении юный романтик освобождается от романтизма, передав его герою. Потому что Андре Вальтер – это Андре Жид, и, несмотря на бессилие, которое почти всегда проявляет юность, описывая собственные страдания, автор выглядит очень похожим на своего персонажа. Слишком похожим, утверждает Мадлен. «Все это мы и о нас… Андре, ты не имел права описывать это». Но он не мог заставить себя не писать. После их совместного чтения поэтов (Верлена, Роллина) и, главное, «Интимного дневника» Амьеля[14 - Роллина Морис (1846–1903) – поэт и исполнитель песен. Амьель Анри-Фредерик (1821–1881) – швейцарский писатель, поэт, мыслитель-эссеист. Дневник, который он вел с 1839 г., был признан шедевром психологической аналитики. – Ред.] слишком многое переполняло его сердце. Это и называется призванием.
Есть две части «Записных книжек Андре Вальтера». В первой – «Записной книжке белой» – герой остается чистым. Он принимает боль, которую порождает конфликт между его верой и желаниями, и принимает ее почти с чувством счастья. Всю свою жизнь Жид будет находить некое наслаждение в конфликтах, в которые будет втянут. Моральная боль не бывает без сладостности, и он был, наверное, в достаточной степени членом семьи Жид, чтобы сказать, что из всех притворств гордости это – самое дьявольское.
«Те, кто ищет счастья, не поймут эту книгу, – говорит Андре Вальтер. – Душа в нем не находит удовлетворения, она дремлет в блаженстве; это отдохновение, но отнюдь не бодрствование. А нужно бодрствовать… Следовательно, лучше боль, чем радость, потому что она делает душу более жизнестойкой. Интенсивная жизнь – вот что превосходно; я не променял бы свою ни на какую другую, потому что я прожил множество жизней и реальность стала для меня пустяком».
Андре Вальтер (как и Андре Жид) испытывает страстную любовь к одной из своих кузин, Эмманюэль, – любовь целомудренную и пронизанную религиозными мыслями. Здесь прослеживается сходство с Байроном. Обоим нравится представлять свою жизнь, как бы раздираемую двумя противоположностями: с одной стороны – дьяволом, Злым Духом, с другой – ангельским видением, облегчающим влиянием утешительницы. Но Байрон в конце концов возненавидел супругу, являющуюся препятствием для кровосмесительной любви; Андре Вальтер больше всего страшится запятнать свою душу, уступив телу. Однако Злой Дух, который принимает разные обличья, иногда и друга-советчика, говорит ему:
«– Освободи душу, дав телу то, что оно требует.
– Пожалуй, – отвечает он, – но нужно, чтобы тело требовало возможного. Если я дам ему то, что оно просит, ты первый возмутишься».
Андре Моруа
Биографии, автобиографии, мемуары
Андре Моруа – известный французский писатель, член Французской академии, классик французской литературы XX века. Его творческое наследие обширно и многогранно – психологические романы, новеллы, путевые очерки, исторические и литературоведческие сочинения и др. Но прежде всего Моруа – признанный мастер романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Гюго и др. И потому обращение писателя к жанру литературного портрета – своего рода мини-биографии, небольшому очерку, посвященному тому или иному коллеге по цеху, – не было случайным. Объединяя очерки в циклы, Моруа выстраивал свою историю развития литературы. В этой книге Моруа много внимания уделяет своим современникам – французским писателям Андре Жиду, Ромену Роллану, Жану Кокто, Жану Полю Сартру и Симоне де Бовуар, Луи Арагону и др. Но есть в ней разделы, посвященные выдающимся авторам других стран и эпох – Геродоту, Шекспиру, Л. Толстому и др. Невероятная эрудиция, точность наблюдений, мастерство изложения позволяют Моруа великолепно передать психологические и творческие портреты своих героев. Настоящее издание составили два авторских сборника – «От Жида до Сартра» и «От Арагона до Монтерлана». Большая часть текстов печатается на русском языке впервые.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Андре Моруа
Литературные портреты: Искусство предвидеть будущее
Часть I
От Жида до Сартра
Вступительная заметка
В предыдущем томе, «От Пруста до Камю», я собрал эссе о некоторых современных писателях. Многие читатели выразили желание, чтобы я продолжил этот ряд, явно неполный. И вот новый блок. Он далек от того, чтобы исчерпать список тех, о ком стоило бы говорить. Толстой каждый вечер, ставя в своем дневнике дату следующего дня, писал: «Е… б… ж… (Если буду жив…)». Третий том позволит мне, возможно, хотя бы частично, заполнить неизбежный пробел в таком начинании. Если буду жив…
A. M.
Андре Жид
Андре Жид, родившийся в 1869 году, принадлежит к знаменательному поколению Клоделя, Валери, Пруста, Алена. Он единственный из них был удостоен Нобелевской премии. Его трудная пуританская юность, прошедшая в борьбе со своими инстинктами, его бунты и нонконформизм, его пристрастие к коммунизму (сменившееся скорым отрешением от него) привели к блистательной старости, подобной старости Гёте. Он не только стал кумиром, но и сохранил дружеские привязанности своей юности, и вызвал интерес у новых поколений. Он не нес им никаких доктрин, никаких новых идей, потому что любую доктрину рассматривал только как защиту своей чувственности. Но может быть, в этом и состояла философия или, скорее, какая-то неведомая методика, которая не знала иной реальности, кроме полной искренности желания. Воспитанный в строжайшей дисциплине, он потряс и порвал ее путы, но при этом «возвел идею принуждения», столь необходимую его натуре, в своего рода артистический аскетизм. По стилю, как и по культуре, Жид был классиком. Он не обладал ни естественной свободой Монтеня, ни точностью мысли Валери, ни гениальностью Пруста, ни глубиной Алена. И однако, он привлекал бесконечной молодостью и горячностью. Трудно сказать, что будут читать из его произведений, но их автор оставит воспоминание об успехе тем более удивительном, что его юность, казалось, сулила только поражение…
I
Об авторе, самом любимом молодыми людьми моего поколения, в годы своей юности я не знал почти ничего. А он уже был достаточно известен, и позднее я увидел из писем Жака Ривьера и Алена-Фурнье[1 - Ривьер Жак (1886–1925) – писатель и литературовед. Ален-Фурнье (наст. имя Анри Альбан Фурнье; 1886–1914) – писатель, получивший мировую известность благодаря единственному завершенному роману «Большой Мольн» (1913). – Здесь и далее в книге, кроме особо оговоренных случаев, примеч. переводчиков.], двух моих сверстников, что его произведения занимали немалое место в их юношеских мыслях. Но я был провинциальным лицеистом, к тому же в провинции весьма консервативной. В лицее Руана у меня были старые учителя, которые заставляли меня читать Гомера и Тибулла больше, чем Валери и Рембо, и самые молодые из них, если и доходили до Франса и Барреса[2 - Баррес Морис (1862–1923) – писатель и политический деятель. – Ред.], не знали Клоделя и Жида.
После войны 1914 года, во время которой я опубликовал свою первую книгу, Поль Дежарден[3 - Дежарден Поль (1859–1940) – историк. – Ред.], критик и профессор, пригласил меня провести несколько дней в старом бургундском аббатстве в Понтиньи с несколькими писателями, собиравшимися там каждое лето. В своем письме он заметил, что эта встреча будет тем более интересна, что ожидается присутствие Андре Жида.
Я до мельчайших деталей помню свою первую поездку в Понтиньи по узкоколейной железной дороге. Все двери были нараспашку, и из каждого купе доносились голоса писателей. На перроне рядом с хозяином дома стоял мужчина с бритым лицом, напоминавшим некоторые японские маски, лицом настолько удивительным, что от этого оно казалось красивым. На мужчине был широкий плащ, какие носят жители гор, в который он кутался с элегантной естественностью, а также широкополая шляпа с остроконечной тульей, сделанная из чего-то похожего на серый бархат. Это был Андре Жид.
Мы пешком прошли от вокзала до аббатства, и после первого же нашего разговора я был покорен. Чем? Прежде всего удивительно юной экспрессией, которая была заметна сразу – в его взгляде, в непринужденной походке, в оригинальности мысли. Ничто из того, что он говорил, не казалось банальным. В каждой теме он пытался добиться от собеседника не показного согласия, а искренности. Большинство людей схожи с граммофонной пластинкой. И стоит с ними познакомиться, как уже знаешь их репертуар. Жид всегда бывал разным. Очень оригинальным. Его свистящий голос удивил меня. Было что-то безапелляционное в его сомнениях, позитивное – в отрицании. «Обольстительное, доверительное и серьезное, – как говорил Мартен дю Гар[4 - Мартен дю Гар Роже (1881–1958) – писатель, лауреат Нобелевской премии 1937 г.; см. очерк о нем в наст. издании. – Ред.], – временами с громкими выкриками, когда он хочет подчеркнуть что-то важное».
Жизнь в Понтиньи мне понравилась. Каждый день с двух до четырех часов происходила открытая дискуссия на избранную тему. Это была академическая часть пребывания, а в остальное время мы могли гулять то с Жидом, то с Мартеном дю Гаром, то с Мориаком[5 - Мориак Франсуа (1885–1970) – писатель, лауреат Нобелевской премии 1952 г. – Ред.] и вести беседы, более свободные и более приятные. Вечером после ужина мы собирались, чтобы «немного поиграть». Жид в этих играх был душой общества, и тогда ощущение юности выражалось в том почти детском удовольствии, с каким он включался в игру, к примеру – в литературные портреты. Один из собравшихся загадочно обрисовывал героя какого-нибудь романа, второй, расспрашивая его, угадывал. Я вспоминаю тон ответа Жида, когда мы выбрали Мефистофеля Гёте и спросили его, главу противоположного лагеря: «Есть ли такой среди ваших друзей?» Жид ответил: «Я льщу себя надеждой!» Чертовская победа.
В этих дискуссиях меня поражала его живость. Стоило ему появиться в Понтиньи, как он тут же, находясь в любом обществе, очень быстро создавал кружки, не политические, а литературные и философские. Редко случалось, что Жид долго задерживался в одном из них. Когда я обратил на это его внимание, он ответил: «А с кем мне там спорить? В споре я всегда на стороне оппонента!» Жак Ривьер отметил, что для Жида «одна идея – это главным образом множество других», а сам Жид написал: «Для меня всегда непереносима необходимость выбора». Он утверждал, что именно в противоречиях индивидуум раскрывается по-настоящему.
В приватных разговорах он признавался, что боится одиночества, что тоска, которая может довести до желания смерти и перемежается весельем в другие минуты жизни и его юношеским любопытством, являет собой некий мифический персонаж, сложный и притягательный.
Во время пребывания в Понтиньи я рассказал ему, что работаю над «Жизнью Шелли». Он спросил:
– А вы не хотите мне показать это?
Я ответил:
– Но я еще не закончил работу…
– Прекрасно, – сказал он, – я люблю только незавершенные вещи. Законченная книга вызывает у меня впечатление чего-то мертвого, чего уже нельзя коснуться. Книга в процессе написания представляется мне каким-то прелестным живым существом.
И тогда я привез ему черновик своей рукописи в Нормандию – в его дом, стоящий недалеко от моря, на полпути между Гавром и Феканом. Я сразу узнал этот дворянский белый особняк, описанный им в «Тесных вратах».
«Похожий на множество провинциальных домов предыдущего века, с двадцатью окнами, выходящими в сад, который тянется и за домом; оконные рамы разделены на небольшие квадраты… Сад прямоугольной формы окружен стенами и образует перед домом широкую затененную лужайку, через которую дорожка из песка и гравия проложена к дому».
Дом в осеннем пейзаже «вблизи моря» выглядел олицетворением спокойствия и красоты – тех черт характера Жида, которые выдавали в нем нормандского буржуа. Благородная простота его приема напомнила мне, словно гармоничный резонанс, естественное достоинство и любезность, которые покорили меня в нем при первой же нашей встрече. Я прочел ему свою рукопись. Он терпеливо выслушал меня, делая какие-то пометки, а потом высказал свои замечания, верность и точность которых меня очаровали. Немногие из людей имели такое чувство языка, как он; немногие из людей также бывают справедливыми судьями, говоря о том, что в книге необходимо, а что – пустое украшательство. На следующий день он, в свою очередь, прочел мне несколько глав из «Фальшивомонетчиков», над которыми в то время работал. Я уехал счастливый, потрясенный своим открытием – разницей между Жидом и легендой о нем.
Позднее мне все же пришлось понять, что и в легенде есть своя доля истины и что и описание Жида, которое я сделал после нашей первой встречи, не было – тоже не было – в полной мере точным. Потому что Жид не был однозначен. Впрочем, какой человек однозначен?..
II
«В том невинном возрасте, когда жаждут, чтобы вся душа была наполнена только ясностью, нежностью и чистотой, я видел в себе лишь тень, уродство и скрытность». И еще: «Это мое одинокое и унылое детство сделало меня таким, каков я есть». Поразительное признание. На основании его автобиографии критики описали Жида как некоего пуританина, который, получив слишком суровое воспитание, якобы стал борцом с уродством пуританизма своей семьи. Это общепринятое объяснение требует уточнения.
По отцу, профессору права Полю Жиду[6 - Жид Поль (1832–1880) – юрист и историк, профессор римского права в Парижском университете. – Ред.], Андре Жид происходил из южных протестантов (его дед был пастором), а по матери – из руанской семьи Рондо, богатых промышленников-католиков, ставших протестантами в результате заключения браков. Один из Рондо был мэром Руана, и одна из улиц города носит его имя. Обе семьи были богаты. Поместье в Кювервиле, замок в Рок-Беньяке (Кальвадос), гугенотский дом на юго-западе (Изес, Монпелье), роскошные апартаменты в Париже на улице Турнон. Жид родился богатым буржуа, выходцем из протестантской среды и только много позже, уже дистанцировавшись, заинтересовался социальными битвами своего времени.
Отец был с ним нежен и внимателен; мать «оставалась слишком озабоченной другими и их суждениями». Жан Деле[7 - Деле Жан (1907–1987) – психиатр и невролог, писатель. – Ред.] очень точно определил родителей Жида[8 - «Юность Андре Жида» (издательство «Gallimard»). – Примеч. автора.]: «С одной стороны – очарование, веселость, терпимость, интеллектуальная культура; с другой – несколько давящая серьезность, строгость в отправлении культа и морали». Юность Жида прошла в атмосфере чтения Библии, Евангелий. Кальвинистская суровость матери должна была воспитать в нем стойкость. Он ей подражал, боялся ее, уважал ее. Фрейдисты сказали бы (они и сказали), что в этом уважении к ревнивой матери нужно видеть проявление неестественной чувственности сына. Впоследствии он стремился следовать традициям бережливости и простой жизни в достатке, которые она ему передала.
Когда Жиду было двенадцать, умер его отец, и это было для него невосполнимой потерей. Никто больше не возражал против требований матери, полных ненавистной ему добродетели, «единственной заботой» которой было вытравить естественные склонности ребенка. Он обожал ее сердце, «которое никогда не допускало никакой низости, которое билось только для других», беспрестанно принося себя в жертву не столько из долга благочестия, сколько из склонности своей натуры. Но к восхищению примешивалось горькое разочарование. Мать установила тиранический режим: «Никакой длительный мир между нами был невозможен. Впрочем, я отнюдь не винил свою мать: она была в своем амплуа, казалось мне, даже когда мучила меня больше всего. По правде сказать, я не уверен, что любая мать, думающая о своем долге, не ищет, как подчинить своего сына, но также нахожу вполне естественным и то, что сын восстает против этого… Я думаю, о моей матери можно было бы сказать, что качества, которые ей нравились в людях, отнюдь не были присущи тем, на кого она обращала свою любовь, – скорее ей хотелось так их видеть. Тем не менее я стараюсь понять, зачем столько душевных сил она тратила на других, главным образом на меня… Она по-своему так любила меня, что иногда заставляла ненавидеть ее и доводила до того, что нервы мои были на пределе. Представьте себе, чем могут стать беспрестанная забота и непрерывные навязчивые советы – советы, касающиеся ваших действий, мыслей, расходов, выбора ткани для вас, даже вашего чтения и названия книг».
Действительно, во многом по вине матери юноша вырос замкнутым. Рамон Фернандес[9 - Фернандес Рамон Мария Габриэль Адеодато (1894–1944) – писатель и журналист мексиканского происхождения; во время войны – коллаборационист. – Ред.] употребляет выражение «зажатый», и это, возможно, точно даже в смысле физическом. Жид описал нам одежду, которую выбирали для него в детстве: «Я очень ревниво относился к одежде и очень страдал из-за того, что был безобразно и безвкусно одет. Я носил обуженные курточки, короткие штаны, обтягивающие коленки, и полосатые носки, слишком короткие, которые сползали вниз, то один, то другой, и уползали в обувь. Я навсегда запомнил самое ужасное: накрахмаленную рубашку. Мне надо было ждать, когда я стану почти мужчиной, чтобы добиться того, чтобы мне не крахмалили больше грудь рубашки. Но так было принято, так было модно, и тут уж ничего не поделаешь. Представляете себе несчастного ребенка, который весь день, во время игры и во время занятий, неизвестно для чего носит спрятанные под курточкой своего рода белые латы, которые заканчиваются эдаким железным ошейником – пристежным воротничком, – потому что гладильщица тоже крахмалила его, и при любом повороте он врезался в шею. Из-за этого любая курточка, широкая или узкая, не сидела на такой рубашке хорошо, и на ней появлялись отвратительные складки. Попробуйте-ка заниматься спортом в подобном одеянии!»
Эта накрахмаленная рубашка и этот слишком жесткий пристегивающийся воротничок являются символами детства, в котором не было места расслабленности и свободе. «Никогда, – написал Рамон Фернандес, – никогда Жид не станет настолько старым, чтобы перестать радоваться возможности носить ненакрахмаленные рубашки, просторную одежду и чувствовать себя свободным в своей одежде. И еще нужно было бы сказать о правилах, всевозможных условностях и жестких ограничениях, которые сковали его душу».
Всю свою жизнь он утверждал, что в нем борются две провинции (Изес и Руан) и две семьи (семья Жид и семья Рондо). Этот тезис, странно звучавший, позволял ему объяснять свою неспособность занять твердую позицию и склонность к резким переменам. Сочетание моральной строгости и того, что большинство людей называют пороком. С детства он страдал нервным расстройством, это факт. Schaudern[10 - Дрожь, ужас (нем.).], о которой говорит Гёте, – дрожь, сопровождаемая слезами, обостренное чувство вины, которое ему внушило одиночество, – все это заставляло его укрываться в воображаемом мире. Артистическая натура почти всегда является компенсацией за некий изъян. Совсем юным он пожелал скрыться от действительности, которая его ранила.
Из Эльзасской школы в Париже, куда определил его отец, он был отчислен за «дурные привычки». Тем не менее он успел подружиться там с Пьером Луи (впоследствии – Луисом)[11 - Луис Пьер (наст. имя Пьер Луи; 1870–1925) – поэт и писатель-модернист, разрабатывавший античные стилизации и эротическую тематику. Главное произведение – «Песни Билитис» (1894). – Ред.], которому признался по секрету о своем стремлении писать. Французское сочинение: первое место занимает Андре Жид, второе – Пьер Луи. Но мораль победила талант, и первый ученик по французскому оказался отчислен.
В лицее в Монпелье этот незаурядный ученик, так отличавшийся от своих однокашников, подвергся «насмешкам, побоям, травле». Его считали позером, потому что он читал стихи артистично, «поставленным голосом». Всякая школа становилась для Жида адом. Он не обращал внимания, утверждает Морис Надо[12 - Надо Морис (1911–2013) – литературный критик, историк словесности, издатель. – Ред.], на упражнения в пошлости, на чрезмерную утонченность остроумия. В таких случаях он прибегал к симуляции и изображал нервный криз. Врачи попадались на эту удочку и назначали ему курс лечения. Он чувствовал сам, что становится лживым и злым. «Решительно, меня подстерегал дьявол, я был весь состряпан из тьмы, и ничто не позволяло мне предчувствовать, откуда может прийти ко мне свет. И вот внезапно случилось ангельское явление, о котором я вам сейчас расскажу, чтобы оспорить меня у Злого Духа». Этим ангельским явлением стала его любовь к кузине Мадлен Рондо.
Это случилось в 1882 году, когда ему было тринадцать лет, а ей семнадцать. Он давно любовался ее красотой, очарованием и умом. Как-то вечером он увидел, что она страдает. У ее матери, женщины весьма легкомысленной, был любовник, и Мадлен это знала. Он увидел ее в слезах, и это потрясло его – он влюбился. (Этот эпизод позднее подтолкнет его написать роман «Тесные врата».) Любовь оказала на него благотворное влияние. «Теперь моя жизнь без нее стала бессмысленной». Они вместе читали прекрасные книги, музицировали, но эта любовь не была для него связана ни с каким плотским желанием. Сексуальное беспокойство облегчалось мастурбацией. Все женщины вызывали у него страх. «Тайна женщины, если бы я смог познать ее в половом акте, но этого акта я не сделал». В общем, он оставался до двадцати трех лет одновременно девственником и развратником. Он жил, как написал доктор Деле, «в компромиссе тайного удовлетворения, отравленного чувством вины».
И тем не менее еще совсем молодым он захотел жениться на Мадлен. Это будет, думал он, мистическая женитьба. Она любила его, но встретилась с противодействием своей семьи. Ее мать к тому времени сбежала с любовником, предоставив дочери жить впредь «как ребенку, испытавшему страх». Отец ее умер, и Мадлен Рондо взяла к себе ее тетя, мадам Поль Жид, мать Андре, которая не уставала напоминать девушке об опасности принимать за любовь детскую влюбленность.
Однако той было приятно и сладостно постигать со своим кузеном, нежным и чувственным, поэзию, музыку, красоту природы. Во время каникул, проведенных в семье, они по утрам гуляли, взявшись за руки. «Благостное очарование, пришедшее тебе на память в смертный час, победит мрак». Но стоило Андре лишь заговорить о женитьбе, как мадам Жид решительно этому воспротивилась. Она судила о своем сыне с суровой простотой, увидев, что он идет сразу по двум запретным путям: «одним – от мечтаний любви и музыки, другим – от чувства вины и стыда, но в целом – путем неодолимым и навязчивым, идущим от его сексуальных наклонностей»[13 - Клод Мартен. «Андре Жид о себе» (издательство «Editions du Seuil»). – Примеч. автора.]. Мадлен уже достаточно настрадалась. Нужно ли ей соглашаться на столь рискованный союз? И что может думать сама Мадлен о браке с кузеном, который говорит ей: «Я тебя не желаю, твое тело меня смущает, а физическая близость пугает».
Он признавался также этой молодой и серьезной девушке, что способен искренне разделять мысли и вкусы многих своих друзей, не совпадающие с его мыслями и вкусами. «Эта легкость, расцвеченная всеми цветами радуги, – писала она ему, – порой слишком… напоминает хамелеона». В общем, ее первым порывом было отказаться; и это стало бы благом для обоих.
Андре Жид, чтобы завоевать ее, в двадцать лет написал «Записные книжки Андре Вальтера». Они для него то же самое, что «Вертер» для Гёте. В том и другом сочинении юный романтик освобождается от романтизма, передав его герою. Потому что Андре Вальтер – это Андре Жид, и, несмотря на бессилие, которое почти всегда проявляет юность, описывая собственные страдания, автор выглядит очень похожим на своего персонажа. Слишком похожим, утверждает Мадлен. «Все это мы и о нас… Андре, ты не имел права описывать это». Но он не мог заставить себя не писать. После их совместного чтения поэтов (Верлена, Роллина) и, главное, «Интимного дневника» Амьеля[14 - Роллина Морис (1846–1903) – поэт и исполнитель песен. Амьель Анри-Фредерик (1821–1881) – швейцарский писатель, поэт, мыслитель-эссеист. Дневник, который он вел с 1839 г., был признан шедевром психологической аналитики. – Ред.] слишком многое переполняло его сердце. Это и называется призванием.
Есть две части «Записных книжек Андре Вальтера». В первой – «Записной книжке белой» – герой остается чистым. Он принимает боль, которую порождает конфликт между его верой и желаниями, и принимает ее почти с чувством счастья. Всю свою жизнь Жид будет находить некое наслаждение в конфликтах, в которые будет втянут. Моральная боль не бывает без сладостности, и он был, наверное, в достаточной степени членом семьи Жид, чтобы сказать, что из всех притворств гордости это – самое дьявольское.
«Те, кто ищет счастья, не поймут эту книгу, – говорит Андре Вальтер. – Душа в нем не находит удовлетворения, она дремлет в блаженстве; это отдохновение, но отнюдь не бодрствование. А нужно бодрствовать… Следовательно, лучше боль, чем радость, потому что она делает душу более жизнестойкой. Интенсивная жизнь – вот что превосходно; я не променял бы свою ни на какую другую, потому что я прожил множество жизней и реальность стала для меня пустяком».
Андре Вальтер (как и Андре Жид) испытывает страстную любовь к одной из своих кузин, Эмманюэль, – любовь целомудренную и пронизанную религиозными мыслями. Здесь прослеживается сходство с Байроном. Обоим нравится представлять свою жизнь, как бы раздираемую двумя противоположностями: с одной стороны – дьяволом, Злым Духом, с другой – ангельским видением, облегчающим влиянием утешительницы. Но Байрон в конце концов возненавидел супругу, являющуюся препятствием для кровосмесительной любви; Андре Вальтер больше всего страшится запятнать свою душу, уступив телу. Однако Злой Дух, который принимает разные обличья, иногда и друга-советчика, говорит ему:
«– Освободи душу, дав телу то, что оно требует.
– Пожалуй, – отвечает он, – но нужно, чтобы тело требовало возможного. Если я дам ему то, что оно просит, ты первый возмутишься».