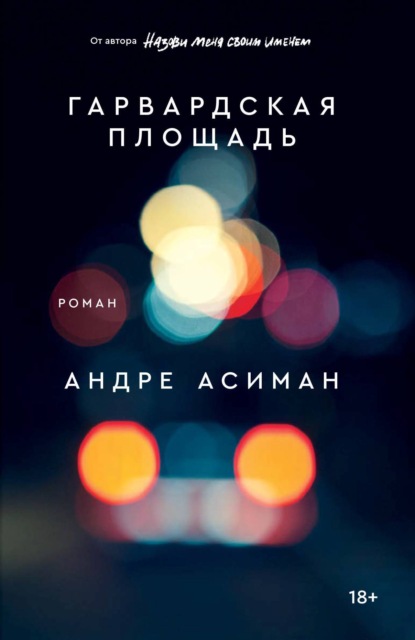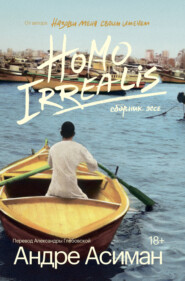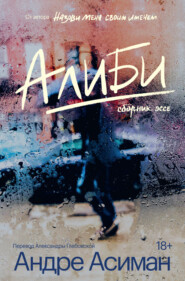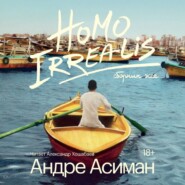По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Гарвардская площадь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А знаю я, почему он же вечно твердит, что хватит уже покупать дорогие шмотки?
Хочет, чтобы ты понял, что у него к ним прирожденный вкус.
И так далее, и тому подобное.
Каждого человека он измерял по шкале Рихтера на предмет подлинности или страстности, чаще и того и другого, потому что первое неизбежно предполагало второе. До его планки не дотягивал никто. В его вселенной кишели люди, которые не являлись теми, за кого себя выдавали. Где он подцепил такой образ мыслей? Есть в этом хоть доля правды? Или все это отпетая чушь, которую он вытягивает из собственной лампы Аладдина, а пламя в ней раздувают ночные кошмары и демоны в деменции? Или просто этот человек, совершенно несчастный, не знает иного способа удержаться на плаву в Новом Свете, разобраться в котором он способен одним-единственным способом: сказать себе, что постиг все его гнусные и скользкие штучки, способен прочитать на лице под маской всю его подноготную, знает, в какую сторону крутится мир, потому что под ним мир провернулся вон уже сколько раз?
В итоге все, что при нем оставалось, это догадки, скорострельный третьемирный треп и паранойя: этакий ясновидящий из пустыни и уличный карманник в одном лице.
– Ты замечал, что всегда переходишь улицу наискосок? – спросил он меня однажды.
– Да, так же короче, – ответил я, имея в виду гипотенузу.
– Верно, только ты не поэтому.
Я раньше об этом не задумывался и теперь решил не вдаваться. Понял другое – он видит меня насквозь: я все делаю с хитрецой, родился этаким обтекаемым, читай – неблагонадежным.
Я сделал вид, что не слышу.
И в этом он, судя по всему, тоже увидел меня насквозь.
Я был уклончив, он прямолинеен. Я никогда не повышал голоса, он орал громче всех на Гарвардской площади. Я был скован, опаслив, застенчив; он – бесшабашен и безжалостен, чистая пороховая бочка. Он все мысли высказывал вслух. Я свои хранил, точно в сейфе. Он всем смотрел в лицо; я дожидался, пока ко мне повернутся спиной. Он ни во что не верил, пленных не брал, волтузил всех без разбору. Я всех терпел и при этом никого не любил. У него вся любовь была напоказ, моя была погребена в недрах, да и там… Он в Штатах оказался недавно, но уже успел поговорить едва ли не со всеми в Кембридже; я четыре года проучился в Гарварде, но тем летом выпадали целые дни, когда мне не с кем было перекинуться словом. Расстроившись или заскучав, он щетинился, ерзал, потом взрывался; я же был сама сдержанность. Он во всем впадал в крайности, а мне имя было компромисс, а прозвище – сдержанность. Если он что-то начал, его уже было не остановить, я же от малейшего дуновения вставал как вкопанный. Он мог бросить любого не задумавшись, я же спешил мириться, а потом дулся про себя. Он умел проявлять жестокость. Я редко проявлял доброту. Ни у него, ни у меня не было денег, но случались дни, когда я был его намного, намного беднее. Он не видел в бедности ничего зазорного, поскольку в бедности родился. Для меня у стыда были глубокие карманы, глубже, чем даже твое «я», поскольку стыд способен забрать и жизнь, и душу, проникнуть во все поры, вывернуть тебя наизнанку, точно старый носок, обнажить твою подлинную окончательную суть – и вот тебе уже нечем похваляться, все в самом себе тебе противно и, дабы это сносить, ты осуждаешь всех остальных. Он гордился знакомством со мной, а мне было неприятно, если нас видели вместе за пределами узкого круга посетителей кафе. Он был таксистом, я учился в престижном университете. Он был арабом, я евреем. В противном случае мы могли бы в любой миг поменяться ролями.
Несмотря на свою гневливость, несмотря на неприкаянную кочевую жизнь, он оставался человеком с этой планеты; я же постоянно сомневался в том, что мне здесь место. Он любил землю, понимал людей. Швыряй его куда хочешь, а он все равно встанет на ноги; я же, даже в состоянии покоя, вечно был не на месте, в глубинах себя. Если и создавалось впечатление, что я к чему-то прилепился, то лишь потому, что я замер на месте. Он вроде не на привязи, а на деле – в постоянном поиске добычи; я – в постоянной неподвижности. Если я и начинал шевелиться, то напоминал неумеху, что стоит, вконец растерявшись, на хлипком плоту посреди порогов; плот движется, вода движется, а я – куда там.
Я ему завидовал. Хотел у него учиться. Он был мужчиной. Я плохо понимал, кто я такой. Он был голосом, отсутствующим звеном цепи, соединяющей меня с прошлым, человеком, в которого я мог бы вырасти, обернись жизнь по-иному. Он остался дикарем, меня укротили, обротали. Но если взять меня и опустить в мощный растворитель, так, чтобы с кожи сошли все привычки, приобретенные в школе, и все уступки, которые я сделал Америке, может, там бы обнаружился не я, а он, и синее Средиземное море хлынуло бы на пляж точно так же, как он выплескивался в пейзаж всякий раз, когда я, набравшись храбрости, подходил к его столику в кафе «Алжир» и прерывал разделявшее нас молчание.
В другой стране, другом городе, в иные времена я никогда бы к нему не повернулся, а он мне даже не ответил бы на вопрос, который час. Не в моих привычках было подходить к незнакомцу, я никогда бы этого и не сделал, не разгляди я в нем частичку себя, нечто приглушенное и позабытое, что я опознавал моментально, стоило этому нечто фанфарой пропеть в его речи. Его вздорные тирады при всем их болезненном бессмысленном несварении что-то мне говорили, возвращали в прошлое – как вот кафе «Алжир» возвращало к чему-то далекому, безымянному, к чему-то, что я проглядел в самом себе.
Как я скоро выяснил, он оказался единственным, кроме меня, человеком во всем Кембридже, который не только не смотрел «Звездные войны», но принципиально от этого отказывался, скорбел, глумился над культом, который в то лето внезапно вырос вокруг. Оби-Ван Кеноби, Дарт Вейдер и Люк Скайуокер были у всех на устах, будто общеизвестные персонажи из шекспировской пьесы, а R2-D2 и C-3PO косили под мелких шутов и подхалимов-придворных. Для Калажа же они были воплощениями зажравшегося эрзаца.
Поначалу меня к Калажу потянула одна вещь, не имевшая ничего общего с его лукавым шестым чувством, его инстинктами выживания или могучими выплесками, которые непостижимым образом обхватывали вас своими ручищами и душили, пока не превратятся в хохот. Не была это и его псевдоколючая задушевность, которая столь многих отталкивала, а мне казалась до боли родной, потому что заставляла вспомнить те мгновенно складывавшиеся дружбы, когда оскорбление в адрес его мамы, а вслед за ним – еще одно, в адрес моей, способно было сблизить двух десятилеток на всю жизнь.
Возможно, он был двойником подлинного меня, моей примитивной ипостасью, которую я потерял из виду и слущил с себя по ходу жизни в Америке. Мое теневое «я», мой портрет Дориана Грея, мой безумный брат с чердака, мой мистер Хайд, мой совсем, совсем грубый набросок. Я – без маски, без цепей, без поводка, без ретуши: я, ничем не стесненный, я в лохмотьях, я в ярости. Я без книг, без лессировок, без грин-карты. Я с «калашниковым».
Если мне и нравилось его слушать, то не потому, что я принимал на веру или хотя бы ценил все то, что он каждый день нес в кафе «Алжир», а потому, что было в тембре и фразировке его речи нечто такое, что как бы перебирало сваленные в кучу древние обломки, напоминая мне о человеке, которым я, может, и родился, но которым не стал. Если я и не принимал всерьез те инвективы, которые он ежедневно обрушивал на Америку, то лишь потому, что на самом деле поносил он вовсе не Америку, а голос его не был голосом озадаченного жителя Ближнего Востока, который пытается оградить себя от беспощадного Запада. Нет, я слышал там хриплый, с присвистом, угрожающий тембр более древнего извода человечества, более древние способы быть человеком, он ярился, ярился против накатывающей волны нового, которая обликом и поведением схожа с людской расой, а на деле ею не является. Речь тут шла не о столкновении цивилизаций, ценностей или культур; дело было в том, который орган, которую камеру сердца, которое из возлюбленных пяти чувств человечество от себя отсечет, дабы влиться в современность.
Именно поэтому он, по его собственным словам, ненавидел нектарины. По-французски brugnons. Людей якобы нектаризируют: сладость без доброты, все чувства правильные, но не от сердца: их выводят искусственным путем, сшивают из лоскутьев, рождают кесаревым сечением, а не естественным способом, вот и выходит голова что слива, жопа что персик, а яйца размером с изюминки. У нектарина в царстве фруктов ни единого живого родича. Он результат скрещивания.
– В смысле, как вот и мы – результаты скрещивания? – спросил я у него как-то в кафе «Алжир», после того как он долго распинался, что у президента Картера, мол, нектариновое лицо, а уж улыбка и подавно. Лицо, согласился я, ну чистый нектарин. Вот только остальные мы разве лучше? Все мы такая же фальшивка, как и прочие, а уж те, кто успел пожить на трех континентах, – чистый результат скрещивания.
– Да, полагаю, вроде нас с тобой, – согласился он. А потом, через миг: – Нет, не как мы с тобой. Нектарин считает себя фруктом. Он понятия не имеет про собственную неестественность и, сколько ты ему это ни доказывай, не согласится. Вот тебе доказательство: он даже способен рожать детей, как вот и роботы смогут рано или поздно рожать детей.
Тут вид у него сделался задумчивый и даже печальный.
– Пока детей не заведешь, вообще не понять, человек ты или нет.
Откуда это у него такие представления?
– А у тебя есть дети? – спросил я.
– Детей у меня нет.
– Ну так? – Я его поддразнивал.
– У меня есть кожа. И только. – И опять, как и в день нашего знакомства, он ущипнул себя за предплечье. – Вот. Вот мое доказательство. Цвет почвы в моей стране, цвет пшеницы. Но, – добавил он, будто по здравом размышлении (он любил дополнять самого себя по здравом размышлении), – я хотел бы завести ребенка.
Все это громким голосом, по-французски, чтобы посильнее заинтриговать женщину, сидевшую за соседним столиком, которая, вероятно, гадала, а она сама-то не нектарин, надеялась, что нет, одновременно пытаясь сообразить, хорош ли этот плут-проповедник в постели в качестве любовника.
В чем, собственно, и заключалась цель всей диатрибы.
При всем при том окончательно и с самого начала нашу дружбу скрепила общая любовь к Франции и французскому языку, а говоря еще точнее – к нашему образу Франции, потому что настоящая Франция нам уже была не больно-то и нужна, равно как и мы ей. Мы лелеяли эту любовь точно постыдную тайну, потому что не могли ее изжить, не доверяли ей, даже не хотели давать ей гордого имени любви. Но она нависала над нашими жизнями, будто краденое и докучное наследство, полученное из детских лет, которые каждый из нас провел в Северной Африке. Возможно, любовь мы испытывали даже не к Франции и не к французской романтике; возможно, Францией мы прозвали отчаянную попытку найти в своей жизни хоть какое-то основание – для нас обоих прошлое оставалось самой надежной подпоркой, а прошлое наше было написано по-французски.
Каждый вечер мы отыскивали друг друга в барах и кофейнях Кембриджа, усаживались вместе и около часа говорили по-французски про Францию, которую оба любили и утратили. Он оказался в Кембридже, потому что скрывался от долгов, от алиментов, от поди пойми каких злополучных затей и беззаконных предприятий, в которые ввязался во Франции. Я оказался в Кембридже, потому что до сих пор не набрался смелости собрать вещи и назвать Францию своим домом. Но с самого того дня, когда мы начали сталкиваться едва ли не каждый вечер, мы стали друг для друга максимальным приближением к Франции. Даже легковесная насыщенность его сбродных понятий, почерпнутых из рабочих кофеен на улице Муфтар и перемещенных в тускло освещенный бар «Касабланка», помогала поддерживать эту иллюзию на плаву. До последнего звонка. С последним звонком все делалось еще насущнее, отчаяннее, потому что, когда включали свет и мы наконец-то выходили из бара на успевшую опустеть Брэттл-стрит, мы заранее предчувствовали, что и в этот вечер, как во всякий другой, не минует нас отрезвляющее понимание того, что это не Франция и никогда Францией не будет, что все неправильно и правильно не будет никогда, что и с самой Францией все не так, потому что нам не так где угодно: и здесь, и во Франции, и в том месте, где каждый из нас появился на свет, – в местах, переставших быть нашей родиной. Мы обижались на Кембридж за то, что он не Париж, как в будущем мне предстояло обижаться на многие места за то, что они не Кембридж, и это все равно что обижаться на человека за то, что он не является кем-то другим или не соответствует требованиям, на которые сам он никогда не подписывался.
Все, что эхом звучало у нас в головах, когда мы прощались и наконец-то отправлялись в жилища, которые ни тот ни другой не мог по совести назвать домом, – это предпринятые за истекший вечер попытки сострить по-французски, на языке, на котором мы говорили с радостью и с горечью в сердце, поскольку говорили с ущербными акцентами, потому что для нас это был первый язык, но не родной. А который нам родной, мы не ведали вовсе.
Калаж, бербер по рождению, вырос в Тунисе и там полюбил Францию, я же с самого детства боготворил Париж, живя в Александрии. Тунис исчерпал для него свою пользу, когда он в семнадцать лет в Марселе взошел на борт военного корабля, как для меня исчерпал свою пользу Египет, изгнавший меня в четырнадцать за мое еврейство. Мы с ним – этим он любил хвастаться, когда сталкивался в баре с женщинами, – являлись оборотными сторонами друг друга.
Ислам вызывал у него такую же досаду, какую у меня – иудаизм. Наше равнодушие к религии, к своему народу, к непрекращающимся конфликтам на Ближнем Востоке, к очень многим вещам, которые с легкостью могли вбить между нами клин, наше презрение к патриотизму, знаменам, любому «правому делу» и всевозможным уютным идеологиям, которые кочуют по Европе с конца шестидесятых, не оставили нам почти ничего, кроме несколько замызганного чувства лояльности – он это называл complicitе, приверженностью, – к тем, кто мыслил как мы, кто походил на нас. Вот только других таких, как мы, не было. Я сомневаюсь, что мы вообще знали, что из себя представляет «такой, как мы», поскольку сами были совсем разными. Мы ничего не придерживались, к нам ничто не прилеплялось, ничто даже не «цепляло». Столицей нашей был вымышленный Париж. Родной страной – мы двое. Остальное – хрень. De la merde. Паспорта – хрень. Газеты – хрень. Кембридж – хрень. Мои экзамены – хрень. Книги, которые я читаю, – хрень. Массивный таксомотор компании «Чекер», за руль которого он садился каждый день (его Немезида именовала машину «Титаником»), – хрень, его женщины, заявка на грин-карту, которая, судя по всему, лежит мертвым грузом, его адвокат, «Касабланка», его непрорезавшиеся зубы мудрости, его первая жена, его вторая жена, его брак со второй женой до развода с первой (вторую он возненавидел так же сильно, как и первую, поскольку обе в итоге вышибли его из своей жизни, ведь все всегда вышибают его из своей жизни) – все это хрень. Даже объявления о знакомствах, которые он любил читать в свежем выпуске «Бостон феникс», – хрень, да и его ответы, которые мне приходилось писать за него по-английски, – хрень. Он всем и на все возражал, потому что в возражениях слышал свой собственный голос, однако, услышав его, тут же разворачивался и противоречил самому себе, заявлял, что в нем самом хрени не меньше, чем во всяком другом. Единственное исключение, заявлял он, составляют семья и род. Его самый младший брат, мама и даже сестра, которая сбежала в Париже с алжирцем и с которой он отказывался иметь какие бы то ни было дела и все же время от времени отправлял ей посылки с американскими гостинцами. Возможно, в итоге он и меня включил в свой крошечный клан. За всех нас он отдал бы жизнь не задумываясь. Он, видимо, знал (а я знал это всегда) что я бы ради него не рискнул ничем – видимо, от недостатка мужества и привязанности.
Если я ему и помогал – например, я много часов натаскивал его перед интервью в Иммиграционной службе, – то, видимо, делал это либо просто не задумываясь, либо потому, что не мог придумать веского предлога для отказа. А может быть, для меня это был способ отвлечься от собственной работы, почувствовать, что я делаю что-то полезное, помимо чтения всех этих книг, которые наверняка больше никогда не стану перечитывать. Он пылко меня благодарил и добавлял, что чужая помощь в его жизни такая редкость, что он особенно ценит людей, которым есть что отдавать. Я отнекивался, мямлил, что все это пустяки. Он упорствовал в том, что я не прав, что верный признак хорошего друга – неспособность понять, насколько он хороший друг. Я успел усвоить, что спорить себе дороже. Одолжение это далось мне слишком легко, не несло в себе ни малейшего риска, никаких обязательств, нравственных терзаний, не требовало преодоления трудностей или сомнений. Я знал, что разница между добрым делом и необременительным бескорыстием – это такая мелкая монетка, брошенная на поднос. «Порешим на том, что помочь мне было тебе в радость», – добавил он, пресекая нашу дискуссию, когда в один из дней мы вышли из кафе «Алжир», выпив там пять чашек кофе. Видимо, за своей пылкой благодарностью он пытался скрыть то, что всегда подозревал: что для меня это лишь мимолетное приятельство, при том что я для него давно утраченный брат, о существовании которого он и не подозревал, пока случайно не встретил его в кафе «Алжир». «Когда-нибудь тебе придется мне объяснить, почему ты позволил мне стать твоим другом, – говаривал он, – и тогда я тоже расскажу тебе почему. Но начать придется тебе». Когда он пускался в такие разговоры, я всегда кидал на него лишенный выражения взгляд: «Чего-чего? Ты вообще о чем там?» «Когда-нибудь», – повторял он, тщательно оценив мой намеренно пустой взгляд, ничуть его не обманувший.
Мы так безошибочно считывали друг друга также и потому, что нас связывала еще одна вещь: крайне редкостного рода презрение ко всему и всем. Презрение мы выражали по-разному, однако проистекало оно, по всей видимости, из общего источника самоненавистничества. Мой бил точно кипучий ключ, извергавший желчь и бессловесную досаду; его – фонтанировал яростью. Человек не рождается самоненавистником. Однако сгребите в кучу все свои ошибки, ошибитесь в направлении на достаточном количестве жизненных перекрестков – и вы очень быстро перестанете себя прощать. Куда ни погляди, отовсюду в ответ на тебя таращатся стыд и неудача.
В нем это было. Во мне тоже. Сплошные промахи, каждый из них роковой в своей вероломной малости. Промахи и хрень. Хрень представляла собой наш протест, попытку огрызнуться в ответ. Орать «хрень» и «брейдятина» было для него все равно что поливать спиртом рану в надежде, что хуже не будет. Слово «хрень» ты произносишь, чтобы отразить первый удар. Оставить за собой последнее слово. Показать, что там, откуда ты его почерпнул, остались и еще слова. Проверить заранее, чтобы потом не схлопнуться на глазах у других. Мы и самим себе орали: «хрень». Хрень – последняя подпорка для пошатнувшейся гордости, последняя опора на зыбучем песке под названием «чувство собственного достоинства». После этого – только потоки слез.
Плакал он при мне дважды. В первый раз – когда узнал, что его отца, оставшегося в Тунисе, срочно госпитализировали с перитонитом. После этого из Туниса – ни писем, ни звонков, гробовое молчание. А сам он тут, закопался в нору на краю света, в Кембридже. Подобно персонажу из «Касабланки», он был неприкаянной душой: дожидался транзитных писем, которые никогда не придут, заводил недолговечные знакомства в сомнительных заведениях. Почему он оказался в Касабланке? Да просто – как говорит в фильме Богарт – его дезинформировали. Не следовало ему сюда приезжать. А он здесь, этакий одинокий контрабандист в мире, которому смертельно надоели неприкаянные антигерои-самоненавистники – поскольку сами эти антигерои давно превратились в хлам и хрень.
Плакал он не только по отцу. Еще и по себе, ведь не мог сесть на первый же самолет в Тунис, не мог вернуться домой еще более нищим, чем когда уехал оттуда семнадцать лет назад, потому что, если он уедет сейчас, его никогда больше не впустят в США, потому что он стыдится себя нынешнего. Безвыходное положение. Я до того никогда не видел, чтобы человек молотил себя по голове сразу обоими кулаками. А он молотил, пока я не перехватил эти его кулаки и не сказал:
– Все, хватит, ради бога, бросай ты себя увечить!
Ни он, ни я не верили в Бога. Я обхватил его рукою за плечи. Раньше я такого не делал. Он рыдал, уткнувшись мне в плечо, я ощущал, как вздымается его грудь, а потом он вдруг расхохотался. Через двадцать минут он рассказывал всем посетителям кафе, что разрыдался у меня в объятиях как женщина: прямо как женщина, повторял он.
Я понимал, к чему он клонит.
За этой его яростью, фонтаном выплескивавшейся наружу, и преувеличенными инвективами в адрес всего рода людского скрывался человек, который так и не вырос. Он думал, что вырос, – или прикидывался. Его страшно бесило, когда вы замечали в нем семнадцатилетнего. В этой точке жизнь его замерла. Что было потом – промахи и хрень.
Второй раз я увидел его слезы гораздо позднее.
– Я проголодался. Ты ел чего? – спросил Калаж в кафе «Алжир» в день нашей первой встречи.
– Нет.
– Пошли перекусим на халяву.
Он поднялся, и вид у него оказался такой неопрятный и запущенный, что я вообразил себе нечто вроде благотворительной столовки. Но в жизни все когда-то случается в первый раз, а я в своем аховом финансовом положении часто жертвовал едой ради сигарет. Я готов был признать поражение и протянуть руку за тарелкой бесплатного куриного супа или что там предлагается нищим на прокорм в нынешнее воскресенье.
Хочет, чтобы ты понял, что у него к ним прирожденный вкус.
И так далее, и тому подобное.
Каждого человека он измерял по шкале Рихтера на предмет подлинности или страстности, чаще и того и другого, потому что первое неизбежно предполагало второе. До его планки не дотягивал никто. В его вселенной кишели люди, которые не являлись теми, за кого себя выдавали. Где он подцепил такой образ мыслей? Есть в этом хоть доля правды? Или все это отпетая чушь, которую он вытягивает из собственной лампы Аладдина, а пламя в ней раздувают ночные кошмары и демоны в деменции? Или просто этот человек, совершенно несчастный, не знает иного способа удержаться на плаву в Новом Свете, разобраться в котором он способен одним-единственным способом: сказать себе, что постиг все его гнусные и скользкие штучки, способен прочитать на лице под маской всю его подноготную, знает, в какую сторону крутится мир, потому что под ним мир провернулся вон уже сколько раз?
В итоге все, что при нем оставалось, это догадки, скорострельный третьемирный треп и паранойя: этакий ясновидящий из пустыни и уличный карманник в одном лице.
– Ты замечал, что всегда переходишь улицу наискосок? – спросил он меня однажды.
– Да, так же короче, – ответил я, имея в виду гипотенузу.
– Верно, только ты не поэтому.
Я раньше об этом не задумывался и теперь решил не вдаваться. Понял другое – он видит меня насквозь: я все делаю с хитрецой, родился этаким обтекаемым, читай – неблагонадежным.
Я сделал вид, что не слышу.
И в этом он, судя по всему, тоже увидел меня насквозь.
Я был уклончив, он прямолинеен. Я никогда не повышал голоса, он орал громче всех на Гарвардской площади. Я был скован, опаслив, застенчив; он – бесшабашен и безжалостен, чистая пороховая бочка. Он все мысли высказывал вслух. Я свои хранил, точно в сейфе. Он всем смотрел в лицо; я дожидался, пока ко мне повернутся спиной. Он ни во что не верил, пленных не брал, волтузил всех без разбору. Я всех терпел и при этом никого не любил. У него вся любовь была напоказ, моя была погребена в недрах, да и там… Он в Штатах оказался недавно, но уже успел поговорить едва ли не со всеми в Кембридже; я четыре года проучился в Гарварде, но тем летом выпадали целые дни, когда мне не с кем было перекинуться словом. Расстроившись или заскучав, он щетинился, ерзал, потом взрывался; я же был сама сдержанность. Он во всем впадал в крайности, а мне имя было компромисс, а прозвище – сдержанность. Если он что-то начал, его уже было не остановить, я же от малейшего дуновения вставал как вкопанный. Он мог бросить любого не задумавшись, я же спешил мириться, а потом дулся про себя. Он умел проявлять жестокость. Я редко проявлял доброту. Ни у него, ни у меня не было денег, но случались дни, когда я был его намного, намного беднее. Он не видел в бедности ничего зазорного, поскольку в бедности родился. Для меня у стыда были глубокие карманы, глубже, чем даже твое «я», поскольку стыд способен забрать и жизнь, и душу, проникнуть во все поры, вывернуть тебя наизнанку, точно старый носок, обнажить твою подлинную окончательную суть – и вот тебе уже нечем похваляться, все в самом себе тебе противно и, дабы это сносить, ты осуждаешь всех остальных. Он гордился знакомством со мной, а мне было неприятно, если нас видели вместе за пределами узкого круга посетителей кафе. Он был таксистом, я учился в престижном университете. Он был арабом, я евреем. В противном случае мы могли бы в любой миг поменяться ролями.
Несмотря на свою гневливость, несмотря на неприкаянную кочевую жизнь, он оставался человеком с этой планеты; я же постоянно сомневался в том, что мне здесь место. Он любил землю, понимал людей. Швыряй его куда хочешь, а он все равно встанет на ноги; я же, даже в состоянии покоя, вечно был не на месте, в глубинах себя. Если и создавалось впечатление, что я к чему-то прилепился, то лишь потому, что я замер на месте. Он вроде не на привязи, а на деле – в постоянном поиске добычи; я – в постоянной неподвижности. Если я и начинал шевелиться, то напоминал неумеху, что стоит, вконец растерявшись, на хлипком плоту посреди порогов; плот движется, вода движется, а я – куда там.
Я ему завидовал. Хотел у него учиться. Он был мужчиной. Я плохо понимал, кто я такой. Он был голосом, отсутствующим звеном цепи, соединяющей меня с прошлым, человеком, в которого я мог бы вырасти, обернись жизнь по-иному. Он остался дикарем, меня укротили, обротали. Но если взять меня и опустить в мощный растворитель, так, чтобы с кожи сошли все привычки, приобретенные в школе, и все уступки, которые я сделал Америке, может, там бы обнаружился не я, а он, и синее Средиземное море хлынуло бы на пляж точно так же, как он выплескивался в пейзаж всякий раз, когда я, набравшись храбрости, подходил к его столику в кафе «Алжир» и прерывал разделявшее нас молчание.
В другой стране, другом городе, в иные времена я никогда бы к нему не повернулся, а он мне даже не ответил бы на вопрос, который час. Не в моих привычках было подходить к незнакомцу, я никогда бы этого и не сделал, не разгляди я в нем частичку себя, нечто приглушенное и позабытое, что я опознавал моментально, стоило этому нечто фанфарой пропеть в его речи. Его вздорные тирады при всем их болезненном бессмысленном несварении что-то мне говорили, возвращали в прошлое – как вот кафе «Алжир» возвращало к чему-то далекому, безымянному, к чему-то, что я проглядел в самом себе.
Как я скоро выяснил, он оказался единственным, кроме меня, человеком во всем Кембридже, который не только не смотрел «Звездные войны», но принципиально от этого отказывался, скорбел, глумился над культом, который в то лето внезапно вырос вокруг. Оби-Ван Кеноби, Дарт Вейдер и Люк Скайуокер были у всех на устах, будто общеизвестные персонажи из шекспировской пьесы, а R2-D2 и C-3PO косили под мелких шутов и подхалимов-придворных. Для Калажа же они были воплощениями зажравшегося эрзаца.
Поначалу меня к Калажу потянула одна вещь, не имевшая ничего общего с его лукавым шестым чувством, его инстинктами выживания или могучими выплесками, которые непостижимым образом обхватывали вас своими ручищами и душили, пока не превратятся в хохот. Не была это и его псевдоколючая задушевность, которая столь многих отталкивала, а мне казалась до боли родной, потому что заставляла вспомнить те мгновенно складывавшиеся дружбы, когда оскорбление в адрес его мамы, а вслед за ним – еще одно, в адрес моей, способно было сблизить двух десятилеток на всю жизнь.
Возможно, он был двойником подлинного меня, моей примитивной ипостасью, которую я потерял из виду и слущил с себя по ходу жизни в Америке. Мое теневое «я», мой портрет Дориана Грея, мой безумный брат с чердака, мой мистер Хайд, мой совсем, совсем грубый набросок. Я – без маски, без цепей, без поводка, без ретуши: я, ничем не стесненный, я в лохмотьях, я в ярости. Я без книг, без лессировок, без грин-карты. Я с «калашниковым».
Если мне и нравилось его слушать, то не потому, что я принимал на веру или хотя бы ценил все то, что он каждый день нес в кафе «Алжир», а потому, что было в тембре и фразировке его речи нечто такое, что как бы перебирало сваленные в кучу древние обломки, напоминая мне о человеке, которым я, может, и родился, но которым не стал. Если я и не принимал всерьез те инвективы, которые он ежедневно обрушивал на Америку, то лишь потому, что на самом деле поносил он вовсе не Америку, а голос его не был голосом озадаченного жителя Ближнего Востока, который пытается оградить себя от беспощадного Запада. Нет, я слышал там хриплый, с присвистом, угрожающий тембр более древнего извода человечества, более древние способы быть человеком, он ярился, ярился против накатывающей волны нового, которая обликом и поведением схожа с людской расой, а на деле ею не является. Речь тут шла не о столкновении цивилизаций, ценностей или культур; дело было в том, который орган, которую камеру сердца, которое из возлюбленных пяти чувств человечество от себя отсечет, дабы влиться в современность.
Именно поэтому он, по его собственным словам, ненавидел нектарины. По-французски brugnons. Людей якобы нектаризируют: сладость без доброты, все чувства правильные, но не от сердца: их выводят искусственным путем, сшивают из лоскутьев, рождают кесаревым сечением, а не естественным способом, вот и выходит голова что слива, жопа что персик, а яйца размером с изюминки. У нектарина в царстве фруктов ни единого живого родича. Он результат скрещивания.
– В смысле, как вот и мы – результаты скрещивания? – спросил я у него как-то в кафе «Алжир», после того как он долго распинался, что у президента Картера, мол, нектариновое лицо, а уж улыбка и подавно. Лицо, согласился я, ну чистый нектарин. Вот только остальные мы разве лучше? Все мы такая же фальшивка, как и прочие, а уж те, кто успел пожить на трех континентах, – чистый результат скрещивания.
– Да, полагаю, вроде нас с тобой, – согласился он. А потом, через миг: – Нет, не как мы с тобой. Нектарин считает себя фруктом. Он понятия не имеет про собственную неестественность и, сколько ты ему это ни доказывай, не согласится. Вот тебе доказательство: он даже способен рожать детей, как вот и роботы смогут рано или поздно рожать детей.
Тут вид у него сделался задумчивый и даже печальный.
– Пока детей не заведешь, вообще не понять, человек ты или нет.
Откуда это у него такие представления?
– А у тебя есть дети? – спросил я.
– Детей у меня нет.
– Ну так? – Я его поддразнивал.
– У меня есть кожа. И только. – И опять, как и в день нашего знакомства, он ущипнул себя за предплечье. – Вот. Вот мое доказательство. Цвет почвы в моей стране, цвет пшеницы. Но, – добавил он, будто по здравом размышлении (он любил дополнять самого себя по здравом размышлении), – я хотел бы завести ребенка.
Все это громким голосом, по-французски, чтобы посильнее заинтриговать женщину, сидевшую за соседним столиком, которая, вероятно, гадала, а она сама-то не нектарин, надеялась, что нет, одновременно пытаясь сообразить, хорош ли этот плут-проповедник в постели в качестве любовника.
В чем, собственно, и заключалась цель всей диатрибы.
При всем при том окончательно и с самого начала нашу дружбу скрепила общая любовь к Франции и французскому языку, а говоря еще точнее – к нашему образу Франции, потому что настоящая Франция нам уже была не больно-то и нужна, равно как и мы ей. Мы лелеяли эту любовь точно постыдную тайну, потому что не могли ее изжить, не доверяли ей, даже не хотели давать ей гордого имени любви. Но она нависала над нашими жизнями, будто краденое и докучное наследство, полученное из детских лет, которые каждый из нас провел в Северной Африке. Возможно, любовь мы испытывали даже не к Франции и не к французской романтике; возможно, Францией мы прозвали отчаянную попытку найти в своей жизни хоть какое-то основание – для нас обоих прошлое оставалось самой надежной подпоркой, а прошлое наше было написано по-французски.
Каждый вечер мы отыскивали друг друга в барах и кофейнях Кембриджа, усаживались вместе и около часа говорили по-французски про Францию, которую оба любили и утратили. Он оказался в Кембридже, потому что скрывался от долгов, от алиментов, от поди пойми каких злополучных затей и беззаконных предприятий, в которые ввязался во Франции. Я оказался в Кембридже, потому что до сих пор не набрался смелости собрать вещи и назвать Францию своим домом. Но с самого того дня, когда мы начали сталкиваться едва ли не каждый вечер, мы стали друг для друга максимальным приближением к Франции. Даже легковесная насыщенность его сбродных понятий, почерпнутых из рабочих кофеен на улице Муфтар и перемещенных в тускло освещенный бар «Касабланка», помогала поддерживать эту иллюзию на плаву. До последнего звонка. С последним звонком все делалось еще насущнее, отчаяннее, потому что, когда включали свет и мы наконец-то выходили из бара на успевшую опустеть Брэттл-стрит, мы заранее предчувствовали, что и в этот вечер, как во всякий другой, не минует нас отрезвляющее понимание того, что это не Франция и никогда Францией не будет, что все неправильно и правильно не будет никогда, что и с самой Францией все не так, потому что нам не так где угодно: и здесь, и во Франции, и в том месте, где каждый из нас появился на свет, – в местах, переставших быть нашей родиной. Мы обижались на Кембридж за то, что он не Париж, как в будущем мне предстояло обижаться на многие места за то, что они не Кембридж, и это все равно что обижаться на человека за то, что он не является кем-то другим или не соответствует требованиям, на которые сам он никогда не подписывался.
Все, что эхом звучало у нас в головах, когда мы прощались и наконец-то отправлялись в жилища, которые ни тот ни другой не мог по совести назвать домом, – это предпринятые за истекший вечер попытки сострить по-французски, на языке, на котором мы говорили с радостью и с горечью в сердце, поскольку говорили с ущербными акцентами, потому что для нас это был первый язык, но не родной. А который нам родной, мы не ведали вовсе.
Калаж, бербер по рождению, вырос в Тунисе и там полюбил Францию, я же с самого детства боготворил Париж, живя в Александрии. Тунис исчерпал для него свою пользу, когда он в семнадцать лет в Марселе взошел на борт военного корабля, как для меня исчерпал свою пользу Египет, изгнавший меня в четырнадцать за мое еврейство. Мы с ним – этим он любил хвастаться, когда сталкивался в баре с женщинами, – являлись оборотными сторонами друг друга.
Ислам вызывал у него такую же досаду, какую у меня – иудаизм. Наше равнодушие к религии, к своему народу, к непрекращающимся конфликтам на Ближнем Востоке, к очень многим вещам, которые с легкостью могли вбить между нами клин, наше презрение к патриотизму, знаменам, любому «правому делу» и всевозможным уютным идеологиям, которые кочуют по Европе с конца шестидесятых, не оставили нам почти ничего, кроме несколько замызганного чувства лояльности – он это называл complicitе, приверженностью, – к тем, кто мыслил как мы, кто походил на нас. Вот только других таких, как мы, не было. Я сомневаюсь, что мы вообще знали, что из себя представляет «такой, как мы», поскольку сами были совсем разными. Мы ничего не придерживались, к нам ничто не прилеплялось, ничто даже не «цепляло». Столицей нашей был вымышленный Париж. Родной страной – мы двое. Остальное – хрень. De la merde. Паспорта – хрень. Газеты – хрень. Кембридж – хрень. Мои экзамены – хрень. Книги, которые я читаю, – хрень. Массивный таксомотор компании «Чекер», за руль которого он садился каждый день (его Немезида именовала машину «Титаником»), – хрень, его женщины, заявка на грин-карту, которая, судя по всему, лежит мертвым грузом, его адвокат, «Касабланка», его непрорезавшиеся зубы мудрости, его первая жена, его вторая жена, его брак со второй женой до развода с первой (вторую он возненавидел так же сильно, как и первую, поскольку обе в итоге вышибли его из своей жизни, ведь все всегда вышибают его из своей жизни) – все это хрень. Даже объявления о знакомствах, которые он любил читать в свежем выпуске «Бостон феникс», – хрень, да и его ответы, которые мне приходилось писать за него по-английски, – хрень. Он всем и на все возражал, потому что в возражениях слышал свой собственный голос, однако, услышав его, тут же разворачивался и противоречил самому себе, заявлял, что в нем самом хрени не меньше, чем во всяком другом. Единственное исключение, заявлял он, составляют семья и род. Его самый младший брат, мама и даже сестра, которая сбежала в Париже с алжирцем и с которой он отказывался иметь какие бы то ни было дела и все же время от времени отправлял ей посылки с американскими гостинцами. Возможно, в итоге он и меня включил в свой крошечный клан. За всех нас он отдал бы жизнь не задумываясь. Он, видимо, знал (а я знал это всегда) что я бы ради него не рискнул ничем – видимо, от недостатка мужества и привязанности.
Если я ему и помогал – например, я много часов натаскивал его перед интервью в Иммиграционной службе, – то, видимо, делал это либо просто не задумываясь, либо потому, что не мог придумать веского предлога для отказа. А может быть, для меня это был способ отвлечься от собственной работы, почувствовать, что я делаю что-то полезное, помимо чтения всех этих книг, которые наверняка больше никогда не стану перечитывать. Он пылко меня благодарил и добавлял, что чужая помощь в его жизни такая редкость, что он особенно ценит людей, которым есть что отдавать. Я отнекивался, мямлил, что все это пустяки. Он упорствовал в том, что я не прав, что верный признак хорошего друга – неспособность понять, насколько он хороший друг. Я успел усвоить, что спорить себе дороже. Одолжение это далось мне слишком легко, не несло в себе ни малейшего риска, никаких обязательств, нравственных терзаний, не требовало преодоления трудностей или сомнений. Я знал, что разница между добрым делом и необременительным бескорыстием – это такая мелкая монетка, брошенная на поднос. «Порешим на том, что помочь мне было тебе в радость», – добавил он, пресекая нашу дискуссию, когда в один из дней мы вышли из кафе «Алжир», выпив там пять чашек кофе. Видимо, за своей пылкой благодарностью он пытался скрыть то, что всегда подозревал: что для меня это лишь мимолетное приятельство, при том что я для него давно утраченный брат, о существовании которого он и не подозревал, пока случайно не встретил его в кафе «Алжир». «Когда-нибудь тебе придется мне объяснить, почему ты позволил мне стать твоим другом, – говаривал он, – и тогда я тоже расскажу тебе почему. Но начать придется тебе». Когда он пускался в такие разговоры, я всегда кидал на него лишенный выражения взгляд: «Чего-чего? Ты вообще о чем там?» «Когда-нибудь», – повторял он, тщательно оценив мой намеренно пустой взгляд, ничуть его не обманувший.
Мы так безошибочно считывали друг друга также и потому, что нас связывала еще одна вещь: крайне редкостного рода презрение ко всему и всем. Презрение мы выражали по-разному, однако проистекало оно, по всей видимости, из общего источника самоненавистничества. Мой бил точно кипучий ключ, извергавший желчь и бессловесную досаду; его – фонтанировал яростью. Человек не рождается самоненавистником. Однако сгребите в кучу все свои ошибки, ошибитесь в направлении на достаточном количестве жизненных перекрестков – и вы очень быстро перестанете себя прощать. Куда ни погляди, отовсюду в ответ на тебя таращатся стыд и неудача.
В нем это было. Во мне тоже. Сплошные промахи, каждый из них роковой в своей вероломной малости. Промахи и хрень. Хрень представляла собой наш протест, попытку огрызнуться в ответ. Орать «хрень» и «брейдятина» было для него все равно что поливать спиртом рану в надежде, что хуже не будет. Слово «хрень» ты произносишь, чтобы отразить первый удар. Оставить за собой последнее слово. Показать, что там, откуда ты его почерпнул, остались и еще слова. Проверить заранее, чтобы потом не схлопнуться на глазах у других. Мы и самим себе орали: «хрень». Хрень – последняя подпорка для пошатнувшейся гордости, последняя опора на зыбучем песке под названием «чувство собственного достоинства». После этого – только потоки слез.
Плакал он при мне дважды. В первый раз – когда узнал, что его отца, оставшегося в Тунисе, срочно госпитализировали с перитонитом. После этого из Туниса – ни писем, ни звонков, гробовое молчание. А сам он тут, закопался в нору на краю света, в Кембридже. Подобно персонажу из «Касабланки», он был неприкаянной душой: дожидался транзитных писем, которые никогда не придут, заводил недолговечные знакомства в сомнительных заведениях. Почему он оказался в Касабланке? Да просто – как говорит в фильме Богарт – его дезинформировали. Не следовало ему сюда приезжать. А он здесь, этакий одинокий контрабандист в мире, которому смертельно надоели неприкаянные антигерои-самоненавистники – поскольку сами эти антигерои давно превратились в хлам и хрень.
Плакал он не только по отцу. Еще и по себе, ведь не мог сесть на первый же самолет в Тунис, не мог вернуться домой еще более нищим, чем когда уехал оттуда семнадцать лет назад, потому что, если он уедет сейчас, его никогда больше не впустят в США, потому что он стыдится себя нынешнего. Безвыходное положение. Я до того никогда не видел, чтобы человек молотил себя по голове сразу обоими кулаками. А он молотил, пока я не перехватил эти его кулаки и не сказал:
– Все, хватит, ради бога, бросай ты себя увечить!
Ни он, ни я не верили в Бога. Я обхватил его рукою за плечи. Раньше я такого не делал. Он рыдал, уткнувшись мне в плечо, я ощущал, как вздымается его грудь, а потом он вдруг расхохотался. Через двадцать минут он рассказывал всем посетителям кафе, что разрыдался у меня в объятиях как женщина: прямо как женщина, повторял он.
Я понимал, к чему он клонит.
За этой его яростью, фонтаном выплескивавшейся наружу, и преувеличенными инвективами в адрес всего рода людского скрывался человек, который так и не вырос. Он думал, что вырос, – или прикидывался. Его страшно бесило, когда вы замечали в нем семнадцатилетнего. В этой точке жизнь его замерла. Что было потом – промахи и хрень.
Второй раз я увидел его слезы гораздо позднее.
– Я проголодался. Ты ел чего? – спросил Калаж в кафе «Алжир» в день нашей первой встречи.
– Нет.
– Пошли перекусим на халяву.
Он поднялся, и вид у него оказался такой неопрятный и запущенный, что я вообразил себе нечто вроде благотворительной столовки. Но в жизни все когда-то случается в первый раз, а я в своем аховом финансовом положении часто жертвовал едой ради сигарет. Я готов был признать поражение и протянуть руку за тарелкой бесплатного куриного супа или что там предлагается нищим на прокорм в нынешнее воскресенье.