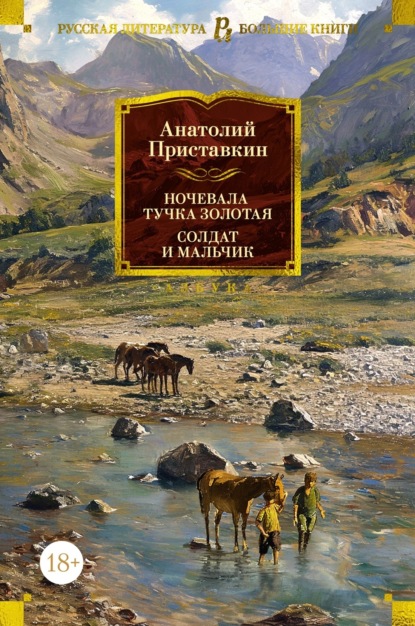По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ночевала тучка золотая. Солдат и мальчик
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Теперь, когда он встал напротив, он увидел, что у Сашки нет глаз, их выклевали вороны. Они и щеку правую поклевали, и ухо, но не так сильно.
Ниже живота и ниже кукурузы, которая вместе с травой была набита в живот, по штанишкам свисала черная, в сгустках крови Сашкина требуха, тоже обклеванная воронами.
Наверное, кровь стекала и по ногам, странно приподнятым над землей, она висела комками на подошвах и на грязных Сашкиных пальцах, и вся трава под ногами была сплошь одним загустевшим студнем.
Колька вдруг резко, во всех подробностях увидел: одна из ворон, самая нетерпеливая, а может, самая хищная, спрыгнула на дорогу и стала медленно приближаться к Сашкиному телу. На Кольку она не обращала внимания.
Он схватил горсть песку и швырнул в птицу.
– Сволочь! Сволочь! – крикнул ей. – Падла! Пошла!
Ворона отпрыгнула, но не улетела. Будто понимала, что Колькиных сил недостанет, чтобы по-настоящему ей угрожать. Она сидела на дороге чуть поодаль и выжидала. Этого стерпеть он не мог. Заорал, завыл, закричал и, уже ни о чем не помня, как на самого ненавистного врага, бросился на эту ворону. Он погнался за ней по улице, нагибаясь и швыряя вслед песком. Наверное, он сильно кричал – он кричал на всю деревню, на всю долину; окажись рядом хоть одно живое существо, оно бы бежало в страхе, заслышав этот нечеловеческий крик.
Но никого рядом не было.
Только хищные вороны в испуге снялись с дерева и улетели прочь.
А он все бежал по улице, все кричал, швыряя песок, и куски дерна, и камни куда придется. Но голос его иссяк, он запнулся и упал в пыль. Сел, отряхивая грязь с головы, вытирая лицо рукавом. И уже не мог понять, чего это он кричал и зачем бежал по деревне аж до самого ее края.
Едва передвигаясь, он вернулся к телу брата и сел отдышаться у его ног, рядом с кровью.
Все, что делал он дальше, было вроде бы продуманным, логичным, хотя поступал он так, мало что сознавая, как бы глядя на себя со стороны.
Отдохнув, он приблизился к Сашке, осклизаясь на густой крови, и, обхватив его руками, принял на себя. Сашка сразу опустился на землю и будто съежился. Кукуруза выпала у него изо рта, рот остался открытым.
Колька зашел с головы, взял брата под мышки и поволок в дом, самый ближний к нему.
Дверь была оторвана. В сенцах горкой лежала кукуруза.
Он положил брата на кукурузу, накрыл ватником, который висел тут же на гвозде. Потом он поднял дверь и загородил вход, чтобы хищные птицы не смогли проникнуть в дом.
Проделав все это и немного отдохнув, Колька направился по дороге к колонии, ни от кого не прячась и не оберегаясь.
Все худшее, что могло бы с ним случиться, он знал, уже случилось.
27
Через несколько часов, когда уже начинало вечереть и солнце склонялось за дальние горы, Колька вернулся и притащил за собой на веревке тележку, ту самую, что они нашли у дома Ильи.
Тележка была запрятана в кустах возле заначки, Колька ее сразу нашел.
Заначка тоже была цела: и варенье, и мешки, и тридцатка с ключами от поезда – все было на месте.
Колька вытащил оба мешка, еще пол-литровую банку джема. Банку он открыл камнем, съел две ложки, но его тут же стошнило.
Он спустился к речке, умылся и голову окунул, чтобы немного взбодрить себя.
По пути, волоча за собой тележку, он завернул в кукурузу, где накануне оставляли они лошадь с телегой. Это место он нашел сразу. Был виден след от телеги, и рядом валялся недокуренный бычок Демьяна.
Вернувшись в Березовскую, в дом, Колька снова перетащил Сашку на улицу и положил на тележку, подстелив под низ два мешка, чтоб брату не было слишком жестко, а под голову положил, свернув трубочкой, ватник.
Потом он принес веревку, найденную в углу прихожей, толстую, но гнилую, она рвалась, и ее пришлось для крепости сложить вдвое. Походя отметил, что ремешка серебряного на Сашке не было. Пропал ремешок.
Колька протянул веревку под тележку, а потом завязал узлом у Сашки на груди. Живота он старался не касаться, чтобы не было Сашке больно.
Завязал, посмотрел. Лицо у Сашки было спокойным и даже удивленным, оттого что рот так и остался открытым. Он лежал головой по ходу, и Колька подумал, что так Сашке будет удобнее ехать.
Пока собирался, наступили сумерки. Короткие, легкие, золотые. Горы растворились в теплой дымке, лишь светлые вершины будто сами собой догорали угольками на краю неба и скоро пропали.
Ровно сутки прошли с тех пор, как проснулись они на закате в телеге Демьяна. Но сейчас Кольке показалось, что это случилось давным-давно. Они ступили на разоренный двор колонии, бежали сквозь заросли, а Демьян сидел на земле и трясущимися руками пытался закурить. Где-то он сейчас? Он-то все, все понимал!
Это они глупыми были.
О подсобном хозяйстве, о Регине Петровне с мужичками Колька не вспоминал. Они находились за пределами его сегодняшней жизни. Его чувств, его памяти.
Он отдохнул, поднялся. Подцепил тележку так, чтобы не резало руку, и повез по улице.
Он даже не понял, тяжело ему везти или нет. Да и какая мера тяжести тут могла быть, если он вез брата, с которым они никогда не жили поврозь, а лишь вместе, один как часть другого, а значит, выходило, что Колька вез самого себя.
За деревней стало просторней, светлей, но ненадолго.
Воздух загустел, чернела, сливаясь в непроницаемую стену, кукуруза по обеим сторонам дороги.
А потом вообще ничего не стало видно, Колька угадывал дорогу ногами. Да вроде бы впереди, где должны сомкнуться заросли, еле просматривался светлый в них проем на фоне совсем чернильного неба.
Кольку не пугала темнота и эта глухая беспросветность дороги, на которой не встречались ни люди, ни повозки.
Если бы Колька мог все осознавать реальней и его бы спросили, как ему удобней ехать с братом, он бы именно так и попросил, чтобы никого не было на их пути, никто не мешал добраться до станции.
Все, кто сейчас мог встретиться: чечены ли или другие, пусть и добрые, люди, – неминуемо стали бы помехой в том деле, которое он задумал.
Он катил свою тележку сквозь ночь и разговаривал с братом.
Он говорил ему: «Вот видишь, как вышло, что я тебя везу. А раньше-то мы возили друг друга по очереди. Но ты не думай, я не устал, и я тебя доставлю до места. Может, ты бы придумал все это лучше, уж точно. Ты всегда понимал больше моего, и голова у тебя варила быстрей. Я был твоими руками и ногами в жизни – так уж нам было поделено, – а ты был моей головой. Теперь у нас с тобой голову отсекли, а руки и ноги оставили… А зачем оставили-то?»
Ниже живота и ниже кукурузы, которая вместе с травой была набита в живот, по штанишкам свисала черная, в сгустках крови Сашкина требуха, тоже обклеванная воронами.
Наверное, кровь стекала и по ногам, странно приподнятым над землей, она висела комками на подошвах и на грязных Сашкиных пальцах, и вся трава под ногами была сплошь одним загустевшим студнем.
Колька вдруг резко, во всех подробностях увидел: одна из ворон, самая нетерпеливая, а может, самая хищная, спрыгнула на дорогу и стала медленно приближаться к Сашкиному телу. На Кольку она не обращала внимания.
Он схватил горсть песку и швырнул в птицу.
– Сволочь! Сволочь! – крикнул ей. – Падла! Пошла!
Ворона отпрыгнула, но не улетела. Будто понимала, что Колькиных сил недостанет, чтобы по-настоящему ей угрожать. Она сидела на дороге чуть поодаль и выжидала. Этого стерпеть он не мог. Заорал, завыл, закричал и, уже ни о чем не помня, как на самого ненавистного врага, бросился на эту ворону. Он погнался за ней по улице, нагибаясь и швыряя вслед песком. Наверное, он сильно кричал – он кричал на всю деревню, на всю долину; окажись рядом хоть одно живое существо, оно бы бежало в страхе, заслышав этот нечеловеческий крик.
Но никого рядом не было.
Только хищные вороны в испуге снялись с дерева и улетели прочь.
А он все бежал по улице, все кричал, швыряя песок, и куски дерна, и камни куда придется. Но голос его иссяк, он запнулся и упал в пыль. Сел, отряхивая грязь с головы, вытирая лицо рукавом. И уже не мог понять, чего это он кричал и зачем бежал по деревне аж до самого ее края.
Едва передвигаясь, он вернулся к телу брата и сел отдышаться у его ног, рядом с кровью.
Все, что делал он дальше, было вроде бы продуманным, логичным, хотя поступал он так, мало что сознавая, как бы глядя на себя со стороны.
Отдохнув, он приблизился к Сашке, осклизаясь на густой крови, и, обхватив его руками, принял на себя. Сашка сразу опустился на землю и будто съежился. Кукуруза выпала у него изо рта, рот остался открытым.
Колька зашел с головы, взял брата под мышки и поволок в дом, самый ближний к нему.
Дверь была оторвана. В сенцах горкой лежала кукуруза.
Он положил брата на кукурузу, накрыл ватником, который висел тут же на гвозде. Потом он поднял дверь и загородил вход, чтобы хищные птицы не смогли проникнуть в дом.
Проделав все это и немного отдохнув, Колька направился по дороге к колонии, ни от кого не прячась и не оберегаясь.
Все худшее, что могло бы с ним случиться, он знал, уже случилось.
27
Через несколько часов, когда уже начинало вечереть и солнце склонялось за дальние горы, Колька вернулся и притащил за собой на веревке тележку, ту самую, что они нашли у дома Ильи.
Тележка была запрятана в кустах возле заначки, Колька ее сразу нашел.
Заначка тоже была цела: и варенье, и мешки, и тридцатка с ключами от поезда – все было на месте.
Колька вытащил оба мешка, еще пол-литровую банку джема. Банку он открыл камнем, съел две ложки, но его тут же стошнило.
Он спустился к речке, умылся и голову окунул, чтобы немного взбодрить себя.
По пути, волоча за собой тележку, он завернул в кукурузу, где накануне оставляли они лошадь с телегой. Это место он нашел сразу. Был виден след от телеги, и рядом валялся недокуренный бычок Демьяна.
Вернувшись в Березовскую, в дом, Колька снова перетащил Сашку на улицу и положил на тележку, подстелив под низ два мешка, чтоб брату не было слишком жестко, а под голову положил, свернув трубочкой, ватник.
Потом он принес веревку, найденную в углу прихожей, толстую, но гнилую, она рвалась, и ее пришлось для крепости сложить вдвое. Походя отметил, что ремешка серебряного на Сашке не было. Пропал ремешок.
Колька протянул веревку под тележку, а потом завязал узлом у Сашки на груди. Живота он старался не касаться, чтобы не было Сашке больно.
Завязал, посмотрел. Лицо у Сашки было спокойным и даже удивленным, оттого что рот так и остался открытым. Он лежал головой по ходу, и Колька подумал, что так Сашке будет удобнее ехать.
Пока собирался, наступили сумерки. Короткие, легкие, золотые. Горы растворились в теплой дымке, лишь светлые вершины будто сами собой догорали угольками на краю неба и скоро пропали.
Ровно сутки прошли с тех пор, как проснулись они на закате в телеге Демьяна. Но сейчас Кольке показалось, что это случилось давным-давно. Они ступили на разоренный двор колонии, бежали сквозь заросли, а Демьян сидел на земле и трясущимися руками пытался закурить. Где-то он сейчас? Он-то все, все понимал!
Это они глупыми были.
О подсобном хозяйстве, о Регине Петровне с мужичками Колька не вспоминал. Они находились за пределами его сегодняшней жизни. Его чувств, его памяти.
Он отдохнул, поднялся. Подцепил тележку так, чтобы не резало руку, и повез по улице.
Он даже не понял, тяжело ему везти или нет. Да и какая мера тяжести тут могла быть, если он вез брата, с которым они никогда не жили поврозь, а лишь вместе, один как часть другого, а значит, выходило, что Колька вез самого себя.
За деревней стало просторней, светлей, но ненадолго.
Воздух загустел, чернела, сливаясь в непроницаемую стену, кукуруза по обеим сторонам дороги.
А потом вообще ничего не стало видно, Колька угадывал дорогу ногами. Да вроде бы впереди, где должны сомкнуться заросли, еле просматривался светлый в них проем на фоне совсем чернильного неба.
Кольку не пугала темнота и эта глухая беспросветность дороги, на которой не встречались ни люди, ни повозки.
Если бы Колька мог все осознавать реальней и его бы спросили, как ему удобней ехать с братом, он бы именно так и попросил, чтобы никого не было на их пути, никто не мешал добраться до станции.
Все, кто сейчас мог встретиться: чечены ли или другие, пусть и добрые, люди, – неминуемо стали бы помехой в том деле, которое он задумал.
Он катил свою тележку сквозь ночь и разговаривал с братом.
Он говорил ему: «Вот видишь, как вышло, что я тебя везу. А раньше-то мы возили друг друга по очереди. Но ты не думай, я не устал, и я тебя доставлю до места. Может, ты бы придумал все это лучше, уж точно. Ты всегда понимал больше моего, и голова у тебя варила быстрей. Я был твоими руками и ногами в жизни – так уж нам было поделено, – а ты был моей головой. Теперь у нас с тобой голову отсекли, а руки и ноги оставили… А зачем оставили-то?»
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: