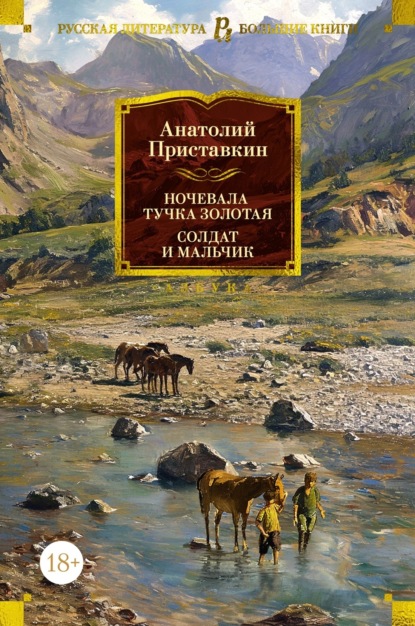По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Ночевала тучка золотая. Солдат и мальчик
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
СБНВ расшифровывалось так: сука буду на все века! И большим пальцем, ногтем, под зуб и под горло. То есть зуб на отрыв даю и горло подставляю… Такая была клятва. Для посторонних же, для взрослых скрытый смысл клятвы якобы раскрывался так: советский боевой нарком Ворошилов… «Ворошиловым» клясться не запрещали. А «сукой» запрещали.
Сашка «сукой» не часто клялся. Тут уж можно было ему поверить.
Но Колька спросил:
– Может… Им сказать?
– Что ты им скажешь?
– Ну что… Что это – хватит. Что зашухарятся ведь, большой бенц будет, и все мы…
– Все они, – поправил Сашка.
– …И все они… это… завалятся.
– Ну, скажи, – спокойно произнес Сашка. – Они тебе сейчас же поверят… Только почему ты сам не поверил, а? Ты же сейчас рассуждал не лучше самого оголтелого хитника из этих… из шакалов!
Колька вздохнул. Трудно было и правда отказаться от богатства, дармового, которое текло прямо в руки… По ручью, разумеется, текло.
Да кто же из колонистов откажется – в преддверии той голодной зимы, которая, они по опыту знали, у них у всех впереди? Завод-то на месяц, на два: для откорма! А потом? Зубы на полку?
Но Сашка твердо стоял на своем. Шакалы оголтели, и нет у них главного, что отличает приличного вора от шакала… Нет меры, нет совести. В краже совесть тоже нужна. Себе взял, оставь другим. Умей вовремя остановиться, когда изымаешь свою долю из чужого добра. Если от многого берут немножко – это не кража, а просто дележка! Так сказал великий писатель, какой именно, Сашка забыл. Не важно: писательский опыт он усвоил.
Шакалы же несли, не стесняясь! Уже в машине у кого-то выскочила банка из-под одежды. Из-под забора тащили чуть ли не у всех на глазах. Однажды прямо в ящике, который перекинул через забор замечательный грузчик-еврей.
Шоферица Вера улыбалась да пошучивала, заламывая козырек фуражки:
– Ну, пиратики! Ну, разбойнички! Как поработали? Ох, чувствую, моя машинка тяжело пойдет!
Вера видела все. Но никогда никому не доложила. Не продала, словом.
Недели, наверное, две прошло с тех пор, как Сашка себя и Кольку отставил от банок.
Ходили смирненькие, тихонькие, сами не тырили, но другим не мешали. Все произошло однажды, когда двое колонистов стали протаскивать корзину с мешками якобы во двор.
Глазастая тетка Зина остановила их:
– Чево все с мешками носитесь! Оставьте, я сама потом… Работать надо!
– Мы – помогаем! – с трудом провернули языком колонисты. Корзина была тяжела, очень тяжела: перегрузили от жадности, банок пятнадцать засунули, что ли! А теперь стояли, покраснев от натуги, и не знали, что дальше делать…
– Без помощи! – сказала тетка Зина. – Сама вынесу!
Колонисты тупо молчали, выдохлись уже. Да и корзина тянула вниз, аж потрескивала от напряжения. Потом дно с грохотом отскочило – и, позванивая, полетели по бетонному полу банки, зайчики от золотых крышек брызнули во все стороны.
Банок было много. Они катились по неровному полу, а одна, словно по заказу, попала прямо под ноги главному технологу, который проходил мимо. Старик-технолог нагнулся, поднял банку, поправил очки в металлической оправе и посмотрел на этикетку.
– «Джем сливовый, ГОСТ 36–72 РРУ РСФСР», – прочитал он и оглянулся: весь цех, прекратив работу, смотрел на него. А самая последняя из баночек еще продолжала катиться по цеху, будто удирала, как удирал бы колонист после такого шухера. – Это же воровство? – спросил технолог и посмотрел вслед той катившейся баночке. – Это же настоящее воровство?
Вот тут двое шакалов, бросив корзину, и дунули. Через железные цеховые двери, да по двору, да через проходную… Их никто не пытался ловить. Да и чего двух-то ловить; попались двое, а остальные не попались, только и всего.
Колонистов от работы на заводе отставили.
19
Вечером воскресного дня колонной, хоть это была далеко не та колонна, которая недавно еще сходила с поезда, поражая своей огромностью, пришли ребята в Березовский клуб для встречи с местными жителями.
Концерт самодеятельности совпал со скандалом на заводе.
Но верней сказать, что его поторопились организовать после кражи банок, чтобы как-то растопить неприязнь между колхозниками и колонистами. За два месяца пребывания в этих местах колонисты успели насолить всем.
Клубик находился в самом центре станицы, одноэтажный, кирпичный, с колоннами на фасаде. На колоннах еще видны были следы осколков, наспех заштукатуренные и забеленные.
Зал был просторный, с откидными деревянными стульями, сбитыми по рядам. Занавеса на сцене не было. Справа и слева вели ступеньки. В простенках, по обе стороны сцены, проглядывали какие-то нерусские надписи, их замазали масляной краской и частично прикрыли портретами вождей. Так что выходило: вожди как бы своими спинами стыдливо прикрывали свои собственные призывы, только на другом, нежелательном теперь языке.
Слева на авансцене, почти у края, стояла фанерная трибуна, крашенная в грязновато-бордовый цвет.
Народу, как ни странно, пришло немало. Большинство переселенцев были под хмельком, оживлены, громко разговаривали, перекрикивались с ряда на ряд. В зале было шумно.
Колонисты просочились на свободные места. Но многие, по извечной привычке бездомных в чужом месте не разъединяться (а вдруг бить будут!), протиснулись вперед и уселись прямо на пол между первым рядом и сценой. Те же, кто не поместился, выстроились у стенки, прижавшись к ней спиной (тоже самозащита!), заняли боковые проходы.
На сцену поднялся директор Петр Анисимович со своим привычным портфелем, и некоторые, завидев его, зааплодировали. Он направился к трибуне. Как и полагалось, он уже имел кличку: звали его за глаза «портфельчик». Колонисты говорили: «Портфельчик шмон в спальне устроил!» Теперь кто-то из них вслух прокомментировал:
– Портфельчик будет докладывать. О наших достижениях.
Передние, из шакалов, кто слышал, засмеялись. Достижения их были известны.
Директор сделал паузу и, когда шум и смех утихли, начал говорить. Говорил он без бумажки. Он поздравил новоселов-колхозников с первым нелегким годом пребывания на освобожденной от врага земле. И пожелал успехов в уборке урожая и начале новой жизни. Тем более что немецко-фашистские захватчики разбиты, бегут, и скоро, очень скоро должен наступить час окончательной расплаты. Как и предсказывал вождь мирового пролетариата, «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами».
Все зааплодировали. Не Портфельчику, а вождю, конечно.
– Наши колонисты, – продолжал директор, – тоже прибыли сюда, чтобы осваивать эти плодородные земли и после голодной, бесприютной жизни начать новую, трудовую, созидательную жизнь, как и живут все советские трудящиеся люди… Ребята скоро начнут учиться, но они же будут помогать сельским труженикам убирать урожай…
– Да уж помогають! – выкрикнули из зала. Раздался незлобный смех.
– …А те, кто выйдет из колонии по возрасту в пятнадцать лет, поступят в колхоз или на консервный завод, – продолжал директор, постаравшись не услышать реплику. – Так что жить нам с вами по соседству придется долго. Я так думаю: сегодняшняя встреча поможет нам лучше понять друг друга и подружиться… Вот для начала колхоз выделил нам подсобное хозяйство, правда далековато… Но ничего. У наших братцев ноги молодые, добегут… Так вот… Есть теперь база для пропитания, там посевы, телята и козы… И прочее… Спасибо!
В зале жиденько зааплодировали. Слова о долгой соседской жизни с колонистами энтузиазма не вызвали. Тем более и кусок поля со скотиной пришлось отрезать! Но все оживились, когда директор, уже сойдя с трибуны, добавил, что колонисты народ, безусловно, способный, артистический, и они приготовили для колхозников свой первый самодеятельный концерт.
На сцену вышли мытищинские, человек двадцать. Воспитательница Евгения Васильевна объявила песню о Сталине. Директор одобрительно кивнул. Хор грянул:
Лети победы песня до самого Кремля,
Красуйся, край родимый, колхозные поля,
В колхозные амбары пусть хлеб течет рекой,
Нам Сталин улыбнется победе трудовой…
Ребята из хора, те, что были впереди, вдруг пошли пританцовывать, изображая колхозников, кружиться, и всем стало весело. Зал великодушно зааплодировал, а хор стал неловко кланяться. Но так как аплодисменты не кончались, а петь по списку было нечего, мытищинские стояли и ждали. Потом они, как по команде, выкинули правую ногу вперед и запели: «Тум-та, тум-та, тум-та, тум-та…»