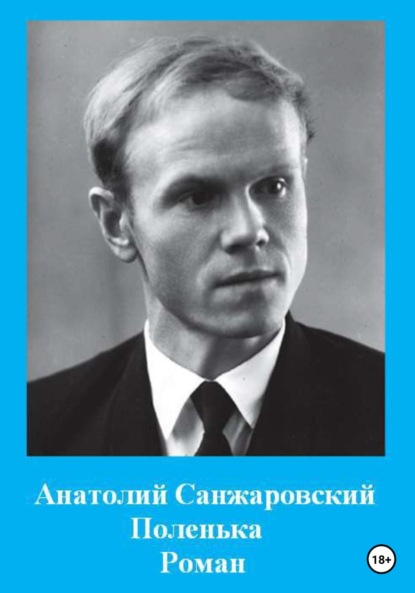По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поленька
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Черному медведю по ложке,
Нам ни крошки…
Но все его старания напрасны. Девочка слезой слезу погоняет и, похоже, это до бесконечности.
– Музлейка!.. Для тебя для одной поясняю… Плаксиха! Вот ты кто!.. Ну, чего ты?.. Не битая, а плачешь! Сколь в тебе ведров слёзок? Думаешь, я не могу заревти? Только станешь ты меня нянькать? Станешь? Вот придёт мамка, всё расскажу! Всё!.. Ну… Прикуси язычок, плакуша. Умолкни. Хочешь, я перед тобой на коленки?..
Мальчик кладёт её на пол, спускается перед нею на колени.
Девочка закричала навзрёв.
«Похоже, серьёзко дочка подболела, – подумала Поля и пошла в барак. – Совсем рухнула здоровьем. Плаче и плаче… Шо его делать? Не знаю, и в какую бутылку… лишь бы повернуться… Эхэ-хэ-э… Хоть пой, хоть плачь, хоть вплавь, хоть вскачь…»
В первые после больницы дни девочка ела охотно. Бледные щёчки подвеселила розовость, заиграла живинка в ясных сколках глаз, но скоро снова снесло её в вечные капризы, в слёзы.
– Вот тебе, сынок, за труды. – Поля дала Мите чурек с лобией. – Антон не утерпел, заснул… Лягайте и вы с Глебом… Спите… А я…
С плачущей дочкой она вышла во двор.
Укачивала, выговаривала бессонницу-полуночницу:
– Пойду я с Машей под восток, под восточну сторону. Под восточной стороной ходит матушка утрення заря Мария, вечерня заря Маремьяна, сыра земля Полина и сине море Елена. Я к ним приду поближе, поклонюсь им пониже: «Вояси ты, матушка заря утрення Мария и вечерня Маремьяна, приди к ней, к моей Машеньке, возьми ты у неё полунощника и щекотуна из белого тела, из горячей крови, из ретивого сердца, изо всей плоти, из ясных очей, из черных бровей, изо всего человеческого суставу, из каждой жилочки, из каждой косточки, из семидесяти семи жилочек, из семидесяти семи суставчиков; понеси их за горы высоки, за леса дремучи, за моря широки, за реки глубоки, за болоты зыбучи, за грязи топучи к щуке-белуге в зубы, понеси её в сине море». Щука в море, язык в роте, замок в небе, а ключ в море; заткнул и ключ в море бросил!
Дочка вслушалась в слова. Примолкла. И как только Поля стихла, заплакала в изнеможении, хрипя с простоном.
Майское утро катилось из войны, из-за гор. Посерел воздух. Из тающей ночи чётко выступил белый ком цветущей яблони. Томила духота. Окно было раскрыто настежь, и невесть какой судьбой белая яблоневая ветка покоилась на подоконнике. Спала.
Привыкшие к ночному плачу парни спали.
Поля и на раз не свела глаз. Склонилась у окна над дочкой, шёпотом просила ей покоя у зари:
– Заря-заряница, заря, красна девица, твоё дитё плаче, пить-исть хочет, а моё дитё плаче – спать хочет. Возьми наше бессонье, отдай свой нам сон, отдай…
Девочка утишилась, а там и вовсе перестала. Мама положила её к братьям на пол, где из-за жары с Мая спали впокат.
Вскоре Маша уснула.
Барак придавила тягостная тишина.
Зоревой упругий сквозняк вытягивал из мазанок последнюю душность ночи, когда огромная, с малахай, птица чёрно ударилась с лёту в закрытое окно и, не разбив, сползла по стеклу к его низу, царапая могучими когтями. От этого скрежета проснулось всё в доме. Все видели, все застали тот момент, когда неясная птица скользила по стеклу. Свалившись на землю, она взмыла в угаре и снова с разгона бухнула в окно, заставив всех в ужасе сбиться в кучу.
Только Маша спала спокойно. Она не видела ту птицу, не слышала свист и стон её когтей по стеклу.
Девочка умерла во сне.
Повязала Поля гробик с дочкой платком, будто живую, прижала к груди и понесла хоронить. Следом Митя нёс крышку гробика. По бокам понуро брели лишь Глебка, Антоник да Пегарёк.
Митя шёл и думал, почему же умерла Маша.
В её смерти он чувствовал и свою вину.
Всю последнюю неделю сестрёнка беспрестанно плакала и просила еды. Главнянька Митя сказал:
– Будет тебе, Машка, еда королевская! Над нами ж растёт! Только вот ещё чуток недозрелка…
Он пододвинул лавку к стене, взобрался на подоконник. С подоконника малец дотягивался до веток яблони – росла вприжим к окну. Митя рвал недозрелые яблочки. Они были ещё горькие, и мальчик нашёл управу на горечь. Сорвав несколько яблок, он летел подальше от гомонливой малюсни за угол, обсыкал свою поживу. Яблочки становились не такими горькими и их можно было разжевать и проглотить. Сладостей в доме не водилось. Когда-никогда перепадёт детишкам в праздник по тощему кулёчку дешёвых конфеток-липучек. В редкость был и сахар. Сахар повсегда был только в собственной моче. «Живой сахар». Этим тёплым «живым сахаром» Митя орошал зелёные яблочные комочки и раздавал всем своим. Ел сам, ели Пегарёк, Глебка, Антон. У Маши не было зубов. «Усахаренные» яблочки Митя разжёвывал и изо рта в рот выдавливал свою жеванину Маше.
Все ели, все живы… А что же Машенька?..
Печаль при?чети беззвучно лилась с закаменелых губ.
– Отлетела ты, маленька пташечка,
Ты от батюшки, от матушки,
Ты на чужу, дальню сторонушку,
Ты на веки-то вековечные.
Прилети ты, маленька пташечка,
Посреди-то летичка теплова,
Когда распустится наш зеленый сад
И расцветут всякие цветики.
Прилети ты серой пташечкой,
Сядь на яблоньку на сахарну,
Запой хорошеньким ты соловушком,
Чтобы батечка с матушкой догадалися,
Во зеленый сад похваталися;
Как поймали бы эту пташечку,
Эту птичку во белы руки
И сказали бы этой пташечке:
«Ты скажи нам, пташечка,
Что ты, какого роду-племени,
Какого ты поколеньица?
Ты не нашего ль рода-племени?
Ты не нашего ль поколеньица?»
Мы узнаем маленьку пташечку
По белым волосам, по белому личику,
По хорошему наряженьицу.
Унимали мы маленьку пташечку:
«Останься ты, маленька пташечка,
На родной-то на сторонушке».
Нам отвечает родима пташечка:
«Да ты скажи, кормилец тятенька,
Что не останусь я, батюшка с матушкой,
Я на вашей-то сторонушке,
Там ведь жизнь-то горазд хорошая,
Там и хлеба-то хлебородные,
Там и люди-то доброродные».
Удалая ты головушка!
Две буханки-кирпичины жёлтого кукурузного хлеба, осклизлого, непропечённого, выписал бригадир Батлома на поминки. Поля позвала соседскую детвору. Сквозь слёзы смотрела, как взахлёб ели. При этом мальчишки тайком отпускали ремни на целую дырочку. Когда-то ещё столькушко дадут хлеба? Надо наедаться под перёд.[72 - Под перёд – про запас.]
Беда не живёт одна.
Нам ни крошки…
Но все его старания напрасны. Девочка слезой слезу погоняет и, похоже, это до бесконечности.
– Музлейка!.. Для тебя для одной поясняю… Плаксиха! Вот ты кто!.. Ну, чего ты?.. Не битая, а плачешь! Сколь в тебе ведров слёзок? Думаешь, я не могу заревти? Только станешь ты меня нянькать? Станешь? Вот придёт мамка, всё расскажу! Всё!.. Ну… Прикуси язычок, плакуша. Умолкни. Хочешь, я перед тобой на коленки?..
Мальчик кладёт её на пол, спускается перед нею на колени.
Девочка закричала навзрёв.
«Похоже, серьёзко дочка подболела, – подумала Поля и пошла в барак. – Совсем рухнула здоровьем. Плаче и плаче… Шо его делать? Не знаю, и в какую бутылку… лишь бы повернуться… Эхэ-хэ-э… Хоть пой, хоть плачь, хоть вплавь, хоть вскачь…»
В первые после больницы дни девочка ела охотно. Бледные щёчки подвеселила розовость, заиграла живинка в ясных сколках глаз, но скоро снова снесло её в вечные капризы, в слёзы.
– Вот тебе, сынок, за труды. – Поля дала Мите чурек с лобией. – Антон не утерпел, заснул… Лягайте и вы с Глебом… Спите… А я…
С плачущей дочкой она вышла во двор.
Укачивала, выговаривала бессонницу-полуночницу:
– Пойду я с Машей под восток, под восточну сторону. Под восточной стороной ходит матушка утрення заря Мария, вечерня заря Маремьяна, сыра земля Полина и сине море Елена. Я к ним приду поближе, поклонюсь им пониже: «Вояси ты, матушка заря утрення Мария и вечерня Маремьяна, приди к ней, к моей Машеньке, возьми ты у неё полунощника и щекотуна из белого тела, из горячей крови, из ретивого сердца, изо всей плоти, из ясных очей, из черных бровей, изо всего человеческого суставу, из каждой жилочки, из каждой косточки, из семидесяти семи жилочек, из семидесяти семи суставчиков; понеси их за горы высоки, за леса дремучи, за моря широки, за реки глубоки, за болоты зыбучи, за грязи топучи к щуке-белуге в зубы, понеси её в сине море». Щука в море, язык в роте, замок в небе, а ключ в море; заткнул и ключ в море бросил!
Дочка вслушалась в слова. Примолкла. И как только Поля стихла, заплакала в изнеможении, хрипя с простоном.
Майское утро катилось из войны, из-за гор. Посерел воздух. Из тающей ночи чётко выступил белый ком цветущей яблони. Томила духота. Окно было раскрыто настежь, и невесть какой судьбой белая яблоневая ветка покоилась на подоконнике. Спала.
Привыкшие к ночному плачу парни спали.
Поля и на раз не свела глаз. Склонилась у окна над дочкой, шёпотом просила ей покоя у зари:
– Заря-заряница, заря, красна девица, твоё дитё плаче, пить-исть хочет, а моё дитё плаче – спать хочет. Возьми наше бессонье, отдай свой нам сон, отдай…
Девочка утишилась, а там и вовсе перестала. Мама положила её к братьям на пол, где из-за жары с Мая спали впокат.
Вскоре Маша уснула.
Барак придавила тягостная тишина.
Зоревой упругий сквозняк вытягивал из мазанок последнюю душность ночи, когда огромная, с малахай, птица чёрно ударилась с лёту в закрытое окно и, не разбив, сползла по стеклу к его низу, царапая могучими когтями. От этого скрежета проснулось всё в доме. Все видели, все застали тот момент, когда неясная птица скользила по стеклу. Свалившись на землю, она взмыла в угаре и снова с разгона бухнула в окно, заставив всех в ужасе сбиться в кучу.
Только Маша спала спокойно. Она не видела ту птицу, не слышала свист и стон её когтей по стеклу.
Девочка умерла во сне.
Повязала Поля гробик с дочкой платком, будто живую, прижала к груди и понесла хоронить. Следом Митя нёс крышку гробика. По бокам понуро брели лишь Глебка, Антоник да Пегарёк.
Митя шёл и думал, почему же умерла Маша.
В её смерти он чувствовал и свою вину.
Всю последнюю неделю сестрёнка беспрестанно плакала и просила еды. Главнянька Митя сказал:
– Будет тебе, Машка, еда королевская! Над нами ж растёт! Только вот ещё чуток недозрелка…
Он пододвинул лавку к стене, взобрался на подоконник. С подоконника малец дотягивался до веток яблони – росла вприжим к окну. Митя рвал недозрелые яблочки. Они были ещё горькие, и мальчик нашёл управу на горечь. Сорвав несколько яблок, он летел подальше от гомонливой малюсни за угол, обсыкал свою поживу. Яблочки становились не такими горькими и их можно было разжевать и проглотить. Сладостей в доме не водилось. Когда-никогда перепадёт детишкам в праздник по тощему кулёчку дешёвых конфеток-липучек. В редкость был и сахар. Сахар повсегда был только в собственной моче. «Живой сахар». Этим тёплым «живым сахаром» Митя орошал зелёные яблочные комочки и раздавал всем своим. Ел сам, ели Пегарёк, Глебка, Антон. У Маши не было зубов. «Усахаренные» яблочки Митя разжёвывал и изо рта в рот выдавливал свою жеванину Маше.
Все ели, все живы… А что же Машенька?..
Печаль при?чети беззвучно лилась с закаменелых губ.
– Отлетела ты, маленька пташечка,
Ты от батюшки, от матушки,
Ты на чужу, дальню сторонушку,
Ты на веки-то вековечные.
Прилети ты, маленька пташечка,
Посреди-то летичка теплова,
Когда распустится наш зеленый сад
И расцветут всякие цветики.
Прилети ты серой пташечкой,
Сядь на яблоньку на сахарну,
Запой хорошеньким ты соловушком,
Чтобы батечка с матушкой догадалися,
Во зеленый сад похваталися;
Как поймали бы эту пташечку,
Эту птичку во белы руки
И сказали бы этой пташечке:
«Ты скажи нам, пташечка,
Что ты, какого роду-племени,
Какого ты поколеньица?
Ты не нашего ль рода-племени?
Ты не нашего ль поколеньица?»
Мы узнаем маленьку пташечку
По белым волосам, по белому личику,
По хорошему наряженьицу.
Унимали мы маленьку пташечку:
«Останься ты, маленька пташечка,
На родной-то на сторонушке».
Нам отвечает родима пташечка:
«Да ты скажи, кормилец тятенька,
Что не останусь я, батюшка с матушкой,
Я на вашей-то сторонушке,
Там ведь жизнь-то горазд хорошая,
Там и хлеба-то хлебородные,
Там и люди-то доброродные».
Удалая ты головушка!
Две буханки-кирпичины жёлтого кукурузного хлеба, осклизлого, непропечённого, выписал бригадир Батлома на поминки. Поля позвала соседскую детвору. Сквозь слёзы смотрела, как взахлёб ели. При этом мальчишки тайком отпускали ремни на целую дырочку. Когда-то ещё столькушко дадут хлеба? Надо наедаться под перёд.[72 - Под перёд – про запас.]
Беда не живёт одна.