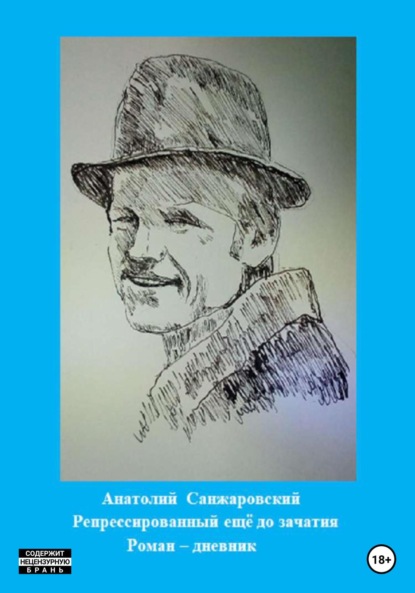По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Репрессированный ещё до зачатия
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В нём такие мне встретились люди,
Я таких не встречала нигде.
Музыканты, артисты, писатели,
Благодарностью к Вам я живу.
Я когда-нибудь обязательно
Поимённо всех Вас назову.
Измождённые, в тех же бушлатах
Вы из зоны в театр шли, как в рай.
Под рычанье овчарок клыкастых
Выводил Вас стрелок-вертухай.
Там, в театре, как будто под допингом,
Под прицелом слепящих огней,
Одеваясь во фрак и смокинги,
Вы играли счастливых людей.
А потом, когда занавес падал
И восторженный зал умолкал,
Вертухай, упражняясь с прикладом,
Снова в зону всех Вас загонял.
Если есть во мне что хорошее,
То от вас ко мне перешло.
Это Вами зерно в меня брошено,
Это Ваше зерно проросло.
Вас, наверное, нет уж на свете,
Кто при мне ушёл, кто потом.
Пусть сиянье полярное светит
Вашей памяти вечным огнём.
Солнце уже садилось в тучу.
Подталкиваемый ветром я побрёл через речушку Криушу, запутавшуюся в камышах, к церкви, где когда-то познакомились, а потом и венчались мои родители.
Сейчас в полуразрушенной, загаженной церкви без крыши в выбитых окнах стонали чёрные голуби.
Долго стоял я у стелы Памяти с именами погибших в войну новокриушанцев. Было на стеле и имя моего отца…
На фронт ушло 850 мужчин. Погибли 378…
Я не стал ждать на остановке автобус.
Сейчас в полуразрушенной, загаженной церкви без крыши всё ещё были тракторный парк и склад удобрений. Чёрные голуби стонали в выбитых окнах.
Долго стоял я у стелы Памяти с именами погибших в войну новокриушанцев. Было на стеле и имя моего отца…
Я не стал ждать на остановке автобуса. Пошёл в Калач пешком. Поднялся на бугор, с которого мама всматривалась в ночную Криушу…
Я не стал ждать на остановке автобуса.
Пошёл в Калач пешком.
Поднялся на бугор, с которого мама всматривалась в ночную Криушу…
Снизу, казалось, мне прощально в печали махала под ветром дымами родная Криуша.
Я шёл и не смел отвернуться от неё.
Я шёл спиной к городу.
Но вот я сделал шаг, и Криуша пропала с виду.
Я онемел. И тут же снова сделал шаг вперёд, и горькая Криуша снова открылась мне. Я стоял и смотрел на неё, пока совсем не стемнело.
И лишь тогда побрёл в кромешной тьме к городу…
Пристёжка к роману. Эпилог
Странная реабилитация, или «Социализм с человеческим лицом»
На мой запрос о дедушке ответила воронежская прокуратура:
«Разъясняется, что Санжаровский Андрей Дмитриевич, 1872 г. рождения, уроженец и житель с. Н – Криуша Калачеевского р-на ЦЧО (Воронежской области) по Постановлению тройки при ПП ОГПУ ЦЧО подвергался репрессии по политическим мотивам, по ст. 58-10 УК РСФСР к 3 годам заключения в концлагерь.
19 июня 1989 г. реабилитирован прокуратурой Воронежской области на основании Указа ПВС СССР от 16.01. 89 г. Дело №Г-4193 хранится в ЦДНИ г. Воронежа (ул. Орджоникидзе, 31)».
После долгой писанины во всякие инстанции я всё же добыл справки о реабилитации дедушки, мамы, папы (все посмертно). Реабилитирован и я.
Отец, на фронте защищая Родину, погиб репрессированным.
Мама умерла в возрасте 86 лет репрессированной. Пережила 61 год незаконных репрессий.
Старший брат Дмитрий был репрессирован в двухлетнем возрасте.
Средний брат Григорий был репрессирован за год до рождения. А уж я напоролся на вышку. Я был репрессирован за четыре года до рождения. Вот какие в тридцатые очумелые годы были грозные «враги» у советской власти. Как же их не карать?
В нашей семье все пятеро были незаконно репрессированы. Троих реабилитировали. Но братьев Дмитрия и уже покойного Григория – нет. И куда я об этом ни писал, мне так и не ответили.
У родителей незаконно отобрали всё имущество.
Пытался я, член Московской Ассоциации жертв незаконных репрессий, получить хоть какие крохи компенсации.
В судебной тине дело и увязло.
В печали я часто подолгу рассматриваю вот эту справку о своей реабилитации.
Читаю в ней:
«Где, когда и каким органом репрессирован».
Ответ: «1934 г. Калачеевским РИК». РИК – это райисполком.
В третьей строчке указан год моего рождения. 1938-ой.
Я таких не встречала нигде.
Музыканты, артисты, писатели,
Благодарностью к Вам я живу.
Я когда-нибудь обязательно
Поимённо всех Вас назову.
Измождённые, в тех же бушлатах
Вы из зоны в театр шли, как в рай.
Под рычанье овчарок клыкастых
Выводил Вас стрелок-вертухай.
Там, в театре, как будто под допингом,
Под прицелом слепящих огней,
Одеваясь во фрак и смокинги,
Вы играли счастливых людей.
А потом, когда занавес падал
И восторженный зал умолкал,
Вертухай, упражняясь с прикладом,
Снова в зону всех Вас загонял.
Если есть во мне что хорошее,
То от вас ко мне перешло.
Это Вами зерно в меня брошено,
Это Ваше зерно проросло.
Вас, наверное, нет уж на свете,
Кто при мне ушёл, кто потом.
Пусть сиянье полярное светит
Вашей памяти вечным огнём.
Солнце уже садилось в тучу.
Подталкиваемый ветром я побрёл через речушку Криушу, запутавшуюся в камышах, к церкви, где когда-то познакомились, а потом и венчались мои родители.
Сейчас в полуразрушенной, загаженной церкви без крыши в выбитых окнах стонали чёрные голуби.
Долго стоял я у стелы Памяти с именами погибших в войну новокриушанцев. Было на стеле и имя моего отца…
На фронт ушло 850 мужчин. Погибли 378…
Я не стал ждать на остановке автобус.
Сейчас в полуразрушенной, загаженной церкви без крыши всё ещё были тракторный парк и склад удобрений. Чёрные голуби стонали в выбитых окнах.
Долго стоял я у стелы Памяти с именами погибших в войну новокриушанцев. Было на стеле и имя моего отца…
Я не стал ждать на остановке автобуса. Пошёл в Калач пешком. Поднялся на бугор, с которого мама всматривалась в ночную Криушу…
Я не стал ждать на остановке автобуса.
Пошёл в Калач пешком.
Поднялся на бугор, с которого мама всматривалась в ночную Криушу…
Снизу, казалось, мне прощально в печали махала под ветром дымами родная Криуша.
Я шёл и не смел отвернуться от неё.
Я шёл спиной к городу.
Но вот я сделал шаг, и Криуша пропала с виду.
Я онемел. И тут же снова сделал шаг вперёд, и горькая Криуша снова открылась мне. Я стоял и смотрел на неё, пока совсем не стемнело.
И лишь тогда побрёл в кромешной тьме к городу…
Пристёжка к роману. Эпилог
Странная реабилитация, или «Социализм с человеческим лицом»
На мой запрос о дедушке ответила воронежская прокуратура:
«Разъясняется, что Санжаровский Андрей Дмитриевич, 1872 г. рождения, уроженец и житель с. Н – Криуша Калачеевского р-на ЦЧО (Воронежской области) по Постановлению тройки при ПП ОГПУ ЦЧО подвергался репрессии по политическим мотивам, по ст. 58-10 УК РСФСР к 3 годам заключения в концлагерь.
19 июня 1989 г. реабилитирован прокуратурой Воронежской области на основании Указа ПВС СССР от 16.01. 89 г. Дело №Г-4193 хранится в ЦДНИ г. Воронежа (ул. Орджоникидзе, 31)».
После долгой писанины во всякие инстанции я всё же добыл справки о реабилитации дедушки, мамы, папы (все посмертно). Реабилитирован и я.
Отец, на фронте защищая Родину, погиб репрессированным.
Мама умерла в возрасте 86 лет репрессированной. Пережила 61 год незаконных репрессий.
Старший брат Дмитрий был репрессирован в двухлетнем возрасте.
Средний брат Григорий был репрессирован за год до рождения. А уж я напоролся на вышку. Я был репрессирован за четыре года до рождения. Вот какие в тридцатые очумелые годы были грозные «враги» у советской власти. Как же их не карать?
В нашей семье все пятеро были незаконно репрессированы. Троих реабилитировали. Но братьев Дмитрия и уже покойного Григория – нет. И куда я об этом ни писал, мне так и не ответили.
У родителей незаконно отобрали всё имущество.
Пытался я, член Московской Ассоциации жертв незаконных репрессий, получить хоть какие крохи компенсации.
В судебной тине дело и увязло.
В печали я часто подолгу рассматриваю вот эту справку о своей реабилитации.
Читаю в ней:
«Где, когда и каким органом репрессирован».
Ответ: «1934 г. Калачеевским РИК». РИК – это райисполком.
В третьей строчке указан год моего рождения. 1938-ой.