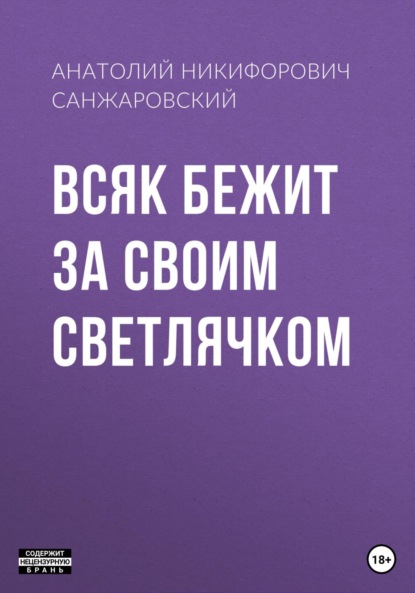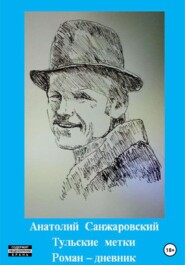По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Всяк бежит за своим светлячком
Год написания книги
2023
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не было никакой власти над собой ждать. Неистовая сила тычком подтолкнула к её губам, и я, ещё раз инстинктивно шатнув её к себе, неостановимо потянулся к зовущему плутовскому огню поцелуя…
Через минуту мы оба стыдились этой нечаянной вокзальной шалости.
Срезанно уронив голову, она отвернулась.
Отвернулся и я себе, шагнув к окну.
Так мы и стояли по разные стороны от горки её вещей.
– Эвот достоимсе, толкуши, чо и поезд уйде… – наконец подала она голос. – Чо скозлоумили… Тряхонули бедой![121 - Трясти бедой – проказничать.]
Я в ответ ни звука.
– Всё молчаком да молчаком… Ни росту ни тягу…[122 - Ни росту ни тягу – об отсутствии роста.] Чо топориться?..[123 - Топориться – важничать.] Растребушил душу… Спроси чо-нить под интерес…
– Да что я спрошу…
– Ё! – обиделась она. – Чо-нить хоть вкратцы… Доцаловались и спросить нече… Схомутает же Господь…
Мой взгляд упал на её вёдра.
– Вёдра у тебя… тяжелуха… – пожаловался я. – Что в них, кирпичи?
– Аха-а, – ласково подтвердила она. – Сюда везла сырые, отсюда калёные…
Я обрадовался. У меня ещё есть вопрос!
– А почему тебя в троллейбусе назвали середнячкой?
– А то кто же я? Вещей сила силённая… Чувал на мне вперевязку… Клунок спереди, клунок назади. Я посередке. Кто же я? Форменная середнячка…
И снова молчание.
– Ну-ну, – в нетерпении подживила она. – Добейся до тонкостев… Спроси ишшо чо-нить… Ловкий разговор открывается…
Она мягко прыснула в кулак, подошла ко мне.
Тронула за локоть.
– Ну чо, вежливый, обжёгси? А? Чо в молчанку? – Видимое озорство входило к ней в голос. – Как жа ты теперичка мене и спокинешь? Кто мне подможет на поезд вскочить? Кто подможет сойтить? Кто припоможет всё это, – кивнула на свою горку, – до дому допурхать? Чего разводить толды-ялды? Можь, дёрнем ко мне вместях?.. Иль уже вся вежливость сожглась?
Она звала меня с собой? А может, я ослышался?
– Ты хочешь, чтоб я ехал с тобой? – спросил я.
– А ты не хочешь?
– В качестве?
– А кем возжелаешь! – бросив руку в сторону, отпела с баловным поклоном. – У нас в Сухой Ямке на мужиков стро-о-огий лимит. Все лимиты давно выскребли до донушка. Под метёлочку… Нетуща! И не ожидается… – Ни кривенького, ни хроменького, ни горбатенького. Никаковского! Бедствует по мужеской части Сухая Ямка.
Я оторопело уставился на неё. Таким ли бедствовать?
Похоже, она и без слов поняла меня. Вздохнула.
– У самого глаза не из аптеки, видишь… Деваля я справная, видом ловкая… Жир на мне не толпится… Один нижнядявицкай сигунец до-олго, года с два, топтал ко мне дорожку. Ни в тын ни в ворота… А леностный што! Сидень сиднем… Круглый лодырюга… И рад бы нос высморкать, да вот беда, руку поднять надо… За ним как за малым дитём уход надо несть… До того допёк – готова была отремонтировать ему бестолковку.[124 - Отремонтировать бестолковку – разбить голову.] Еле отлепила… Славь Бога, утёк с коломутной водой[125 - Утечь коломутной водой – исчезнуть бесследно.]… По Сибирям прохлаждается… иль по целинам… Тот-то его знай!
Постояла она немного на раздумах; подумала и, смелея лицом, с каким-то бесшабашным вызовом кинула:
– А ехай хоть квартирантом, хоть мужиком! Кем вдобней… Во-о смеху! Поехала Манькя у город яйца продавать, а на выручкю прикупила себе муженька!.. Ё-твоё! Чо буровлю? Ну чо буровлю? Совсем чёрт девку понёс, не помазавши колёс!
Она осудительно махнула рукой, длинно молчала, глядя в одну точку на тёмной толстой стене. Потом заговорила каким-то новым, выплаканным голосом:
– Я, толдыка, не умею от людей таиться… Мне в голову ещё думка та не вошла, а с языка уже свалилась в чужое ухо. Недержачка… За то и казнят… Не знай почему, но мне жалко тебя. Ты такой махенький, квёленький… доход-доходяга… Город тя стопчет… Раздавит… У нас ты б подправился, боровком глядел ба. Хорошу зависть кладу я той, к кому тя судьба пришпилит. Ты ладливый, унимательнай, не дашь ветру дунуть… Носик аккуратненькой, с остринкой… гордоватой… И лицо всё в конопушках, будто весёлые воробейки восшалили. От тя и ребятишки с конопушками побегуть… Навроде ты путячий… А… До работы я, шевелилка, бешеная… Не какая там фрельня[126 - Фрельня – белоручка.]… Я и тебя всему научу, в хозяйстве сгодится. И ты у мене станешь на обухе рожь молотить, из мякины кружева плесть. У мене не напрохлаждаешься. Я всё и затылком вижу… Так зато сразу забудешь ноженьку таскать. Лаской упрошу её ладом ходить… Зажили б на толсту ногу…
Всё это вроде говорилось мне, и в то же время она как бы рассуждала сама с собой, порой вовсе держась так, словно рядом и не было меня.
Я слушал её и терялся в догадках.
Вот так поворот!
Ты поможешь человеку выйти из троллейбуса, а он в благодарность за то готов цапнуть тебя всего живьяком и довеку упечь в какую-то Сухую Ямку, будто Сухая Ямка от этого станет Мокрой. Зачем же вот так сразу и в Ямку?
Может, про Ямку – просто к слову? Может, всё это у неё не поддающаяся здравой логике игра пустого воображения и больше ничего?
– Ну, так… я беру?.. – запинаясь, смято, как-то надвое спросила она, покосившись на кассу.
Я широко раскинул хваталки. Само собою разумеется!
Играть так играть!
Она стремительно пошла к кассе. На ходу обернулась, озоровато плеснула синью глаз:
– С тя ничо не беру. Отблагодаришь потомча поленом по горбу!
У окошка никого не было. Она отошла в угол, достала из-под близкой чулочной резинки шуршики, подала в окошко.
– Два до Хренового!
Она брала всё-таки не один – два билета! Брала и на меня! Непостижимо!
Я думал, она всё шутила, всё играла. Так билеты – это уже не игра!
Как-то уж так получилось, что ноги сами быстро-быстро, почти бегом отнесли меня за открытую входную дверь.
В тёмном углу за дверью стало как-то спокойней на душе, только тут я подумал, а чего это я убежал от её вещей. Если всё дело в охране вещей, храбро думал я в своей тёмной темнице, я могу и отсюда наблюдать, чтоб не приставили им ножки. В щель между дверью и косяком всё помилуй как видно.
И почему же я убежал, спрашивал я себя, пялясь на её вёдра, мешок. Почему? Я не мог себе ответить. И в то же время не спешил высовываться из своего неожиданного надёжного убежища. Раз побежал, значит, был мне откуда-то сверху дан голос – беги!?