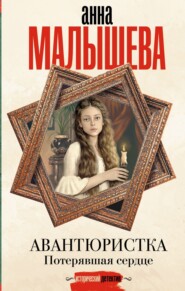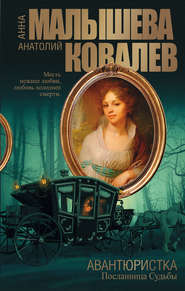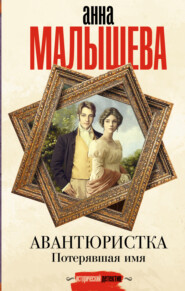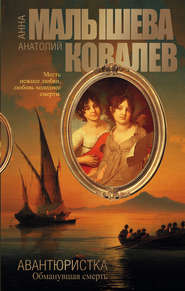По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Обманувшая смерть
Автор
Серия
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Комната, в которой принимал хасидов Ясновидец, была маленькой, скромно убранной, с низкими потолками. Ее обитатель сидел в кресле, но не лицом к входящему, а в профиль, так что все видели только одну сторону его лица. Говорили, что правый глаз цадика больше левого, имеет круглую форму и излучает доброту, а левый, напротив – миндалевидный, прищуренный, глядит с хитрецой. Лицо рабби было обращено к Иеффаю правой стороной. Якову Ицхаку уже перевалило за шестьдесят, но его рыжеватую бороду почти не тронула седина, тогда как волосы и брови были совершенно белыми.
Первая же фраза, которую произнес Ясновидец, вызвала у Цейца недоумение и одновременно вывела его из меланхолического состояния. «Ты не должен впадать в уныние, – сказал рабби, – даже когда погибнет твой брат!» – «Но у меня нет брата, – пожал плечами циркач, – только сестры…» Гедалья появился на свет только через семь лет после описанных событий. Яков Ицхак, не обратив внимания на замечание Цейца, продолжал: «Больше всего остерегайся уныния, ибо оно хуже и опаснее греха. Когда Злое Начало пробуждает в человеке страсти, оно делает это не затем, чтобы ввести его в грех, а затем, чтобы он впал в уныние… Те, о ком ты сейчас печалишься, пребывают в Царствии Небесном, и ты должен радоваться за них, а не горевать. Сказано в Мишне: ”Человек должен благодарить Бога за зло и восхвалять Его за это!” Гемара добавляет: “…должен принять с радостью и со спокойным сердцем”. Понял?» – «Как можно радоваться злу?! – в негодовании воскликнул Иеффай. – Принимать его со спокойным сердцем?» – «Надо учиться смирению, – спокойно продолжал рабби, – а иначе Злое Начало овладеет твоими мыслями, захватит твое сердце, и ты сам, не распознав в себе зло, начнешь причинять боль другому, ввергать его в уныние…»
Цейц ушел тогда от Ясновидца с противоречивым чувством, но главное было достигнуто – он больше не впадал в меланхолию, а, напротив, ощущал невероятный прилив сил, словно переродившись. «Странно! – часто восклицал люблинский святой. – Приходят ко мне люди унылые, а уходят – просветленные, хотя сам я мрачен и не даю света». Два года спустя Яков Ицхак погиб, выпав из окна второго этажа на мостовую. Люди, близко знавшие Ясновидца, не сомневались, что это самоубийство, потому что попыток свести счеты с жизнью у него и раньше было много. Весь хасидский мир был повергнут в смятение таким поступком и пребывал в горе от столь великой утраты.
Удивительное дело – человеческая память! В ней два дна, словно в шляпе фокусника… О предсказании Ясновидца насчет брата Иеффай вспомнил только сейчас, собираясь выйти, чтобы увидеться с русским царем.
«Хотел бы я посмотреть в глаза этому… злодею!» – Цейц не нашел другого подходящего слова для самодержца, который стал новым тираном для еврейского народа.
Он решил надеть костюм Арлекина.
– Не в лапсердаке же идти к нему! – с презрением бросил циркач. – Костюм шута – вот самый подходящий наряд, чтобы предстать перед Его Величеством!
Иеффай быстро оделся и загримировал лицо.
– Шут скажет много неприятных слов царю, – сообщил он на прощание своему изображению в оловянном чайнике, служившем ему одновременно зеркалом. – И пусть меня потом хватают, секут и сажают в карцер!
От мальчишек, бежавших смотреть на императора, он узнал, что шествие сейчас проходит по Лубянской площади. Иеффай хорошо ориентировался в этой части города, и, миновав несколько переулков, вскоре оказался на Мясницкой. Он выбежал на мостовую и увидел, как на него движется огромная толпа людей, во главе которой едет на вороном коне император. На нем был черный мундир с красными эполетами, без аксельбантов и орденов и черная треуголка. Лицо государя показалось Иеффаю неестественно бледным и безжизненным. Толпа, шедшая за ним, не производила обычного гула, свойственного большому скоплению людей. Все шли молча, только изредка сквозь топот и шарканье тысяч ног слышались одинокие выкрики, здравицы царю. Эта молчаливая, полная предгрозового напряжения толпа оставляла жуткое впечатление. «Так же молча они растопчут меня, не оставив и следа… – промелькнуло в голове у Иеффая. – Растопчут кого угодно!» Все-таки он нашел в себе силы сделать несколько шагов навстречу «тирану», «кровавому Асмодею», столь безжалостному к еврейским детям.
Когда маленький Арлекин с размалеванным лицом, вынырнувший неизвестно откуда, встал на пути императорского кортежа, шествие остановилось.
– Кто это такое? – воскликнул граф Толстой.
– Ребенок? – удивленно поднял брови Николай.
– Нет, по всей видимости, карлик, – возразил ему Бенкендорф.
– И явно из жидов, Ваше Величество, – тотчас с авторитетным видом определил генерал Храповицкий, – я их по глазам узнаю.
– За кого-то хочет просить, очевидно, – заключил шеф жандармов. – Чего тебе? – обратился он к Арлекину.
Иеффай все время, пока его обсуждали, стоял как вкопанный и не мог произнести ни слова. Он смотрел, не моргая, в глаза императору. Говорили, будто в гневе у Николая в левом глазу загорается «раскаленный гвоздь», и от этого зрелища можно сойти с ума. Сейчас ничего подобного не наблюдалось. Император не гневался на шута, а, напротив, смотрел на него с жалостью и даже, как показалось Иеффаю, с сочувствием.
– Шуты обыкновенно остры на язык, – с ухмылкой заметил граф Толстой, – но этот оказался немым.
Тем временем Цейца уже обступили с двух сторон жандармы. Однако император сделал знак, чтобы они удалились, и сам обратился к карлику, желая его подбодрить:
– Говори же, не бойся! Шут не должен бояться царя.
От этих слов, произнесенных спокойно, участливо, у Иеффая подкосились ноги. Он упал на колени и зарыдал от бессилия. Слова упрека, которые карлик готовил, чтобы бросить их императору, высыпались у него из памяти, словно мелкие монеты из дырявого кармана. Язык одеревенел так, что стал совсем неподвижен. Сквозь застилавший глаза кровавый туман Иеффай успел еще увидеть, как ладонь Николая потянулась к треуголке. Император отдал ему честь! В тот же миг чьи-то сильные руки подхватили Иеффая под мышки и, словно тряпичную куклу, понесли куда-то в сторону от мостовой.
Шествие, всего спустя миг, продолжилось.
В подворотне, темной и сырой, карлика опустили наземь. Цейц даже не взглянул на своего спасителя или похитителя – он никак не мог успокоиться. Его душили истеричные рыдания, слезы лились ручьем. Размазывая их по густо положенному гриму, он превращал лицо в смешную и страшную маску.
– Ну, будет тебе! – раздался над ним хриплый незнакомый голос. – Чего тебя понесло-то к царю? Будто не знаешь, как он вас, жидков, «любит».
Иеффай часто заморгал, поднял голову – и онемел. Над ним склонялся Геракл.
– Ну, что молчишь? Язык откусил? А раньше трещал будь здоров! Не остановишь… – усмехнулся напарник.
– Я откусил, а ты, видно, подобрал, да и пришил его себе! – волшебным образом обрел дар речи Цейц. – Какого лешего ты столько времени молчал?! Поговорить было бы с кем!
– Молчал я ровно три года, – вздохнул Геракл, – такова была епитимья, наложенная на меня священником… – Он сделал паузу, а потом, махнув рукой, произнес: – Впрочем, тебе этого не понять, ты еврей.
– Что ты заладил – то «жидок», то «еврей»! Забыл, как меня зовут? – возмутился Иеффай.
– Все едино, – хрипло пробасил верзила, – Иеффай, Мордехай или Шмулька какой… Ваше племя распяло Христа и должно вечно страдать за это! Думаешь, я не понимаю, почему ты полез к государю-императору? Ведь ты рассказывал мне о своем младшем брате, который повесился, не пережив крещения. Хотел царю бросить в лицо свою обиду? Д-дурак! Терпи, коль веруешь! Уповай на Бога! У меня, может быть, не меньше твоего накопилось в душе… Однако же я терплю…
– Ей-богу, лучше бы ты продолжал молчать! – воскликнул в сердцах Иеффай. Он был нешуточным образом оскорблен словами напарника.
Цейц решил закончить всякое общение с Гераклом, который, обретя дар речи, одновременно утратил всякую приятность общения. Карлик понятия не имел, как справится в одиночку и прокормит ли его скрипка без дополнительного номера, но собирался скорее вернуться домой. Там, в тишине и покое, он помолится и, Бог даст, что-то сообразит… Сделав несколько шагов и обернувшись, он увидел, что верзила следует за ним.
«Как собака, – подумал Иеффай, – большая, глупая собака… Куда же ему еще идти, как не за мной следом?»
Нахмурившись, Иеффай отвернулся и зашагал дальше. Он совсем не был расположен прощать преобразившегося Геракла. Силач был совсем не похож на того человека, с которым он несколько месяцев кряду делил комнатку на чердаке, на безмолвного, со всем согласного верзилу. У этого нового Геракла был довольно злой язык, да еще хорошо подвешенный, каковым достоинством обычно не блещут цирковые силачи.
Мясницкая обезлюдела. Кажется, весь город устремился в одну сторону – вслед за императорским шествием. Даже самые бойко торговавшие магазины и лавки оказались закрыты.
– Да погоди, не семени, не убежишь все равно! – услышал Иеффай у себя за спиной спокойный голос Геракла. – Ты, я смотрю, обиделся, а я-то вовсе не собирался тебя обижать. Отвык говорить, ну и ляпнул! Ты меня прости, коль задел за живое. Ну?
Напарник поравнялся с ним, сделав один широкий шаг, и, протянув руку, вопросительно произнес:
– Мир?
Подумав немного, Цейц все-таки вложил свою крохотную лапку в огромную ладонь верзилы. Он не умел долго на кого-то злиться и таить обиду.
– Ну, если объявился, то ступай-ка скорее, забери свои гири у Самуила, – снова, как прежде, начал командовать он. – А если этот кровопивец Шмулька, распявший твоего Христа, заикнется о деньгах, покажи ему кулак… И напомни, что три дня еще не прошло! А то он тебя околпачит…
– Да ты не бойся! – радостно откликнулся прощенный Геракл. – У меня не вывернется!
Он прибавил шаг, сворачивая в сторону Хитрова рынка. А Цейц, глядя ему вслед, вдруг осознал, что до сих пор не знает настоящего имени Геракла.
– Погоди! – окликнул он верзилу. – Как мне теперь тебя звать-то? По-старому, по-цирковому, или ты мне имя скажешь по такому радостному случаю, что ты больше не немой.
– Велика радость, – усмехнулся Геракл, – тоже мне, праздник какой! Если хочешь, кличь и дальше Гераклом, я привык. Ну, а не желаешь – так Афанасием зови!
Махнув на прощание, он исчез в кривом узком переулке, направившись в недра Хитровки разыскивать «кровопивца Шмульку», мечтавшего присвоить кормившие циркачей гири.
* * *
Наш старый знакомый, спаситель и благодетель Елены, Афанасий Огарков провел на каторге в общей сложности пятнадцать лет. В юности его осудили за раскольничество, и он отбыл свой первый срок в горных заводах Пермского края. Каторга, являвшая собой ад на земле и особенно под землей, не сломила его, но озлобила, сделала замкнутым и недоверчивым. По освобождении он связался с лесными братьями-разбойниками, но вскоре был пойман в Москве, заключен в кандалы и ждал нового этапа. Однако случилось невероятное. К городу подошла французская армия, и московский генерал-губернатор граф Ростопчин распорядился выпустить из тюрем всех заключенных с условием, что они подожгут город. Для этих целей еще за несколько недель до сдачи Москвы в поместье князя Репнина, расположенном в шести верстах от города, был выстроен специальный арсенал для изготовления всякого рода фейерверков, ракет и других взрывных приспособлений. «Огненные снаряды» были выданы колодникам в огромном количестве. Граф Ростопчин отдал приказ главному полицмейстеру Ивашкину по возможности вооружить поджигателей, разбить их на группы и приставить к каждой группе двух-трех переодетых полицейских. Выдать колодникам огнестрельное оружие Ивашкин побоялся и, в конце концов, после долгих колебаний снабдил преступников пиками. И генерал-губернатор, и главный полицмейстер не могли не понимать, что оружие это будет в первую очередь направлено не против французов, а против простых горожан, по тем или иным причинам оставшихся в своих домах. Но настолько велико было желание поджечь Москву, чтобы обескровить врага, лишить его продовольствия и заставить сидеть в сожженном городе, что на подобные мелочи никто не обращал внимания.
В первые часы по оставлении русской армией Москвы колодники, почувствовав свободу и полную безнаказанность, как стая диких зверей, бросились грабить богатые дома, поднимая на пики дворовых людей, насилуя женщин, если таковые попадались им на пути. Переодетые в штатское полицейские не препятствовали разбою. Но были среди поджигателей и настоящие патриоты, свято верившие в то, что пожар Москвы остановит наполеоновские орды. Они не марали свои руки грабежом и насилием. То были студенты Московского университета, семинаристы, казаки, раненые солдаты, простые горожане. «Они смотрели на это дело как на заслугу перед Богом», – писал о них впоследствии аббат Сюрюг. «Наполеон не хотел сначала верить, что можно было прибегнуть к такой крайней мере, – вспоминал далее французский священник, – но многочисленные поджигатели, захваченные со взрывчатыми веществами, подтверждали достоверность слуха, и многие из них были приговорены к расстрелу». И конечно, самым усердным помощником поджигателей стал сильный, с каждым часом усиливавшийся ветер.
Афанасию тогда не досталось пики. Он нес огромный мешок с «огненными снарядами». Раскольник, каторжник, лесной разбойник, Афанасий никогда раньше не задумывался над тем, патриот он или нет, любит ли свою Отчизну? В эти роковые для народа и государства минуты Огарков испытывал лишь привычную ненависть к сильным мира сего: к аристократам, к богатеям, а также к несправедливости всего мироустройства, где одни так легко отправляют на каторгу других только за то, что те бедны, беззащитны и молятся иначе, чем велит придуманный богатыми закон. Он с огромным наслаждением поджигал особняки и дворцы, им овладела безумная страсть к разрушению. Товарищи ругательски ругали его за то, что он слишком торопится и не дает им как следует пограбить.
Правда, в одном дворце он и сам задержался надолго, завороженный его роскошью, бесконечной анфиладой раззолоченных комнат и залов. «Зачем одному человеку столько всего понадобилось? – недоуменно спрашивал себя Афанасий, невольно начиная ступать на цыпочках. – Али семья у него большая?» Он обнаружил незапертой дверь в кабинет хозяина дворца. Здесь на стене висел темный персидский ковер, украшенный саблями, кинжалами в серебряных оправах и роскошным старинным ружьем. Камин, облицованный яшмой кроваво-красного цвета, уральской яшмой, так хорошо знакомой Афанасию по каторжным каменоломням, был полон еще теплого пепла. Взломав письменный стол, Огарков обнаружил в ящике два инкрустированных перламутром футляра. В одном лежали дуэльные пистолеты, в другом – весь приклад к ним, включая пули и пыжи.
Первая же фраза, которую произнес Ясновидец, вызвала у Цейца недоумение и одновременно вывела его из меланхолического состояния. «Ты не должен впадать в уныние, – сказал рабби, – даже когда погибнет твой брат!» – «Но у меня нет брата, – пожал плечами циркач, – только сестры…» Гедалья появился на свет только через семь лет после описанных событий. Яков Ицхак, не обратив внимания на замечание Цейца, продолжал: «Больше всего остерегайся уныния, ибо оно хуже и опаснее греха. Когда Злое Начало пробуждает в человеке страсти, оно делает это не затем, чтобы ввести его в грех, а затем, чтобы он впал в уныние… Те, о ком ты сейчас печалишься, пребывают в Царствии Небесном, и ты должен радоваться за них, а не горевать. Сказано в Мишне: ”Человек должен благодарить Бога за зло и восхвалять Его за это!” Гемара добавляет: “…должен принять с радостью и со спокойным сердцем”. Понял?» – «Как можно радоваться злу?! – в негодовании воскликнул Иеффай. – Принимать его со спокойным сердцем?» – «Надо учиться смирению, – спокойно продолжал рабби, – а иначе Злое Начало овладеет твоими мыслями, захватит твое сердце, и ты сам, не распознав в себе зло, начнешь причинять боль другому, ввергать его в уныние…»
Цейц ушел тогда от Ясновидца с противоречивым чувством, но главное было достигнуто – он больше не впадал в меланхолию, а, напротив, ощущал невероятный прилив сил, словно переродившись. «Странно! – часто восклицал люблинский святой. – Приходят ко мне люди унылые, а уходят – просветленные, хотя сам я мрачен и не даю света». Два года спустя Яков Ицхак погиб, выпав из окна второго этажа на мостовую. Люди, близко знавшие Ясновидца, не сомневались, что это самоубийство, потому что попыток свести счеты с жизнью у него и раньше было много. Весь хасидский мир был повергнут в смятение таким поступком и пребывал в горе от столь великой утраты.
Удивительное дело – человеческая память! В ней два дна, словно в шляпе фокусника… О предсказании Ясновидца насчет брата Иеффай вспомнил только сейчас, собираясь выйти, чтобы увидеться с русским царем.
«Хотел бы я посмотреть в глаза этому… злодею!» – Цейц не нашел другого подходящего слова для самодержца, который стал новым тираном для еврейского народа.
Он решил надеть костюм Арлекина.
– Не в лапсердаке же идти к нему! – с презрением бросил циркач. – Костюм шута – вот самый подходящий наряд, чтобы предстать перед Его Величеством!
Иеффай быстро оделся и загримировал лицо.
– Шут скажет много неприятных слов царю, – сообщил он на прощание своему изображению в оловянном чайнике, служившем ему одновременно зеркалом. – И пусть меня потом хватают, секут и сажают в карцер!
От мальчишек, бежавших смотреть на императора, он узнал, что шествие сейчас проходит по Лубянской площади. Иеффай хорошо ориентировался в этой части города, и, миновав несколько переулков, вскоре оказался на Мясницкой. Он выбежал на мостовую и увидел, как на него движется огромная толпа людей, во главе которой едет на вороном коне император. На нем был черный мундир с красными эполетами, без аксельбантов и орденов и черная треуголка. Лицо государя показалось Иеффаю неестественно бледным и безжизненным. Толпа, шедшая за ним, не производила обычного гула, свойственного большому скоплению людей. Все шли молча, только изредка сквозь топот и шарканье тысяч ног слышались одинокие выкрики, здравицы царю. Эта молчаливая, полная предгрозового напряжения толпа оставляла жуткое впечатление. «Так же молча они растопчут меня, не оставив и следа… – промелькнуло в голове у Иеффая. – Растопчут кого угодно!» Все-таки он нашел в себе силы сделать несколько шагов навстречу «тирану», «кровавому Асмодею», столь безжалостному к еврейским детям.
Когда маленький Арлекин с размалеванным лицом, вынырнувший неизвестно откуда, встал на пути императорского кортежа, шествие остановилось.
– Кто это такое? – воскликнул граф Толстой.
– Ребенок? – удивленно поднял брови Николай.
– Нет, по всей видимости, карлик, – возразил ему Бенкендорф.
– И явно из жидов, Ваше Величество, – тотчас с авторитетным видом определил генерал Храповицкий, – я их по глазам узнаю.
– За кого-то хочет просить, очевидно, – заключил шеф жандармов. – Чего тебе? – обратился он к Арлекину.
Иеффай все время, пока его обсуждали, стоял как вкопанный и не мог произнести ни слова. Он смотрел, не моргая, в глаза императору. Говорили, будто в гневе у Николая в левом глазу загорается «раскаленный гвоздь», и от этого зрелища можно сойти с ума. Сейчас ничего подобного не наблюдалось. Император не гневался на шута, а, напротив, смотрел на него с жалостью и даже, как показалось Иеффаю, с сочувствием.
– Шуты обыкновенно остры на язык, – с ухмылкой заметил граф Толстой, – но этот оказался немым.
Тем временем Цейца уже обступили с двух сторон жандармы. Однако император сделал знак, чтобы они удалились, и сам обратился к карлику, желая его подбодрить:
– Говори же, не бойся! Шут не должен бояться царя.
От этих слов, произнесенных спокойно, участливо, у Иеффая подкосились ноги. Он упал на колени и зарыдал от бессилия. Слова упрека, которые карлик готовил, чтобы бросить их императору, высыпались у него из памяти, словно мелкие монеты из дырявого кармана. Язык одеревенел так, что стал совсем неподвижен. Сквозь застилавший глаза кровавый туман Иеффай успел еще увидеть, как ладонь Николая потянулась к треуголке. Император отдал ему честь! В тот же миг чьи-то сильные руки подхватили Иеффая под мышки и, словно тряпичную куклу, понесли куда-то в сторону от мостовой.
Шествие, всего спустя миг, продолжилось.
В подворотне, темной и сырой, карлика опустили наземь. Цейц даже не взглянул на своего спасителя или похитителя – он никак не мог успокоиться. Его душили истеричные рыдания, слезы лились ручьем. Размазывая их по густо положенному гриму, он превращал лицо в смешную и страшную маску.
– Ну, будет тебе! – раздался над ним хриплый незнакомый голос. – Чего тебя понесло-то к царю? Будто не знаешь, как он вас, жидков, «любит».
Иеффай часто заморгал, поднял голову – и онемел. Над ним склонялся Геракл.
– Ну, что молчишь? Язык откусил? А раньше трещал будь здоров! Не остановишь… – усмехнулся напарник.
– Я откусил, а ты, видно, подобрал, да и пришил его себе! – волшебным образом обрел дар речи Цейц. – Какого лешего ты столько времени молчал?! Поговорить было бы с кем!
– Молчал я ровно три года, – вздохнул Геракл, – такова была епитимья, наложенная на меня священником… – Он сделал паузу, а потом, махнув рукой, произнес: – Впрочем, тебе этого не понять, ты еврей.
– Что ты заладил – то «жидок», то «еврей»! Забыл, как меня зовут? – возмутился Иеффай.
– Все едино, – хрипло пробасил верзила, – Иеффай, Мордехай или Шмулька какой… Ваше племя распяло Христа и должно вечно страдать за это! Думаешь, я не понимаю, почему ты полез к государю-императору? Ведь ты рассказывал мне о своем младшем брате, который повесился, не пережив крещения. Хотел царю бросить в лицо свою обиду? Д-дурак! Терпи, коль веруешь! Уповай на Бога! У меня, может быть, не меньше твоего накопилось в душе… Однако же я терплю…
– Ей-богу, лучше бы ты продолжал молчать! – воскликнул в сердцах Иеффай. Он был нешуточным образом оскорблен словами напарника.
Цейц решил закончить всякое общение с Гераклом, который, обретя дар речи, одновременно утратил всякую приятность общения. Карлик понятия не имел, как справится в одиночку и прокормит ли его скрипка без дополнительного номера, но собирался скорее вернуться домой. Там, в тишине и покое, он помолится и, Бог даст, что-то сообразит… Сделав несколько шагов и обернувшись, он увидел, что верзила следует за ним.
«Как собака, – подумал Иеффай, – большая, глупая собака… Куда же ему еще идти, как не за мной следом?»
Нахмурившись, Иеффай отвернулся и зашагал дальше. Он совсем не был расположен прощать преобразившегося Геракла. Силач был совсем не похож на того человека, с которым он несколько месяцев кряду делил комнатку на чердаке, на безмолвного, со всем согласного верзилу. У этого нового Геракла был довольно злой язык, да еще хорошо подвешенный, каковым достоинством обычно не блещут цирковые силачи.
Мясницкая обезлюдела. Кажется, весь город устремился в одну сторону – вслед за императорским шествием. Даже самые бойко торговавшие магазины и лавки оказались закрыты.
– Да погоди, не семени, не убежишь все равно! – услышал Иеффай у себя за спиной спокойный голос Геракла. – Ты, я смотрю, обиделся, а я-то вовсе не собирался тебя обижать. Отвык говорить, ну и ляпнул! Ты меня прости, коль задел за живое. Ну?
Напарник поравнялся с ним, сделав один широкий шаг, и, протянув руку, вопросительно произнес:
– Мир?
Подумав немного, Цейц все-таки вложил свою крохотную лапку в огромную ладонь верзилы. Он не умел долго на кого-то злиться и таить обиду.
– Ну, если объявился, то ступай-ка скорее, забери свои гири у Самуила, – снова, как прежде, начал командовать он. – А если этот кровопивец Шмулька, распявший твоего Христа, заикнется о деньгах, покажи ему кулак… И напомни, что три дня еще не прошло! А то он тебя околпачит…
– Да ты не бойся! – радостно откликнулся прощенный Геракл. – У меня не вывернется!
Он прибавил шаг, сворачивая в сторону Хитрова рынка. А Цейц, глядя ему вслед, вдруг осознал, что до сих пор не знает настоящего имени Геракла.
– Погоди! – окликнул он верзилу. – Как мне теперь тебя звать-то? По-старому, по-цирковому, или ты мне имя скажешь по такому радостному случаю, что ты больше не немой.
– Велика радость, – усмехнулся Геракл, – тоже мне, праздник какой! Если хочешь, кличь и дальше Гераклом, я привык. Ну, а не желаешь – так Афанасием зови!
Махнув на прощание, он исчез в кривом узком переулке, направившись в недра Хитровки разыскивать «кровопивца Шмульку», мечтавшего присвоить кормившие циркачей гири.
* * *
Наш старый знакомый, спаситель и благодетель Елены, Афанасий Огарков провел на каторге в общей сложности пятнадцать лет. В юности его осудили за раскольничество, и он отбыл свой первый срок в горных заводах Пермского края. Каторга, являвшая собой ад на земле и особенно под землей, не сломила его, но озлобила, сделала замкнутым и недоверчивым. По освобождении он связался с лесными братьями-разбойниками, но вскоре был пойман в Москве, заключен в кандалы и ждал нового этапа. Однако случилось невероятное. К городу подошла французская армия, и московский генерал-губернатор граф Ростопчин распорядился выпустить из тюрем всех заключенных с условием, что они подожгут город. Для этих целей еще за несколько недель до сдачи Москвы в поместье князя Репнина, расположенном в шести верстах от города, был выстроен специальный арсенал для изготовления всякого рода фейерверков, ракет и других взрывных приспособлений. «Огненные снаряды» были выданы колодникам в огромном количестве. Граф Ростопчин отдал приказ главному полицмейстеру Ивашкину по возможности вооружить поджигателей, разбить их на группы и приставить к каждой группе двух-трех переодетых полицейских. Выдать колодникам огнестрельное оружие Ивашкин побоялся и, в конце концов, после долгих колебаний снабдил преступников пиками. И генерал-губернатор, и главный полицмейстер не могли не понимать, что оружие это будет в первую очередь направлено не против французов, а против простых горожан, по тем или иным причинам оставшихся в своих домах. Но настолько велико было желание поджечь Москву, чтобы обескровить врага, лишить его продовольствия и заставить сидеть в сожженном городе, что на подобные мелочи никто не обращал внимания.
В первые часы по оставлении русской армией Москвы колодники, почувствовав свободу и полную безнаказанность, как стая диких зверей, бросились грабить богатые дома, поднимая на пики дворовых людей, насилуя женщин, если таковые попадались им на пути. Переодетые в штатское полицейские не препятствовали разбою. Но были среди поджигателей и настоящие патриоты, свято верившие в то, что пожар Москвы остановит наполеоновские орды. Они не марали свои руки грабежом и насилием. То были студенты Московского университета, семинаристы, казаки, раненые солдаты, простые горожане. «Они смотрели на это дело как на заслугу перед Богом», – писал о них впоследствии аббат Сюрюг. «Наполеон не хотел сначала верить, что можно было прибегнуть к такой крайней мере, – вспоминал далее французский священник, – но многочисленные поджигатели, захваченные со взрывчатыми веществами, подтверждали достоверность слуха, и многие из них были приговорены к расстрелу». И конечно, самым усердным помощником поджигателей стал сильный, с каждым часом усиливавшийся ветер.
Афанасию тогда не досталось пики. Он нес огромный мешок с «огненными снарядами». Раскольник, каторжник, лесной разбойник, Афанасий никогда раньше не задумывался над тем, патриот он или нет, любит ли свою Отчизну? В эти роковые для народа и государства минуты Огарков испытывал лишь привычную ненависть к сильным мира сего: к аристократам, к богатеям, а также к несправедливости всего мироустройства, где одни так легко отправляют на каторгу других только за то, что те бедны, беззащитны и молятся иначе, чем велит придуманный богатыми закон. Он с огромным наслаждением поджигал особняки и дворцы, им овладела безумная страсть к разрушению. Товарищи ругательски ругали его за то, что он слишком торопится и не дает им как следует пограбить.
Правда, в одном дворце он и сам задержался надолго, завороженный его роскошью, бесконечной анфиладой раззолоченных комнат и залов. «Зачем одному человеку столько всего понадобилось? – недоуменно спрашивал себя Афанасий, невольно начиная ступать на цыпочках. – Али семья у него большая?» Он обнаружил незапертой дверь в кабинет хозяина дворца. Здесь на стене висел темный персидский ковер, украшенный саблями, кинжалами в серебряных оправах и роскошным старинным ружьем. Камин, облицованный яшмой кроваво-красного цвета, уральской яшмой, так хорошо знакомой Афанасию по каторжным каменоломням, был полон еще теплого пепла. Взломав письменный стол, Огарков обнаружил в ящике два инкрустированных перламутром футляра. В одном лежали дуэльные пистолеты, в другом – весь приклад к ним, включая пули и пыжи.
Другие электронные книги автора Анатолий Ковалев
Посланница судьбы




 4.67
4.67