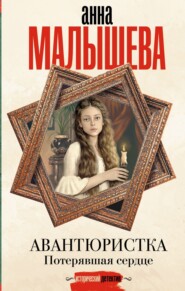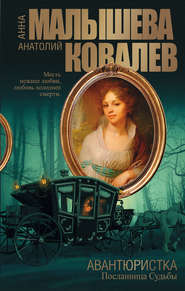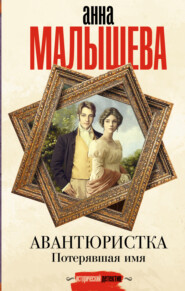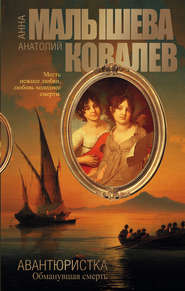По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Обманувшая смерть
Автор
Серия
Год написания книги
2015
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Закроем торговлю фруктами, так и быть, – поддержал еще кто-то. Остальные продолжали хранить безмолвие.
Чтобы разрядить обстановку, император спросил у городского главы:
– Много больных в вашем сословии?
– Самая малость, Ваше Величество, – ответил тот, – зараза эта более заключается в простом народе.
– Я хотел приехать сюда с императрицею на выставку русских изделий и погостить у вас, в Москве, – признался государь, – но смутные сии обстоятельства помешали нам исполнить желание наше.
Стоявший рядом с городским главой советник коммерции Титов, организатор выставки, тотчас вступил в разговор:
– Ваше Величество, выставка будет отсрочена по причине нынешних обстоятельств, – и с льстивой улыбкой на лице добавил: – Москва надеется не лишиться счастия иметь в стенах своих царскую фамилию.
– Увидим! – вдруг резко произнес император. – Может, Бог это и устроит!
После этих слов он взял из рук городского главы поднос с хлебом и солью и быстрым, военным шагом удалился в свои покои.
Много было желающих из дворянского сословия засвидетельствовать свое почтение государю-императору, но Николай приказал никого к нему не допускать, кроме князя Голицына.
Уже поздно вечером, почти ночью, в наместническом доме собрали начальников специально созданных временных больниц и отделений для холерных больных. По просьбе Арендта император держался от них на некотором расстоянии. Похвалив докторов за труды и усердие, Николай строго-настрого приказал им прекратить кровопускания у холерных, ведущие к гибели людей. А также просил не делать сословного различия между больными, и относиться к самым беднейшим жителям Москвы с уважением, и окружать их такими же заботами, как и остальных. В конце добавил, что в ближайшие дни сам намерен посетить несколько больниц.
Несмотря на то что император отошел ко сну непривычно поздно и день выдался невероятно насыщенным, встал он, по обыкновению, в шесть утра. Спал на своей раскладной походной кровати, которая в Зимнем дворце стояла у него прямо в кабинете. Сделав зарядку с карабином, который везде с ним путешествовал, император приказал подать чай и принялся писать письма. Лакей доложил, что ночью прибыл Бенкендорф и что Александр Христофорович уже изволили проснуться и просят его принять. По утрам друзья часто чаевничали вместе, обсуждая насущные политические вопросы. Это стало уже почти привычкой. Николай Павлович не преминул воспользоваться появлением старого приятеля.
Черные круги под глазами шефа жандармов свидетельствовали о том, что он не ложился спать этой ночью.
– Когда прибыл? – поинтересовался император.
– Два часа назад, Никс, – признался Бенкендорф, – торопился изо всех сил.
– И снова, конечно же, ехал верхом, – с упреком констатировал Николай, – хотя в карете мог бы поспать.
По старой юношеской привычке, когда Александр Христофорович еще служил курьером у императора Павла, он всему предпочитал верховую езду с заменой коней на каждой станции. Бенкендорф считал этот способ передвижения самым быстрым и надежным.
– И возраст, и солидное положение твое предполагают… – начал было читать ему нотацию император, но вдруг остановился и, пристально посмотрев на старого друга, у которого большая часть головы уже давно была лишена волос, а в рыжеватых бакенбардах все явственнее выступала седина, махнул рукой: – Впрочем, тебя уже поздно переделывать, Алекс. Тевтонский дух в тебе неистребим!
– Для остзейского немца, родившегося в России, весьма лестно, что его попрекают тевтонским духом, – усмехнулся Бенкендорф.
Потом заговорили о делах. Николай живо описал весь вчерашний день, особо заострив внимание начальника Третьего отделения на встрече с московским купечеством.
– Не могу сказать, что сие собрание пришло в восторг от моей просьбы прекратить торговлю овощами и фруктами. За всех отвечал городской глава, остальные угрюмо молчали.
– Купцы теряют большую прибыль, – заметил Александр Христофорович, – любое вознаграждение только отчасти компенсирует им убытки. Думаю, на окраинах города, среди бедноты, они все-таки продолжат торговать.
– Мы не должны этого допустить! – твердо заявил император. – Возьмешь торговлю фруктами под свою ответственность!
Затем говорили об оцеплении города, о создании карантинов на Петербургской дороге, об обязательной дезинфекции, то бишь окуривании всех выезжающих из города, и о многом другом, связанном с теперешней ситуацией.
Неожиданно среди утренней тишины за дверью раздался глухой удар, будто на пол уронили огромный куль с мукой. Бенкендорф вскочил и бросился к двери. Он хотел было ее резко открыть, но что-то помешало ему это сделать. Приоткрыв ее все же на несколько дюймов, Бенкендорф разглядел лежащего ничком человека.
– Упал лакей, который только что подавал нам чай, – сообщил он императору. – По всей видимости, лишился чувств. Поэтому дверь не поддается.
– Давай вместе попробуем! – предложил Николай.
Они вдвоем налегли на массивную дубовую дверь и сумели расширить щель настолько, чтобы можно было через нее протиснуться. Оказавшись в тесной лакейской, они бросились было поднимать беднягу, но Бенкендорф, опомнившись и отстранив императора, благоразумно сказал:
– Не будем делать глупости, Никс! Отойди в сторону!
Начальник Третьего отделения перевернул слугу на спину. Тот тяжело дышал, лицо было бледно, на лбу выступила испарина.
– Я позову Арендта! – вспомнил о своем личном докторе император.
Тот в сопровождении слуг, сообщивших ему о случившемся, уже спешил по анфиладе комнат в государевы покои.
– Не подходите к больному, Ваше Величество! – крикнул он еще издалека. – Это может быть заразно!
Лакея перенесли в другую комнату, вызвали Маркуса, Гааза и Гильдебрандта-старшего, но еще до их приезда, не приходя в сознание, несчастный скончался. Прибывшие доктора, осмотрев покойника, пришли к выводу, что у того случилась быстротечная холера морбус.
Личный врач императора Арендт тотчас распорядился: перед тем как войти в государевы покои, всякий, невзирая на звание и чин, обязан умыть водой с хлором руки и лицо и оным же раствором полоскать рот.
Узнав о случившемся, в Архиерейский дом прибыл губернатор Голицын и настоятельно просил государя покинуть Москву. Николай Павлович был непреклонен и даже выказал желание проехаться сегодня верхом, а также посетить больных в лечебницах. При этом он настоятельно просил губернатора и членов свиты, в особенности докторов, не сообщать о предпринятых им действиях государыне-императрице, помня о ее деликатном положении.
Странное шествие двигалось в этот день по улицам Москвы. Шеф жандармов Бенкендорф шел впереди процессии, держа за уздцы коня, на котором восседал император. Граф Толстой и генерал-адъютант Храповицкий расположились по обе стороны, у ног его величества. Флигель-адъютанты Кокошкин и Апраксин шагали сзади. Замыкал свиту генерал-адъютант Адлерберг. Он вел запасного коня. Толпа неотступно следовала за государем, заполняя собой все пространство улицы. Встречного движения практически не наблюдалось. Люди при виде императора вставали на колени, крестились и вливались в общий поток. Так в городах Европы во время чумы носили статуи особо почитаемых святых, которые должны были уберечь людей от ужасной смерти. Николай Павлович, ровно и неподвижно державшийся в седле, с лицом, чьи четкие черты были словно отлиты из серебра, действительно, походил в этот миг на статую, и люд московский верил, что, подобно святому чудотворцу, царь избавит город от страшной болезни.
* * *
Иеффай Цейц привык к тому, что его напарник целыми днями молчал. Три месяца назад на Нижегородской ярмарке, где он впервые встретил Геракла, знакомые циркачи предупредили его, что атлет немой, но не глухой. «А что с ним такое?» – удивился тогда Иеффай. «Язык себе откусил, да и проглотил с голодухи, когда брюхо подвело!» – ответили ему с обычным в цирковой среде юмором, в страшном ищущем смешное.
Иеффай очень скоро убедился, что язык у напарника, открывавшего рот лишь во время еды, цел и невредим. «Наверное, Геракл совершил какой-нибудь проступок и дал обет молчания, – строил догадки карлик, – монахи ведь так поступают! А он похож на беглого монаха!» Иеффай подметил, что Геракл носит на груди крест и иконку и каждый вечер перед сном безмолвно шевелит губами, молится.
Вчера, после того как напарник неожиданно сбежал от Иеффая, оставив его одного мокнуть под дождем со скрипкой в руках, Цейц не знал что и думать об этом человеке. За три прожитых вместе месяца он так и не понял, что представляет собой Геракл. Неизвестно было даже его настоящее имя. Очень трудно, почти невозможно составить представление о человеке, когда тот постоянно молчит.
Ящик с гирями, который ему было не под силу перенести в чердачную каморку, Иеффай оставил на хранение в одной из лавок Хитрова рынка, у знакомого еврея. Тот оказался настолько любезен, что не взял с него ни копейки. Правда, поставил условие: если напарник через три дня не объявится, гири он заберет себе. «Разбогатеть решил на наших гирях! – ворчал про себя Цейц. – Продаст их за рубль какому-нибудь сумасшедшему и будет считать это выгодной сделкой. Дуралей!» Ему казалось парадоксом, что за груду металла можно получить всего лишь железный рубль, тем более что гири в руках силача приносили маленькой труппе намного больше денег. Однако даже если бы Геракл никуда не исчез, их представления на Хитровом рынке рано или поздно оказались бы под запретом, потому что полиция не разрешала во время эпидемии скапливаться толпе.
Иеффай изрядно заработал игрой на скрипке в тот непогожий день, но настроение у него было прескверное. Он не знал, что ему делать дальше в этом зараженном холерой городе. «Надо сматывать удочки, – говорил он себе, – пока еще можно выбраться отсюда. Бежать на Запад: в Польшу, в Германию!» На душе становилось тяжело от подобных мыслей. Не любил он эти страны! Во-первых, большая конкуренция, а во-вторых, поляки и немцы не так щедры, как русские. Но холера пугала. Ходили зловещие слухи, что Москву со дня на день закроют, поэтому промедление могло стоить жизни. И все-таки Иеффай решил подождать Геракла. Поиск нового напарника мог затянуться, да и где искать этого напарника?
Всю ночь мрачные мысли не давали ему покоя. Он вспоминал чумную Одессу в тринадцатом году, где цирковая труппа его дядюшки Якова застряла надолго. Многие тогда умерли, бродячий цирк лилипутов сократился почти на две трети. Это была настоящая катастрофа, после которой они так и не смогли оправиться. Иеффай молился весь вечер за тех, кто умер в Одессе, и за дядюшку Якова, который тогда чудом выжил, но недолго прожил. Он молился искренне, проливая слезы по старым цирковым друзьям. Так в слезах и уснул.
Утром его разбудили крики мальчишек: «Царь на лошади едет!», «Айда царя смотреть!» Иеффаю вдруг тоже захотелось взглянуть на того, кого евреи уже успели прозвать «русским Асмодеем». Всего лишь за три с половиной года правления Николая Павловича было издано несколько законов, ущемляющих права представителей иудейского вероисповедания. И, конечно, самый ужасный, обернувшийся многими трагедиями, указ о натуральной воинской повинности для евреев от двадцать шестого августа тысяча восемьсот двадцать седьмого года. Казалось бы, что здесь плохого? У императора были благие намерения обучить еврейский народ военной науке, воспитать из древнего племени настоящих воинов-богатырей. На самом деле под благими намерениями вырисовывалась совсем другая, более приземленная цель – ассимиляция евреев. Квота призыва для иудеев составляла десять человек с одной тысячи ежегодно. Для христиан – семь человек с тысячи через год. Кроме того, еврейские общины обязаны были расплачиваться «штрафным» количеством рекрутов за податные недоимки, за членовредительство или за побег призывника (два рекрута за одного). Причем разрешено было пополнять требуемое количество призывников детьми от двенадцати лет, которых определяли в школы кантонистов. Кагалам проще всего было расплачиваться именно детьми, прежде всего сиротами, отобранными у вдов. Зачастую отдавались в кантонисты мальчики семи – девяти лет, ложно признанные свидетелями двенадцатилетними. Власти на это закрывали глаза. Годы учебы не засчитывались в срок воинской службы, она начиналась с восемнадцати лет и продолжалась четверть века. В школах для кантонистов еврейских мальчиков прежде всего обращали в православную веру и давали им русские имена. Непокорных детей морили голодом, подвергали пыткам.
Такая участь постигла младшего брата Иеффая – Гедалью, который рос обычным мальчуганом, не карликом. Его отобрали у матери-вдовы в возрасте девяти лет. Двенадцать свидетелей из общины, несмотря на причитания матери и сестер, подтвердили, что Гедалье уже исполнилось двенадцать. Брата отправили в Николаев, но вскоре пришло известие, что он повесился после того, как его насильно крестили. «На горе ты нас перевез из Бессарабии в Одессу!» – упрекала Иеффая в письме мать. (Дело в том, что указ царя не распространялся на Бессарабскую область.) «И община здесь – хуже некуда! Звери, а не люди. У некоторых вдов отбирают единственных кормильцев, несмотря на то, что закон запрещает это делать, и отдают в кантонисты!»
Гедалью не разрешили хоронить на еврейском кладбище, потому что он был крещеным, а русский поп не стал бы даже слушать о самоубийце-выкресте. Пришлось хоронить Гедалью за кладбищенской оградой, рядом с безбожниками.
Иеффай вдруг вспомнил, как в тринадцатом году, после того как чума в Одессе унесла жизни многих цирковых артистов, сократив их труппу на две трети, он впал в глубокое уныние. Не мог ни есть, ни спать, а уж о цирковых выступлениях и речи быть не могло. Он целыми днями только и делал, что молча раскачивался из стороны в сторону, уставившись в одну точку. Циркачи решили, что Цейц так может сойти с ума, и всячески пытались его отвлечь от горестных мыслей, но у них ничего не получалось. Тогда кто-то посоветовал отвезти Иеффая в Люблин, к знаменитому цадику Якову Ицхаку, прозванному в народе Ясновидцем. К тому же цадик этот еще был известен и тем, что сам часто подвергался приступам меланхолии. Уж он точно найдет выход!
Так и сделали. Погрузили Цейца в цирковую кибитку и повезли в Люблин. Они тогда как раз гастролировали в Польше, и дорога заняла немного времени. Однако попасть к Ясновидцу оказалось непросто. Хасиды со всей Польши и Украины стекались в Люблин не только за мудрыми советами и предсказаниями. О Якове Ицхаке говорили: «Когда к нему приходит хасид в первый раз, он вынимает из него душу, очищает ее от всякой ржавчины и всякого налета и возвращает обратно такой, какой она была в час рождения!» Трое суток простояли циркачи в очереди и уже совсем отчаялись, потому что не было конца людскому потоку, да и цадик принимал далеко не всех. Время от времени во двор выходил его слуга, молодой красивый парень, больше похожий на приказчика в торговой лавке, чем на правоверного хасида. Он всякий раз указывал пальцем на того, кого примет Ясновидец. Некоторые пытались подкупить слугу, но тот не брал ни копейки, повторяя одну и ту же заученную фразу: «Рабби ненавидит деньги и просит их ему не предлагать!» Каким образом выбирались люди из очереди, для всех оставалось загадкой.
Наконец на четвертый день, на рассвете, когда циркачи еще спали в кибитке, а Цейц, не знавший сна уже много ночей, раскачивался из стороны в сторону, кто-то резко откинул полог, так что Иеффай даже вздрогнул и замер, а все остальные разом проснулись. Они увидели слугу Ясновидца. Он указал на Иеффая и произнес, четко выделяя каждое слово: «Рабби ждет тебя прямо сейчас!»
Чтобы разрядить обстановку, император спросил у городского главы:
– Много больных в вашем сословии?
– Самая малость, Ваше Величество, – ответил тот, – зараза эта более заключается в простом народе.
– Я хотел приехать сюда с императрицею на выставку русских изделий и погостить у вас, в Москве, – признался государь, – но смутные сии обстоятельства помешали нам исполнить желание наше.
Стоявший рядом с городским главой советник коммерции Титов, организатор выставки, тотчас вступил в разговор:
– Ваше Величество, выставка будет отсрочена по причине нынешних обстоятельств, – и с льстивой улыбкой на лице добавил: – Москва надеется не лишиться счастия иметь в стенах своих царскую фамилию.
– Увидим! – вдруг резко произнес император. – Может, Бог это и устроит!
После этих слов он взял из рук городского главы поднос с хлебом и солью и быстрым, военным шагом удалился в свои покои.
Много было желающих из дворянского сословия засвидетельствовать свое почтение государю-императору, но Николай приказал никого к нему не допускать, кроме князя Голицына.
Уже поздно вечером, почти ночью, в наместническом доме собрали начальников специально созданных временных больниц и отделений для холерных больных. По просьбе Арендта император держался от них на некотором расстоянии. Похвалив докторов за труды и усердие, Николай строго-настрого приказал им прекратить кровопускания у холерных, ведущие к гибели людей. А также просил не делать сословного различия между больными, и относиться к самым беднейшим жителям Москвы с уважением, и окружать их такими же заботами, как и остальных. В конце добавил, что в ближайшие дни сам намерен посетить несколько больниц.
Несмотря на то что император отошел ко сну непривычно поздно и день выдался невероятно насыщенным, встал он, по обыкновению, в шесть утра. Спал на своей раскладной походной кровати, которая в Зимнем дворце стояла у него прямо в кабинете. Сделав зарядку с карабином, который везде с ним путешествовал, император приказал подать чай и принялся писать письма. Лакей доложил, что ночью прибыл Бенкендорф и что Александр Христофорович уже изволили проснуться и просят его принять. По утрам друзья часто чаевничали вместе, обсуждая насущные политические вопросы. Это стало уже почти привычкой. Николай Павлович не преминул воспользоваться появлением старого приятеля.
Черные круги под глазами шефа жандармов свидетельствовали о том, что он не ложился спать этой ночью.
– Когда прибыл? – поинтересовался император.
– Два часа назад, Никс, – признался Бенкендорф, – торопился изо всех сил.
– И снова, конечно же, ехал верхом, – с упреком констатировал Николай, – хотя в карете мог бы поспать.
По старой юношеской привычке, когда Александр Христофорович еще служил курьером у императора Павла, он всему предпочитал верховую езду с заменой коней на каждой станции. Бенкендорф считал этот способ передвижения самым быстрым и надежным.
– И возраст, и солидное положение твое предполагают… – начал было читать ему нотацию император, но вдруг остановился и, пристально посмотрев на старого друга, у которого большая часть головы уже давно была лишена волос, а в рыжеватых бакенбардах все явственнее выступала седина, махнул рукой: – Впрочем, тебя уже поздно переделывать, Алекс. Тевтонский дух в тебе неистребим!
– Для остзейского немца, родившегося в России, весьма лестно, что его попрекают тевтонским духом, – усмехнулся Бенкендорф.
Потом заговорили о делах. Николай живо описал весь вчерашний день, особо заострив внимание начальника Третьего отделения на встрече с московским купечеством.
– Не могу сказать, что сие собрание пришло в восторг от моей просьбы прекратить торговлю овощами и фруктами. За всех отвечал городской глава, остальные угрюмо молчали.
– Купцы теряют большую прибыль, – заметил Александр Христофорович, – любое вознаграждение только отчасти компенсирует им убытки. Думаю, на окраинах города, среди бедноты, они все-таки продолжат торговать.
– Мы не должны этого допустить! – твердо заявил император. – Возьмешь торговлю фруктами под свою ответственность!
Затем говорили об оцеплении города, о создании карантинов на Петербургской дороге, об обязательной дезинфекции, то бишь окуривании всех выезжающих из города, и о многом другом, связанном с теперешней ситуацией.
Неожиданно среди утренней тишины за дверью раздался глухой удар, будто на пол уронили огромный куль с мукой. Бенкендорф вскочил и бросился к двери. Он хотел было ее резко открыть, но что-то помешало ему это сделать. Приоткрыв ее все же на несколько дюймов, Бенкендорф разглядел лежащего ничком человека.
– Упал лакей, который только что подавал нам чай, – сообщил он императору. – По всей видимости, лишился чувств. Поэтому дверь не поддается.
– Давай вместе попробуем! – предложил Николай.
Они вдвоем налегли на массивную дубовую дверь и сумели расширить щель настолько, чтобы можно было через нее протиснуться. Оказавшись в тесной лакейской, они бросились было поднимать беднягу, но Бенкендорф, опомнившись и отстранив императора, благоразумно сказал:
– Не будем делать глупости, Никс! Отойди в сторону!
Начальник Третьего отделения перевернул слугу на спину. Тот тяжело дышал, лицо было бледно, на лбу выступила испарина.
– Я позову Арендта! – вспомнил о своем личном докторе император.
Тот в сопровождении слуг, сообщивших ему о случившемся, уже спешил по анфиладе комнат в государевы покои.
– Не подходите к больному, Ваше Величество! – крикнул он еще издалека. – Это может быть заразно!
Лакея перенесли в другую комнату, вызвали Маркуса, Гааза и Гильдебрандта-старшего, но еще до их приезда, не приходя в сознание, несчастный скончался. Прибывшие доктора, осмотрев покойника, пришли к выводу, что у того случилась быстротечная холера морбус.
Личный врач императора Арендт тотчас распорядился: перед тем как войти в государевы покои, всякий, невзирая на звание и чин, обязан умыть водой с хлором руки и лицо и оным же раствором полоскать рот.
Узнав о случившемся, в Архиерейский дом прибыл губернатор Голицын и настоятельно просил государя покинуть Москву. Николай Павлович был непреклонен и даже выказал желание проехаться сегодня верхом, а также посетить больных в лечебницах. При этом он настоятельно просил губернатора и членов свиты, в особенности докторов, не сообщать о предпринятых им действиях государыне-императрице, помня о ее деликатном положении.
Странное шествие двигалось в этот день по улицам Москвы. Шеф жандармов Бенкендорф шел впереди процессии, держа за уздцы коня, на котором восседал император. Граф Толстой и генерал-адъютант Храповицкий расположились по обе стороны, у ног его величества. Флигель-адъютанты Кокошкин и Апраксин шагали сзади. Замыкал свиту генерал-адъютант Адлерберг. Он вел запасного коня. Толпа неотступно следовала за государем, заполняя собой все пространство улицы. Встречного движения практически не наблюдалось. Люди при виде императора вставали на колени, крестились и вливались в общий поток. Так в городах Европы во время чумы носили статуи особо почитаемых святых, которые должны были уберечь людей от ужасной смерти. Николай Павлович, ровно и неподвижно державшийся в седле, с лицом, чьи четкие черты были словно отлиты из серебра, действительно, походил в этот миг на статую, и люд московский верил, что, подобно святому чудотворцу, царь избавит город от страшной болезни.
* * *
Иеффай Цейц привык к тому, что его напарник целыми днями молчал. Три месяца назад на Нижегородской ярмарке, где он впервые встретил Геракла, знакомые циркачи предупредили его, что атлет немой, но не глухой. «А что с ним такое?» – удивился тогда Иеффай. «Язык себе откусил, да и проглотил с голодухи, когда брюхо подвело!» – ответили ему с обычным в цирковой среде юмором, в страшном ищущем смешное.
Иеффай очень скоро убедился, что язык у напарника, открывавшего рот лишь во время еды, цел и невредим. «Наверное, Геракл совершил какой-нибудь проступок и дал обет молчания, – строил догадки карлик, – монахи ведь так поступают! А он похож на беглого монаха!» Иеффай подметил, что Геракл носит на груди крест и иконку и каждый вечер перед сном безмолвно шевелит губами, молится.
Вчера, после того как напарник неожиданно сбежал от Иеффая, оставив его одного мокнуть под дождем со скрипкой в руках, Цейц не знал что и думать об этом человеке. За три прожитых вместе месяца он так и не понял, что представляет собой Геракл. Неизвестно было даже его настоящее имя. Очень трудно, почти невозможно составить представление о человеке, когда тот постоянно молчит.
Ящик с гирями, который ему было не под силу перенести в чердачную каморку, Иеффай оставил на хранение в одной из лавок Хитрова рынка, у знакомого еврея. Тот оказался настолько любезен, что не взял с него ни копейки. Правда, поставил условие: если напарник через три дня не объявится, гири он заберет себе. «Разбогатеть решил на наших гирях! – ворчал про себя Цейц. – Продаст их за рубль какому-нибудь сумасшедшему и будет считать это выгодной сделкой. Дуралей!» Ему казалось парадоксом, что за груду металла можно получить всего лишь железный рубль, тем более что гири в руках силача приносили маленькой труппе намного больше денег. Однако даже если бы Геракл никуда не исчез, их представления на Хитровом рынке рано или поздно оказались бы под запретом, потому что полиция не разрешала во время эпидемии скапливаться толпе.
Иеффай изрядно заработал игрой на скрипке в тот непогожий день, но настроение у него было прескверное. Он не знал, что ему делать дальше в этом зараженном холерой городе. «Надо сматывать удочки, – говорил он себе, – пока еще можно выбраться отсюда. Бежать на Запад: в Польшу, в Германию!» На душе становилось тяжело от подобных мыслей. Не любил он эти страны! Во-первых, большая конкуренция, а во-вторых, поляки и немцы не так щедры, как русские. Но холера пугала. Ходили зловещие слухи, что Москву со дня на день закроют, поэтому промедление могло стоить жизни. И все-таки Иеффай решил подождать Геракла. Поиск нового напарника мог затянуться, да и где искать этого напарника?
Всю ночь мрачные мысли не давали ему покоя. Он вспоминал чумную Одессу в тринадцатом году, где цирковая труппа его дядюшки Якова застряла надолго. Многие тогда умерли, бродячий цирк лилипутов сократился почти на две трети. Это была настоящая катастрофа, после которой они так и не смогли оправиться. Иеффай молился весь вечер за тех, кто умер в Одессе, и за дядюшку Якова, который тогда чудом выжил, но недолго прожил. Он молился искренне, проливая слезы по старым цирковым друзьям. Так в слезах и уснул.
Утром его разбудили крики мальчишек: «Царь на лошади едет!», «Айда царя смотреть!» Иеффаю вдруг тоже захотелось взглянуть на того, кого евреи уже успели прозвать «русским Асмодеем». Всего лишь за три с половиной года правления Николая Павловича было издано несколько законов, ущемляющих права представителей иудейского вероисповедания. И, конечно, самый ужасный, обернувшийся многими трагедиями, указ о натуральной воинской повинности для евреев от двадцать шестого августа тысяча восемьсот двадцать седьмого года. Казалось бы, что здесь плохого? У императора были благие намерения обучить еврейский народ военной науке, воспитать из древнего племени настоящих воинов-богатырей. На самом деле под благими намерениями вырисовывалась совсем другая, более приземленная цель – ассимиляция евреев. Квота призыва для иудеев составляла десять человек с одной тысячи ежегодно. Для христиан – семь человек с тысячи через год. Кроме того, еврейские общины обязаны были расплачиваться «штрафным» количеством рекрутов за податные недоимки, за членовредительство или за побег призывника (два рекрута за одного). Причем разрешено было пополнять требуемое количество призывников детьми от двенадцати лет, которых определяли в школы кантонистов. Кагалам проще всего было расплачиваться именно детьми, прежде всего сиротами, отобранными у вдов. Зачастую отдавались в кантонисты мальчики семи – девяти лет, ложно признанные свидетелями двенадцатилетними. Власти на это закрывали глаза. Годы учебы не засчитывались в срок воинской службы, она начиналась с восемнадцати лет и продолжалась четверть века. В школах для кантонистов еврейских мальчиков прежде всего обращали в православную веру и давали им русские имена. Непокорных детей морили голодом, подвергали пыткам.
Такая участь постигла младшего брата Иеффая – Гедалью, который рос обычным мальчуганом, не карликом. Его отобрали у матери-вдовы в возрасте девяти лет. Двенадцать свидетелей из общины, несмотря на причитания матери и сестер, подтвердили, что Гедалье уже исполнилось двенадцать. Брата отправили в Николаев, но вскоре пришло известие, что он повесился после того, как его насильно крестили. «На горе ты нас перевез из Бессарабии в Одессу!» – упрекала Иеффая в письме мать. (Дело в том, что указ царя не распространялся на Бессарабскую область.) «И община здесь – хуже некуда! Звери, а не люди. У некоторых вдов отбирают единственных кормильцев, несмотря на то, что закон запрещает это делать, и отдают в кантонисты!»
Гедалью не разрешили хоронить на еврейском кладбище, потому что он был крещеным, а русский поп не стал бы даже слушать о самоубийце-выкресте. Пришлось хоронить Гедалью за кладбищенской оградой, рядом с безбожниками.
Иеффай вдруг вспомнил, как в тринадцатом году, после того как чума в Одессе унесла жизни многих цирковых артистов, сократив их труппу на две трети, он впал в глубокое уныние. Не мог ни есть, ни спать, а уж о цирковых выступлениях и речи быть не могло. Он целыми днями только и делал, что молча раскачивался из стороны в сторону, уставившись в одну точку. Циркачи решили, что Цейц так может сойти с ума, и всячески пытались его отвлечь от горестных мыслей, но у них ничего не получалось. Тогда кто-то посоветовал отвезти Иеффая в Люблин, к знаменитому цадику Якову Ицхаку, прозванному в народе Ясновидцем. К тому же цадик этот еще был известен и тем, что сам часто подвергался приступам меланхолии. Уж он точно найдет выход!
Так и сделали. Погрузили Цейца в цирковую кибитку и повезли в Люблин. Они тогда как раз гастролировали в Польше, и дорога заняла немного времени. Однако попасть к Ясновидцу оказалось непросто. Хасиды со всей Польши и Украины стекались в Люблин не только за мудрыми советами и предсказаниями. О Якове Ицхаке говорили: «Когда к нему приходит хасид в первый раз, он вынимает из него душу, очищает ее от всякой ржавчины и всякого налета и возвращает обратно такой, какой она была в час рождения!» Трое суток простояли циркачи в очереди и уже совсем отчаялись, потому что не было конца людскому потоку, да и цадик принимал далеко не всех. Время от времени во двор выходил его слуга, молодой красивый парень, больше похожий на приказчика в торговой лавке, чем на правоверного хасида. Он всякий раз указывал пальцем на того, кого примет Ясновидец. Некоторые пытались подкупить слугу, но тот не брал ни копейки, повторяя одну и ту же заученную фразу: «Рабби ненавидит деньги и просит их ему не предлагать!» Каким образом выбирались люди из очереди, для всех оставалось загадкой.
Наконец на четвертый день, на рассвете, когда циркачи еще спали в кибитке, а Цейц, не знавший сна уже много ночей, раскачивался из стороны в сторону, кто-то резко откинул полог, так что Иеффай даже вздрогнул и замер, а все остальные разом проснулись. Они увидели слугу Ясновидца. Он указал на Иеффая и произнес, четко выделяя каждое слово: «Рабби ждет тебя прямо сейчас!»
Другие электронные книги автора Анатолий Ковалев
Посланница судьбы




 4.67
4.67