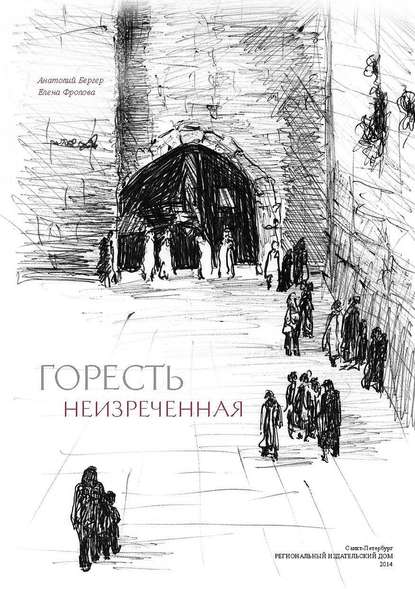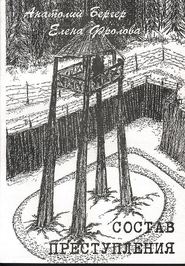По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Горесть неизреченная (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С вами не соскучишься.
А когда во время обыска пришёл Витя и тоже прореагировал на них с порога: «Ба, знакомые всё лица», я сказала:
– Ну вот, Витенька, у меня, наконец, есть время и место зашить тебе подкладку на плаще.
И устроившись с иголкой под взглядом удивлённых гэбистов, читала Вите стихи Семёна Гудзенко: «Нас не надо жалеть, ведь и мы б никого не жалели, мы пред нашей Россией, как пред Господом-Богом, чисты»…
Что в жизни начался совсем другой отсчёт времени – всё ещё внутренне не верилось…
* * *
Это может показаться странным, но сначала в Большой Дом мы рвались сами. Витя просто пошёл туда назавтра после обыска выяснять, что и по какому случаю у него искали, чем, естественно, вызвал в непривычном к такому учреждении переполох. Я звонила туда каждый день, спрашивала, что с мужем, просила принять, объяснить, в чём его обвиняют. Разумеется, никто и не думал нам ничего объяснять.
На первый допрос меня вызвали 18 апреля. В этот день у нас дома и был второй обыск, так что, вернувшись после одной приятной беседы, я как раз застала дома всю эту свору.
Но по порядку. Начну с утра восемнадцатого. В Большой Дом меня провожала Тамара Владимировна. Не утешала, ничего особенного не советовала. Мне запомнилось только: «нет слова «да», есть слово «нет». Помогло. Ни одного разговора за все допросы я не подтвердила. Это, конечно, ничего не решало. Но хоть на совести не лежит.
Прощаясь со мной, Тамара Владимировна протянула мне плитку шоколада. Я удивилась, но взяла.
Как она была права! Потом я каждый раз брала с собой шоколад. Когда уже невмоготу, когда от сидения в кабинете следователя и непрерывных вопросов дуреешь – кусок шоколада и снова какая-то бодрость. Но всё это я поняла позднее. А сейчас, расставшись с Тамарой Владимировной, я вошла в проходную ГБ.
Меня провели по коридорам и оставили в какой-то комнате ждать. Шло время. Было тихо. Только изредка раздавались чьи-то шаги. Неожиданно открылась дверь. Гэбист ввёл жену Толиного приятеля. Ввёл. Посмотрел на меня. Сказал: «Нет, не сюда». И вывел. А я осталась гадать: что бы это значило. С этой женщиной у нас были не слишком тёплые отношения – уж очень мы были разные. И вот, сидя в комнате ожидания, я пыталась разгадать, специально ли её ввели, чтобы дать понять: она здесь и может рассказать то, что бы ты хотела скрыть, или вышла обычная накладка. Так и не поняв, я в конце концов приказала себе не думать об этом, не создавать для себя добавочных проблем. В какой-то степени это удалось.
В этот раз допрашивал меня следователь по фамилии Степанов. Был он высокий, интересный, но какая-то стертость во всём – и в лице, и в том, как говорил. Как будто бы природа задумала создать нечто, а подлая работа прошлась своим всё нивелирующим катком.
Может, из-за этой стёртости я плохо помню именно этот допрос. Поразило меня, что Степанов пытался подобраться к разговорам, о которых могли знать три-четыре самых близких человека. Донос? Подслушивающее устройство?
Но и об этом я тоже запрещала себе тогда думать, не разрешала волноваться.
Только на слова Степанова: «подумайте о своей молодой жизни» откликнулась резко:
– Что это значит? Вы что, советуете мне развестись с мужем?
– Я этого не говорю.
– Ну а что Вы хотите сказать? Давайте, договаривайте.
Он смешался и как-то неумело выкручивался. Больше к подобным разговорам в этом доме не возвращались.
Второго следователя звали Василий Фёдорович. Фамилия в памяти не удержалась. Был он старше Степанова, простоват и хитроват. Но то ли к тому времени шок у меня миновал и шла какая-никакая, но всё же жизнь, то ли этот хитрый мужичок всё же был поопределённее, выразительней, как бы то ни было – второй допрос ясно видится мне и сегодня.
Длился он долго. Я уже интуитивно выбрала свою систему защиты. Разговоры не подтверждала. О стихах Толика говорила, что вызваны они протестом против культа личности Сталина. Когда Василий Фёдорович спросил, почему муж так часто пишет о 37-м годе, есть ли в этом личное, погиб ли кто из его родственников, не задумываясь, ответила:
– У него погиб Мандельштам, а у меня Мейерхольд.
Сложнее было с теми стихами, в которых протест против системы уже не нуждался для своего выражения в образе «усатого владыки». Тут я развивала мысль, что поэт не воспроизводит историю человечества, мира, страны – он проходит её вновь. И ошибки, если они бывают, – это закономерность такого пути. Недаром же «трещина мира проходит через сердце поэта».
Когда потом я рассказывала адвокату наш разговор со следователем, он усмехнулся:
– Это что – допрос или симпозиум литературоведов?
Впрочем, и у него и у меня для шуток тогда было мало поводов.
Василий Фёдорович уже не пытался настроить меня на разрыв с Толиком, его задача была обратить мой гнев на друзей, которые не были арестованы, чтобы на них собрать подходящий материал. Надо ли говорить, что вся эта игра мне была понятна с первой минуты.
– Вот этот сказал про Вашего мужа то-то, а Ваш муж про него – ну, хотите – я прочитаю.
– Не надо, Василий Фёдорович, Бог с ними, с этими мужчинами, мы, женщины, не так быстро меняем свои пристрастия.
Второй метод был запугивание. На столе на виду всё время стоял магнитофон. Надо сказать, он действовал на меня: я боялась, что там записаны наши разговоры. Но, даже опасаясь этого, я твёрдо решила говорить: «Монтаж, склейка» и по-прежнему не подтверждать ничего.
Магнитофон так и не был пущен в ход. Но зато по какому-то звонку сотрудник принёс солидную папку. Обращаясь к пришедшему, но явно стараясь произвести на меня впечатление объёмом собранного материала, следователь сказал:
– Вот эта та самая Елена Александровна.
Я притворно вздохнула:
– Сколько взрослых серьёзных людей занимаются моей скромной персоной.
Когда же я упорно обосновывала право поэта на собственную точку зрения и делала это при разговоре о самых злых и острых стихах, Василий Фёдорович решил разыграть приступ благородного негодования. Вскочив со стула, он закричал:
– Что Вы говорите, голубушка! Я не могу слушать такие речи о таких стихах!
Чтобы не поддаться на провокацию, я спросила первое, что пришло в голову:
– А почему голубушка?
– Нет, но это возмутительно. Я коммунист. А Вы оправдываете такую антисоветчину!
– Нет, но почему всё же голубушка?
– Извините, Елена Александровна.
Василий Фёдорович сел и, поняв, что не удалось, спокойно продолжал допрос.
Он даже в столовую ГБ повёл меня, хотя, очевидно, это не положено – уж больно удивлённо рассматривали меня все присутствующие. Да, видно, оплошал Василий Фёдорович.
Проводя по коридору, он показал мне доску, на которой были выбиты имена погибших гэбистов:
– Посмотрите. Среди них многие погибли в тридцать седьмом.
– Что ж, участь их тоже достойна сожаления, – сказала я, не повернув головы, и заметила такой ненавидящий взгляд этого, казалось бы, добродушного мужичка.
Самое худшее было то, что шли часы допроса, а Василий Фёдорович всё не вел протокол. Что-то записывал на клочках бумажки, помечал в каких-то углах. Я попыталась поспорить:
– Василий Фёдорович, вы напрасно это делаете, я журналист, я не подпишу протокол, если он будет написан не моими словами.
– Не волнуйтесь, Елена Александровна, это черновик, мы с Вами всё согласуем.