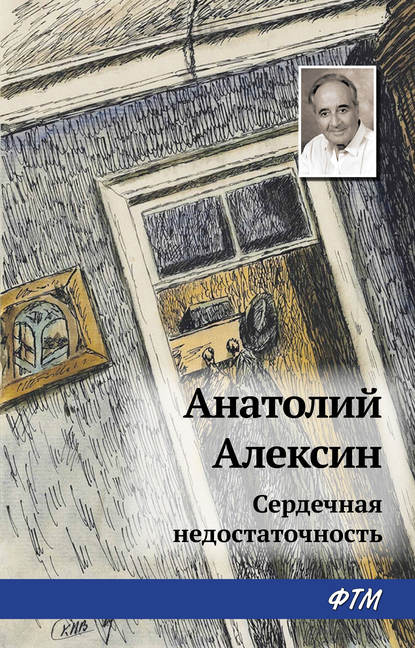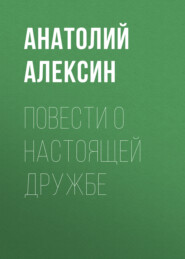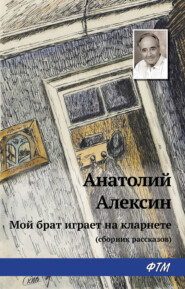По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сердечная недостаточность
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сердечная недостаточность
Анатолий Георгиевич Алексин
Драматизм отношений между самыми близкими людьми, мучительная память о трагическом прошлом… Анатолий Алексин никогда не осуждает и не выносит приговор – он остро и беспристрастно показывает самую сущность героев, исподволь испытывая и читателя.
Анатолий Алексин
Сердечная недостаточность
«Вы можете разорвать мое письмо, не прочитав его. Разрешите все же мне, как виновной, произнести последнее слово. Выслушайте меня! Я знаю, за уроки, за опыт надо „платить“. Но я заплатила за свой опыт чужой жизнью. Это преступление… Я понимаю. И, поверьте, проклинаю тот день, когда в длинном списке, напечатанном на машинке, увидела свою фамилию и подумала, что совершилось главное: я принята в университет. На самом-то деле… Разве может подобная строчка решить судьбу человека? За фактом последует другой, за праздником – болезнь, а за строчкой – следующая, быть может, совсем иная. Выслушайте меня!»
…Когда тот список наконец прикрепили к доске объявлений, а спина лаборантки из деканата перестала загораживать его и я узрела свою фамилию в числе «принятых», мне уже не слышны были чужие вздохи, невидны слезы. Я скатилась по лестнице, зная, что внизу меня ждет Павлуша. Если бы даже случилось землетрясение, я все равно увидела бы его возле университетских дверей.
– Все в порядке! – провозгласила я. Он протянул мне букет, хотя остальные родители ничего, кроме волнений, с собою не принесли.
– Я тоже хотел подняться. Но вдруг бы мы разминулись?
Он всегда казался виноватым, когда преподносил что-нибудь мне или маме. А так как преподносил он почти каждый день, у него постоянно было лицо извиняющегося человека. «Или просто интеллигентного», – сказала мне как-то мама.
– Спасибо за цветы, – дежурно отреагировала я.
Трудно благодарить от души ежедневно. Все, наверно, может стать будничным: и заботы, и готовность пожертвовать за тебя жизнью. Несправедливые чувства… Но Павлуша другого отношения к себе и не ждал.
– Гладиолусов не было. Только гвоздики… Прости меня, – сказал он.
И мы направились к такси, которое, судя по счетчику, уже давно дожидалось моего появления.
– Вечером поедем в Дом художника! – сказал он. – Или журналиста…
– Журналиста? – переспросила я. – Будет пресс-конференция?
Он был вторым маминым мужем. Но вообще-то единственным, потому что первый, по мнению мамы, званий мужа и отца не заслуживал. Мама раз и навсегда присвоила ему титул: «эгоист». Она называла его так не со злостью, а, я бы сказала, с грустью, задумчиво, как бы сравнивая в этот момент с Павлушей.
– Он ни разу ничего не подарил тебе, – печально сообщала мама. – А ведь ты и сейчас обожаешь куклы!
Дарить мне куклы отцу было трудно: он работал инженером-нефтяником в каком-то сибирском поселке, где вряд ли был магазин игрушек.
Отец звонил в день моего рождения, то есть один раз в году. Раздавались анархичные междугородные звонки, и мама говорила:
– Он вспомнил!
Отец поздравлял, спрашивал, как я учусь.
– Отметился, – не с осуждением, а с грустью произносила мама, жалея отца, который лишил себя счастья отцовства. И благодарно поворачивала голову в Павлушину сторону.
– Я сделал что-то не то? – пугался Павлуша.
Он был высоким, полным, и от этого подвижность его проявлялась очень заметно. Он управлялся со своей тяжеловесностью, как хрупкий юный музыкант управляется с громоздкой виолончелью, созданной вроде бы не для него. Пухлое лицо, наивно оттопыренные губы диссонировали с густой мужской сединой. Все эти неожиданные сочетания создавали образ, который нам с мамой был дорог…
Отца моего мама нарекла «эгоистом», а Павлуше навсегда было дано звание «семьянин».
Расписание приемных экзаменов он знал наизусть. И перед каждым из них спрашивал меня по билетам, которые достал откуда-то из-под земли. Я любила, когда Павлуша доставал что-либо «из-под земли», потому что знала: именно там, под землей, таятся самые главные сокровища, именуемые полезными ископаемыми.
Называть его отцом я не могла, так как это слово, ассоциируясь с моим родителем, приобрело у нас в семье отрицательное звучание. Кроме того, мама однажды произнесла фразу, которую запомнили все… Указав на Павлушу, она сказала:
– Он не отец, он – мать!
Павлуша от растерянности стянул с носа очки: получалось, что он посягнул на мамину роль в моей жизни.
Не подходило к нему и холодное слово «отчим». Я стала называть его просто Павлушей. Это панибратство входило в некоторое противоречие с тем, что я обращалась к нему на «вы». Но все на свете с чем-нибудь входит в противоречие.
На «ты» я по необъяснимым причинам перейти не могла.
– Чувства благодарности не хватает, – с грустью сказала мама, жалея меня за эту «нехватку». – Отцовские гены!
Определяющими свойствами Павлуши были безотказность и обязательность, а главным маминым качеством была беззащитность. Слабость, я думаю, явилась той силой, которая и притянула к ней заботливого Павлушу.
Даже в натопленном помещении мама куталась в пуховый платок: ей всегда было холодно и немного не по себе. Она как бы давала Павлуше повод устремлять ей навстречу максимальное количество «внутреннего тепла». А то, что он представлял собой невиданный на земле источник такого тепла, мы с ней чувствовали в любую погоду.
Улыбка у мамы была до того женственной, что все вокруг начинали ощущать настоятельную потребность в отважных мужских поступках. Она никого не осуждала, а лишь сожалела о людских несовершенствах, как, например, о папином эгоизме.
Голос у нее был мягкий, в телефонной трубке он растоплялся, как воск, и приходилось помногу раз переспрашивать ее об одном и том же.
Мама была искусной чертежницей. Но доска ее уже много лет находилась дома, возле окна, потому что Павлуша не любил, чтобы мама куда-нибудь отлучалась. Он не говорил об этом, он молча страдал. А мама дорожила его здоровьем и стала «надомницей».
Зная, что Павлуша молчаливо-ревнив, она в общественных местах усаживалась так, чтобы глаза ее по возможности не встречались с глазами посторонних мужчин. И в Доме художника она тоже села лицом к стене… В ответ на угодливые вопросы официанта мама кивала в сторону мужа: дескать, он знает. И он в самом деле безошибочно определял, что нам с ней хочется.
«Для дома, для семьи», – называли его мамины подруги. И всегда с безнадежным укором бросали взгляд на своих мужей.
Мама подчеркивала, что нельзя привыкать к добру, что надо неустанно ценить его, и тогда оно не иссякнет.
– Спасибо, Павлуша, – сказала я. – Еще раз спасибо.
– Нет, – возразил он, с наслаждением наблюдая, как мы едим, – подарок еще впереди!
Он любил, чтобы мы получали удовольствие от еды, от спектаклей, от фильмов.
– Уметь жить чужой радостью – самое редкое искусство, – уверяла мама. – Он им владеет.
Я соглашалась… Но так как мне в отличие от Павлуши нравилось жить своей собственной радостью, я, наполняя тарелку, спросила:
– А что еще… вы собрались мне подарить?
– Собственно говоря, это и не подарок, – ответил он. – Ты должна получить то, что тебе полагается.
– А что полагается?
– Отдых, – ответил он. – Обнаружилась горящая путевка! Ты едешь в «Березовый сок».
– Куда?
Анатолий Георгиевич Алексин
Драматизм отношений между самыми близкими людьми, мучительная память о трагическом прошлом… Анатолий Алексин никогда не осуждает и не выносит приговор – он остро и беспристрастно показывает самую сущность героев, исподволь испытывая и читателя.
Анатолий Алексин
Сердечная недостаточность
«Вы можете разорвать мое письмо, не прочитав его. Разрешите все же мне, как виновной, произнести последнее слово. Выслушайте меня! Я знаю, за уроки, за опыт надо „платить“. Но я заплатила за свой опыт чужой жизнью. Это преступление… Я понимаю. И, поверьте, проклинаю тот день, когда в длинном списке, напечатанном на машинке, увидела свою фамилию и подумала, что совершилось главное: я принята в университет. На самом-то деле… Разве может подобная строчка решить судьбу человека? За фактом последует другой, за праздником – болезнь, а за строчкой – следующая, быть может, совсем иная. Выслушайте меня!»
…Когда тот список наконец прикрепили к доске объявлений, а спина лаборантки из деканата перестала загораживать его и я узрела свою фамилию в числе «принятых», мне уже не слышны были чужие вздохи, невидны слезы. Я скатилась по лестнице, зная, что внизу меня ждет Павлуша. Если бы даже случилось землетрясение, я все равно увидела бы его возле университетских дверей.
– Все в порядке! – провозгласила я. Он протянул мне букет, хотя остальные родители ничего, кроме волнений, с собою не принесли.
– Я тоже хотел подняться. Но вдруг бы мы разминулись?
Он всегда казался виноватым, когда преподносил что-нибудь мне или маме. А так как преподносил он почти каждый день, у него постоянно было лицо извиняющегося человека. «Или просто интеллигентного», – сказала мне как-то мама.
– Спасибо за цветы, – дежурно отреагировала я.
Трудно благодарить от души ежедневно. Все, наверно, может стать будничным: и заботы, и готовность пожертвовать за тебя жизнью. Несправедливые чувства… Но Павлуша другого отношения к себе и не ждал.
– Гладиолусов не было. Только гвоздики… Прости меня, – сказал он.
И мы направились к такси, которое, судя по счетчику, уже давно дожидалось моего появления.
– Вечером поедем в Дом художника! – сказал он. – Или журналиста…
– Журналиста? – переспросила я. – Будет пресс-конференция?
Он был вторым маминым мужем. Но вообще-то единственным, потому что первый, по мнению мамы, званий мужа и отца не заслуживал. Мама раз и навсегда присвоила ему титул: «эгоист». Она называла его так не со злостью, а, я бы сказала, с грустью, задумчиво, как бы сравнивая в этот момент с Павлушей.
– Он ни разу ничего не подарил тебе, – печально сообщала мама. – А ведь ты и сейчас обожаешь куклы!
Дарить мне куклы отцу было трудно: он работал инженером-нефтяником в каком-то сибирском поселке, где вряд ли был магазин игрушек.
Отец звонил в день моего рождения, то есть один раз в году. Раздавались анархичные междугородные звонки, и мама говорила:
– Он вспомнил!
Отец поздравлял, спрашивал, как я учусь.
– Отметился, – не с осуждением, а с грустью произносила мама, жалея отца, который лишил себя счастья отцовства. И благодарно поворачивала голову в Павлушину сторону.
– Я сделал что-то не то? – пугался Павлуша.
Он был высоким, полным, и от этого подвижность его проявлялась очень заметно. Он управлялся со своей тяжеловесностью, как хрупкий юный музыкант управляется с громоздкой виолончелью, созданной вроде бы не для него. Пухлое лицо, наивно оттопыренные губы диссонировали с густой мужской сединой. Все эти неожиданные сочетания создавали образ, который нам с мамой был дорог…
Отца моего мама нарекла «эгоистом», а Павлуше навсегда было дано звание «семьянин».
Расписание приемных экзаменов он знал наизусть. И перед каждым из них спрашивал меня по билетам, которые достал откуда-то из-под земли. Я любила, когда Павлуша доставал что-либо «из-под земли», потому что знала: именно там, под землей, таятся самые главные сокровища, именуемые полезными ископаемыми.
Называть его отцом я не могла, так как это слово, ассоциируясь с моим родителем, приобрело у нас в семье отрицательное звучание. Кроме того, мама однажды произнесла фразу, которую запомнили все… Указав на Павлушу, она сказала:
– Он не отец, он – мать!
Павлуша от растерянности стянул с носа очки: получалось, что он посягнул на мамину роль в моей жизни.
Не подходило к нему и холодное слово «отчим». Я стала называть его просто Павлушей. Это панибратство входило в некоторое противоречие с тем, что я обращалась к нему на «вы». Но все на свете с чем-нибудь входит в противоречие.
На «ты» я по необъяснимым причинам перейти не могла.
– Чувства благодарности не хватает, – с грустью сказала мама, жалея меня за эту «нехватку». – Отцовские гены!
Определяющими свойствами Павлуши были безотказность и обязательность, а главным маминым качеством была беззащитность. Слабость, я думаю, явилась той силой, которая и притянула к ней заботливого Павлушу.
Даже в натопленном помещении мама куталась в пуховый платок: ей всегда было холодно и немного не по себе. Она как бы давала Павлуше повод устремлять ей навстречу максимальное количество «внутреннего тепла». А то, что он представлял собой невиданный на земле источник такого тепла, мы с ней чувствовали в любую погоду.
Улыбка у мамы была до того женственной, что все вокруг начинали ощущать настоятельную потребность в отважных мужских поступках. Она никого не осуждала, а лишь сожалела о людских несовершенствах, как, например, о папином эгоизме.
Голос у нее был мягкий, в телефонной трубке он растоплялся, как воск, и приходилось помногу раз переспрашивать ее об одном и том же.
Мама была искусной чертежницей. Но доска ее уже много лет находилась дома, возле окна, потому что Павлуша не любил, чтобы мама куда-нибудь отлучалась. Он не говорил об этом, он молча страдал. А мама дорожила его здоровьем и стала «надомницей».
Зная, что Павлуша молчаливо-ревнив, она в общественных местах усаживалась так, чтобы глаза ее по возможности не встречались с глазами посторонних мужчин. И в Доме художника она тоже села лицом к стене… В ответ на угодливые вопросы официанта мама кивала в сторону мужа: дескать, он знает. И он в самом деле безошибочно определял, что нам с ней хочется.
«Для дома, для семьи», – называли его мамины подруги. И всегда с безнадежным укором бросали взгляд на своих мужей.
Мама подчеркивала, что нельзя привыкать к добру, что надо неустанно ценить его, и тогда оно не иссякнет.
– Спасибо, Павлуша, – сказала я. – Еще раз спасибо.
– Нет, – возразил он, с наслаждением наблюдая, как мы едим, – подарок еще впереди!
Он любил, чтобы мы получали удовольствие от еды, от спектаклей, от фильмов.
– Уметь жить чужой радостью – самое редкое искусство, – уверяла мама. – Он им владеет.
Я соглашалась… Но так как мне в отличие от Павлуши нравилось жить своей собственной радостью, я, наполняя тарелку, спросила:
– А что еще… вы собрались мне подарить?
– Собственно говоря, это и не подарок, – ответил он. – Ты должна получить то, что тебе полагается.
– А что полагается?
– Отдых, – ответил он. – Обнаружилась горящая путевка! Ты едешь в «Березовый сок».
– Куда?