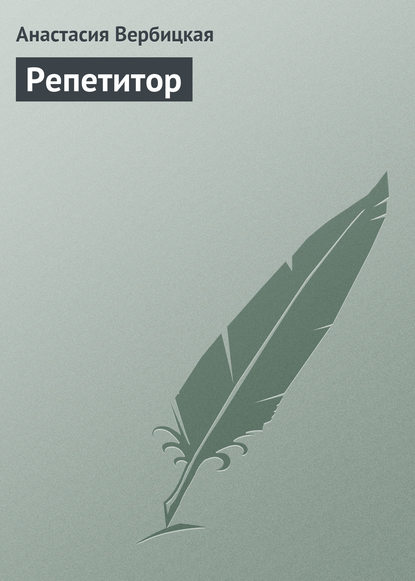По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Репетитор
Год написания книги
1904
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Эх, оставь!.. И к чему это? Отдавать-то, ведь, всё равно придётся… И так кругом задолжали… По-настоящему, будь мы с тобой порядочные люди…
Он оборвал разом и отвернулся к стене.
VII
На Рождестве Коко опять заглянул. Никого не было дома. Он уже пошёл назад, но на лестнице столкнулся нос к носу с вернувшимся Ивановым.
– Ба-ба-ба!.. Да ты никак совсем здоров?.. Ну, здравствуй! Очень рад… А уроки есть?
– Есть, недалеко. Станкин передал…
– А у Пылаева?
– Переписку достала одна тут барыня сердобольная, по пятиалтынному с листа… Зайдём; он сейчас вернётся.
Они поднялись и вошли в комнату. Стужа была страшная. Коко так и застучал зубами.
– Dio mio![5 - Боже мой! – ит.] Давайте чаем греться!.. Ах, кстати!.. Я получил из суда наградные; с меня вспрыски…
Подоспел Пылаев. Появились самовар, пиво, закуска, водка. Коко согрелся и, меряя комнату, распевал:
Тихою ночью,
Под трель соловья…
– Что же ты не ешь ничего? – удивлялся он на Иванова.
– Не могу. Знобит что-то… Вот уж неделю лихорадит, всё перемогаюсь. Урок потерять жалко…
Вид у него был совсем больной. Лицо пылало.
– Ну водки выпей…
Но и водка не согрела Иванова. Он лёг. Зубы его стучали.
– Не обращайте на меня внимания, господа, – сказал он. – Я, может, засну; голова тяжёлая у меня.
Пламя лампы больно резало глаза. Он отвернулся. Озноб охватывал его всё сильнее. Он как бы цепенел в каком-то странном изнеможении. Как сквозь сон, словно издали, стали долетать к нему голоса рядом сидевших товарищей, звон посуды, раскат смеха, обрывки фраз. Он закрыл глаза.
Вдруг что-то страшное, бесформенное надвинулось на него, грозя раздавить.
– Ах! – испуганно крикнул он и сел на постели. Широко открытые глаза его горели.
– Что ты?.. Что ты? – растерянно забормотал Пылаев. – Чего ты орёшь?
Сердце Иванова билось глухо, болезненно, неровными толчками.
– Нет… Я так… Приснилось… Чепуха какая-то…
В дверь стукнули.
– Письмо, – сказал почтальон, просовывая голову, и сапоги его громко застучали, спускаясь по лестнице.
– Ох! – застонал Иванов. – По голове идёт, по голове… – он взялся руками за пылавший лоб.
– Тебе письмо.
Иванов хлебнул чаю. Проблеск сознания сверкнул в его возбуждённом лице. Он разорвал конверт.
«А мы теперь, Андрюша, совсем без копейки остались, – писала мать, отрывисто и безграмотно, на листе серой писчей бумаги. – Потому отец места решился. Загулял, значит, грозил дом поджечь. Не спим ночей – караулим. Пришли, Христа ради, сколько-нибудь. Катя у меня вторую неделю больна. Помрёт, думали; дифтерик у ей был, в глотке мазали. Только дохтур сказал – оглохнет. Наказала меня Царица Небесная. Лучше б померла. Куды я с глухой денусь? Нешто это работница? А Варьку отдала на фабрику. Уж ты не серчай, Андрюша. Потому неоткуда нам теперь помощи ждать. А что насчёт Васяки ты меня коришь, зачем в мастерскую отдала? Напрасно коришь, Андрюша. Ремеслом, по крайности, он сыт будет, и мне легче так. Одним ртом меньше. А от твоей школы какой прок? А уж ты пришли, Бога ради, хоть сколько-нибудь. Что ты выслал к празднику, все вышли. Катька дюже хворала. А теперь и заложить нечего…»
Иванов перечитал раз, два, потом сунул письмо в карман и задумался.
– Интересное? – спросил Коко.
Он не слыхал. Его охватывало отчаяние.
Бессилие, страшное бессилие перед слепым натиском жизни, сокрушавшей все его планы и труды… вот что терзало его, удручало сознание, душило, хватало за горло, вызывая какую-то физическую нестерпимую боль в груди… «Зачем школа?..» Да!.. Васька не выбьется из среды. Среди колотушек, площадной брани и унижений пройдёт его детство, потом неизбежное пьянство… Варька на фабрике… Погибнет… Кому удержать? Им надеяться не на кого…
Он встал, ломая руки, сделал несколько шагов по комнате и опять упал на постель, лицом в подушки.
«Неужели заболел? Неужели умираю?.. И конец? Всему конец? И борьбе и мечтам?»
– Иванов… Хочешь пива? – спросил Пылаев.
– Спит, – зашептал Коко. – Оставь…
Да, он спал. Из груди его вылетало прерывистое, свистящее дыхание.
– А скверно, брат, – заметил Пылаев. – На этот раз он, должно быть, не выкрутится… Спасовал…
Вдруг Иванов открыл глаза и сел на постели.
– А мы думали, что ты спишь, – заговорил Коко и вдруг оборвался и слегка отодвинулся невольно.
Он не узнал этого лица. Озарённое каким-то внутренним светом, оно казалось так молодо, так странно и чуждо. Незнакомая нежность сияла в глазах Иванова.
– Катюша… голубушка, – ласково шептал он, глядя в пространство, через голову Коко. – Что у тебя болит, сестричка ты моя? Крошечка?.. У тебя ушко болит, Катюша?
– Бред, – сказал Коко и встал, весь бледный.
Вдруг по лицу Иванова пробежала судорога страдания, и он заплакал. Слёзы текли по его щекам, светлые, крупные. Так плачут дети, когда не знают, за что их бьют.
Что жалел он? Кого оплакивал в эту минуту? Свою ли скомканную жизнь? Тех ли, кто там, далеко, ждал и верил в его помощь? Пронёсся ли перед ним в горячечной фантазии какой-нибудь скорбный образ? Было ли это смутное предчувствие конца? Или сознание, что он гибнет?.. Кто скажет!
Это было странно и жутко. Затаив дыхание, товарищи глядели на него.
Иванов повернулся и лёг. С открытыми глазами, жестикулируя, он забормотал что-то быстро и несвязно. Пылаев прислушался, но разобрать уже не мог ничего.