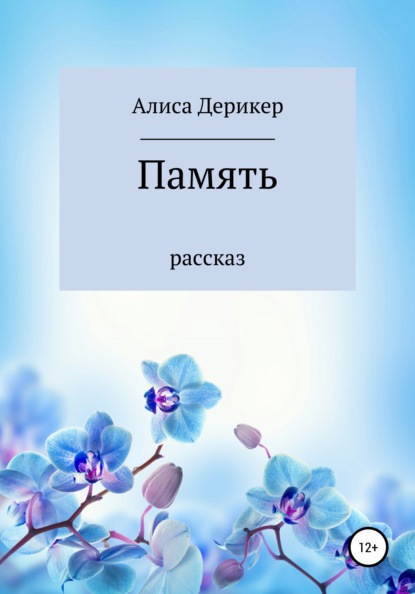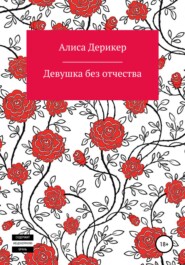По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Память
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Еще дня через четыре я перестал проваливаться в забытьё так внезапно, теперь, наоборот, мне было сложно заснуть или отключиться из-за постоянных головных болей. Я жаловался доктору, он прописывал какие-то лекарства, мне давали таблетки, но они слабо помогали: я мог заснуть, но просыпался в пять утра от боли и не спал потом до обеда.
Я стал гораздо лучше контролировать головокружение и мне разрешили вставать, чтобы дойти до туалета. Медсестры поначалу рвались поддерживать меня, но я злился, и понемногу, как только мой голос набрал силу, они оставили меня в покое, только зорко следили и, я так думаю, молились, чтобы я не упал и не ударился головой о мойку. Честно говоря, я и сам этого боялся.
Вставание пошло мне на пользу: я опирался на затекшие конечности, и мало-помалу в них возвращалась жизнь. К тому же, подъёмы с постели помогли мне оглядеться, и я узнал, что нахожусь в реанимации, в общей палате, где на соседних койках лежат такие же бедолаги как я, едва могущие думать, не то, что говорить.
Доктор говорил, что приходила жена, но оба раза, когда я спал. Я не видел её и не знаю, сидела ли она со мной, держала ли меня за руку, честно говоря, встреча с ней меня пугала, я ведь даже не помню, блондинка она или брюнетка. Доктор сказал, её зовут Нина, и я фантазировал, как может выглядеть женщина, которую зовут Ниной.
В моих прогулках до туалета и обратно был и ещё один несомненный плюс. Однажды, сидя на толчке, я вспомнил, как подбрасывал вверх младенца. Может быть, это страх падения пробудил во мне это воспоминание.
Ребенок, совсем крошка, меньше года, радовался и гулил, я подбрасывал его вверх, легонько и совсем невысоко, и ловил. Я знал, что это мой сын, но не помнил, как его зовут. Из дверного проёма наблюдала жена, но она была расплывчатым синим пятном – ничего, ни лица, на цвета волос, на даже роста.
Через некоторое время, меня перевели в неврологическое отделение. Впечатление от него было удручающее: облупленные стены; крашенные масляной краской, один на всех телевизор в холле, который не работал, потому что многим пациентам его нельзя было смотреть, а рекомендаций они не признавали; несколько коек в коридоре (не знаю, каким чудом я попал в палату); жуткая вонь от десятка пар мужских носков.
У какого-то парня, похожего на бомжа, лежащего прямо в коридоре, гнила нога. Нога была замазана зелёнкой по самое колено и так же безобразно замотана грязным бинтом, как и его голова. Он не двигался, ничего не говорил и только мычал. На следующее утро я его уже не видел. Наверное, его перевезли на моё место в реанимацию.
Зато в туалете отделения было зеркало. Такая простая вещь, и такая важная! Я украдкой оглядывал своё тело, насколько оно помещалось в маленький квадрат стекла, стараясь при этом не наклонять голову. В реанимации не было зеркала, а я не помнил даже, как я выгляжу! Я не знал, какого цвета у меня волосы, какого цвета глаза, длинен или горбат мой нос, тонкие ли у меня губы. Я боялся, что увижу в зеркале незнакомца.
Так и случилось. Сердце билось всё чаще, я видел себя, но даже не сразу понял, что это я. Не было ощущения узнавания, но и не было ощущения чужака. Я долго пялился, рассматривая свои ноздри, брови, лоб, подбородок и свежие шрамы на лице, не глубокие, просто царапины, и мне казалось, я узнаю себя. Да, определенное, это знакомое лицо, наверное, именно моё лицо. Я не мог утверждать этого точно, но я знал, что видел уже раньше этого мужчину из зазеркалья. Интересно, как я выглядел в детстве? Я не помню своих фотографий, ни одной фотографии…
Проснувшись в первое утро на новом месте, я открыл глаза и понял, что видел сон. Мне снился мой сын (я всё еще не мог вспомнить имени), сидящий на ковре и играющий с красной машинкой. Ему было года два. Он поднял на меня глаза и сказал: "папа".
Самое страшное, что я не помнил его. Я видел сон, я видел его лицо, так похожее на моё, но внутри у меня не было никаких чувств. Там, во сне, я любил его, и я помнил сейчас, по пробуждении, что у меня есть семья и я люблю их, но я не мог ощутить снова эти чувства, у меня были воспоминания о них, но в душе была пустота и одиночество, как будто моя семья бросила меня. Были только оболочки слов: "люблю", "семья", "сын", но оболочки были пустыми, за этими словами ничего не стояло.
Пребывание в больнице было очень похоже на извращенную тюрьму: мне нельзя было читать, нельзя было смотреть телевизор, игры в карты тоже не приветствовались, карты у больных отбирали, а думать я не мог, ибо вместо воспоминаний у меня в голове зияла дыра, потому большую часть времени я лежал с закрытыми глазами, иногда открывал их и рассматривал потолок – это было моим самым большим развлечением.
Еда в больнице была омерзительная: порошковое картофельное пюре чередовалось с тушеной капустой, из мяса четыре раза в неделю была тушенка, один раз рыбные палочки и два – сосиски. Супы: щи, борщ, зелёный суп из щавеля и фасолевый выглядели одинаково. Про каши я вообще молчу. Я не помнил еды, которую я любил когда-то, в моей прежней жизни, но хорошо понимал, что это я точно не люблю.
На второй день, сидя в столовой, я вспомнил свою одноклассницу Эви. Её мама была из Латвии, а папа был русский. Мы сидели в школьной столовой, в окружении такого же гама, шума шагов, бряцанья посуды и таких же тошнотворных запахов, на раздаче повариха тётя Галя гремела кастрюлями, а Эви, глядя на меня в упор, неожиданно взяла руками со своей тарелки котлету и кинула её в меня.
Какая странная и своевольная штука память: я внезапно и так легко вспомнил два имени – имя школьной поварихи и одноклассницы, которая ушла из школы после пятого класса, но до сих пор не вспомнил имени сына. От этого было ужасно обидно. Так же сильно, как мне было обидно тогда, когда Эви кинула котлету. Я увернулся, на бреющем полёте кусок жареного фарша всего лишь испачкал мне волосы, но чувства обиды, несправедливости и какого-то тошнотворного отвращения были так сильны во мне тогда, что, очевидно, это воспоминание засело очень глубоко. Я помню дурно воспитанную девчонку Эви, но не помню своего сына. Вот это ирония.
На третий день пришла Нина. Я лежал после обеда, ходьба всё ещё отнимала много сил. Не физически, тяжело переносилось любое изменение положения тела: спал я на спине, не переворачиваясь, но утром приходилось медленно садиться в постели, а потом и вставать. Вестибулярный аппарат сдавался, начинало шуметь и гудеть в ушах, а к горлу подкатывала тошнота. Не представляю себе, каково приходится беременным, когда их тошнит по утрам все девять месяцев. Я завыл уже на второй неделе.
Эта мысль заставила меня задуматься: Нину тошнило во время беременности? Я этого не помнил. Но откуда-то же я эту мысль взял?
Утром я смотрел в окно. Я пропускал завтрак, потому что поход в столовую был связан с несколькими поворотами. Идти по прямой было еще ничего, но поворачивать, вставать или садиться резко я не мог из-за головокружения. Мне нужно было сначала опереться на стул или кровать, а потом уже опустить своё тело. Если при этом я наклонял голову, подступала тошнота и меня мутило. Чтобы справиться с этим требовалось где-то от десяти-пятнадцати минут до пятидесяти, а завтрак этого явно не стоил.
Я почувствовал на себе чей-то взгляд. Пациенты возвращались с обеда, а я так и лежал. Моя кровать стояла в углу, по диагонали от входа, так, что я мог посмотреть на дверной проём, не поворачивая головы. Там стояла невысокая темноволосая женщина без халата. Мужское отделение занимало весь этаж, значит, это могла быть только посетительница, которая пришла к кому-то из нас.
Она двинулась прямо ко мне, и внутри меня всё похолодело. Представьте себе, что вам очень плохо. Вы едва справляетесь с постоянной тошнотой, с трудом передвигаетесь, и большую часть своего времени способны только лежать. Разговоры вас утомляют, о том, чтобы помотать головой из стороны в сторону в знак несогласия, или покивать собеседнику, и речи не идёт. И тут вы видите абсолютно незнакомого человека, который направляется прямо к вам с целью "задать вам несколько вопросов" (какая-то стандартная фраза, но я не мог вспомнить, откуда она). Так вот, это именно такое чувство. Чувство страха от предстоящего разговора с незнакомым человеком.
Она подошла и села ко мне на кровать. Это испугало меня ещё больше, потому что я видел её впервые в жизни. Она долго смотрела на меня влажными карими глазами, потом взяла за руку.
– Владик, как ты себя чувствуешь?
– Ничего, уже лучше.
Так вот, значит, как она меня зовёт – "Владик". Интересно, а я её как? Нинуся, Нино, Ниночка?
– Нина, – сказал я ей. Я не собирался говорить ничего больше. Что я мог ей сказать? Я не знаю ни её отчества, ни фамилии. Да я даже не знаю, одна ли у нас с ней фамилия, или она решила не менять её после брака? А если и поменяла, какая её девичья фамилия? Я и свою-то фамилию не помню, не то, что её.
Она заулыбалась.
– Ты меня узнал! Узнал же? Ты меня помнишь?
Я молчал. Я понимал, почему она спрашивает. Она видит мой равнодушный или даже испуганный взгляд, видит, что я и бровью не пошевелил, пока она не села ко мне на кровать. Она знает, что я не узнаю её, и на её лице я точно так же читал страх.
– Не совсем, – я попытался проглотить комок в горле. Он мешал говорить. От ужаса удушливой волной снова накатила тошнота.
– А Славика, Славика ты помнишь?
Вот и выяснили, как зовут сына. А о ком же ещё она может спрашивать таким тоном?
– Помню, – мне не хотелось ее расстраивать, у неё был очень несчастный вид, – я помню, как подбрасывал его маленького и ловил, а ты стояла в дверях в синем…, – и я добавил не очень уверенно, – платье.
Она улыбалась и радостно кивала. Влажные глаза её блестели налившимися ягодами слёз.
– Ещё я помню, как он играл на ковре с красной машинкой. Это было давно, – это был скорее вопрос, но я сказал утвердительно. Мне было страшно, что она обнаружит всю глубину моего незнания, и я ходил с козырей, сколько мог.
– Давно, – подтвердила она.
Я разглядывал её, на вид ей лет тридцать-тридцать пять, нельзя сказать "красивая", но мне она нравилась. Было что-то очень притягательное в её лице, что-то, что мне казалось миловидным. Я с интересом разглядывал её, изучал. Я был женат до неё? А сколько лет мы, интересно, вместе? Наверное, я привык к ней, но все это казалось чем-то из другой жизни. Это даже не походило на дежавю, я видел эту женщину абсолютно впервые и она мне нравилась не потому, что я вспомнил свои чувства к ней, или ощущал некое родство душ, нет. Просто она была симпатичная, вот и всё.
– Сколько Славику сейчас, – рискнул я, – десять?
– Восемнадцать, Владик. Ему восемнадцать. Он учится в университете. Уже на втором курсе. В приборостроительном, – слова ей давались так же тяжело, как и мне.
Я даже не помнил, один ли у нас ребенок!!! Откуда мне знать, сколько ему лет…
– Ты помнишь ещё что-нибудь? Помнишь Робина? У нас была собака Робин. Помнишь Эмму, мою сестру? Нет? Помнишь, кем ты работал?
Руки уже перестали ныть так, как ныли по началу, но мозоли еще не сошли.
– Я плотник. Я работал по дереву.
– Ты юрист. Владик, ты юрист, – она почти плакала.
– Я помню, как работал рубанком. Пахло деревом. И ты там тоже была.
– Ты делал доски для новых перилл на веранду. Это было за день до аварии, – по её лицу уже катились слёзы, она стала красная и некрасивая, громко шмыгала носом и искала в сумочке платок.
– Машина перевернулась, – продолжала она, – ты пролежал в реанимации больше недели. Был без сознания, в коме. Меня не пускали. Я приходила каждый день, – она плакала и всё не могла остановиться, – мне говорили, что ты выживешь, что ты очнёшься, и я верила, я знала, что ты очнёшься. Они сказали, память будет возвращаться не сразу, постепенно, что ты… что ты.... не вспомнишь всего, не вспомнишь сразу, что, может быть.... может быть, потом.... а ещё иногда бывает резко, бывает, память возвращается в один момент, так бывает, – я понял, она убеждала себя. Для неё я сейчас был всё равно, что инвалид: человек не до конца полноценный, потому что не помнил самого главного, не помнил её, нашей семьи, да, чёрт возьми, я не помнил ничего из своей жизни.
Она скоро ушла. Она сидела бы долго, но я сказал ей, что устал, и она послушно ушла. Все равно, она больше плакала, чем говорила. Её рассказ был сбивчивый, она вывалила на меня сразу кучу имён, а я не то, что не помнил: я не знал, не запоминал их, и они совсем ни о чём мне не говорили, это были чужие имена, просто оболочки, за которыми ничего не стояло, и я путался и тонул в них.
Очевидно, она говорила с лечащим врачом, потому что он зашёл ко мне после её ухода. Это был молодой татарин Руслан Ренатович, который вызывал симпатию у всех абсолютно пациентов тем, что каждый день, каждый свой обход он начинал с фразы "Здравствуйте, меня зовут Руслан Ренатович, я ваш доктор". Очевидно, он знал, каково это – ничего не помнить, он знал и то, как ужасно в пустом пространстве памяти удерживаются новые имена, и он заставлял нас делать невозможное: мы запоминали, как его зовут.
Руслан Ренатович, тщательно вглядываясь мне в зрачки, спросил, не утомила ли меня Нина, так и сказал "не утомила ли вас Нина, ваша жена"? Внимательно выслушал моё невнятное мычание и поинтересовался, вспомнилось ли мне что-то от имен, которые называла Нина. Очевидно, она передала ему наш разговор. Я ответил, что нет, не вспомнилось, и тогда он спросил в каких обстоятельствах я вспомнил про Нину и сына. Говорить долго было тяжело, но Руслан Ренатович пользовался таким уважением, что я всё же объяснил, что Нину не помню вообще, а имя её мне сказал доктор из реанимации, имени которого я тоже не помню.