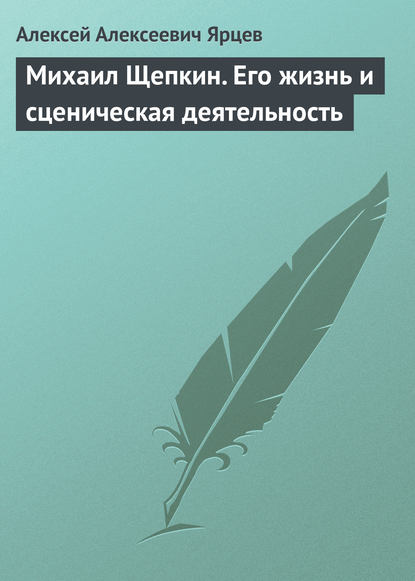По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Михаил Щепкин. Его жизнь и сценическая деятельность
Автор
Жанр
Год написания книги
2008
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В глубокой старости Щепкин, как юноша, верил в добро и правду и любил жизнь и людей всеми силами своего доброго сердца. А старческий ум бодро смотрел вперед и видел там зарю новой жизни народа, из среды которого вышел и сам великий артист-человек.
Глава V. Павел Степанович Мочалов и Василий Андреевич Каратыгин
Время деятельности Щепкина на московской сцене было самой блестящей эпохой в историческом ходе развития русского сценического искусства. В этот период появилась и служила русской сцене плеяда выдающихся артистов, из которых замечательнейшими были Мочалов и Садовский на московской сцене и Каратыгин и Мартынов – на петербургской.
Имя Мочалова стоит наряду с именем Щепкина по той популярности, которой оно пользовалось при его жизни, и по тем отзывам и воспоминаниям, полным восторженного поклонения, которыми навсегда запечатлелось это имя в памяти потомства. Мочалов, как и Щепкин, принадлежал к числу гениальных людей, но между ними была громадная разница. Гений Щепкина развивался и поддерживался упорным трудом, а гений Мочалова, ослабляемый небрежным за ним уходом, достигал полной своей силы лишь временами.
«В мире искусства, – говорит Белинский, посвятивший Мочалову много горячо написанных строк, – Мочалов – пример поучительный и грустный. Он доказал, что одни природные средства, как бы они ни были огромны, но, без искусства и науки доставляют торжества только временные, и часто человек лишается их именно в ту эпоху своей жизни, когда бы им следовало быть в полном их развитии».
Павел Степанович Мочалов родился 3 ноября 1800 года. Отец его, Степан Федорович, был известный в свое время актер-трагик московского театра. О детстве и юности Мочалова, о его воспитании нет сведений. Известно, что он слушал лекции в Московском университете, но, во всяком случае, образование его осталось незаконченным. Детство он провел в семье и, вероятно, воспитывался под отцовским влиянием. О Мочалове-отце как о человеке известно тоже очень мало. Был он человек добрый, но недостаточно развитый, дававший волю своим страстям и чувствам. Как артист Мочалов-отец был очень даровит и обладал прекрасными физическими данными. Талант в нем был заметен, но лишь в двух-трех ролях он был безукоризненно хорош. Амплуа его составляли роли драматических любовников, резонеров и героев. В его игре видно было отсутствие работы, искусства и даже, по словам С. Т. Аксакова, понимания изображаемого лица. Принадлежа к старой школе актеров, Мочалов-отец не пренебрегал и эффектами, а это еще больше убивало его талант. У него был один излюбленный прием игры, блистательно удавшийся ему с первого раза и восхищавший тогдашнюю публику. В каком-нибудь месте своей роли Мочалов-отец бросался на авансцену и с неподдельным чувством, с огнем, вылетавшим прямо из души, скорым полушепотом произносил несколько стихов или несколько строк прозы – и обыкновенно увлекал публику. В первый раз это был действительно порыв, вспышка кипучего чувства. Но, заметив успех, Мочалов стал употреблять этот эффект все чаще и чаще, уже и без чувства, и невпопад. Публика продолжала рукоплескать. Это избаловало актера, он начал плохо учить новые роли, забывал старые, изменился, загулял и стал падать во мнении публики, пока не понял своих промахов.
Театральная среда, в которой родился и вырос Мочалов-сын, обусловила и его жизненный путь, а отец-актер явился первым его учителем сценического искусства. Влияние отцовской школы должно было отразиться на игре сына, но талант последнего победил воспринятое с детства ложное понимание искусства, и в лице Мочалова-сына русская сцена увидала великого актера, жившего на сцене жизнью изображаемых героев и возвышавшегося до гениальных созданий.
Мочалов посвятил себя театру с 17 лет. 4 сентября 1817 года, подготовленный отцом к дебюту, он выступил в первый раз на сцене московского театра в роли Полиника в трагедии Озерова «Эдип в Афинах». С первого же выступления Мочалов имел успех. В юноше сказывалась уже главная черта его дарования – неподдельное чувство, вдохновение, – и скоро он вступил на тот путь развития своего таланта, с которого не сходил до последних лет своей деятельности. В первые же годы обнаружились все достоинства и недостатки сценического таланта Мочалова. В критической заметке, относящейся к первому десятилетию деятельности Мочалова, читаем уже прочувствованные похвалы его игре и замечания о ее недостатках. Речь идет о роли Аристофана. «Сколько огня, сколько чувства и даже силы было в его сладком, очаровательном голосе! Как он хорош был собой и какие прекрасные, послушные и выразительные имел он черты лица! Все чувства, как в зеркале, отражались в его глазах. Греческий хитон и мантия скрывали недостатки его телосложения и дурные привычки известных движений». И тут же рассказывается, что талант Мочалова не поддерживался трудом и не поддавался обработке: когда он «старался» играть как можно лучше, то всегда играл хуже.
Это было в 20-х годах, при управлении московскими театрами Кокошкина. Живший тогда в Москве князь А. А. Шаховской, тонкий ценитель талантов и знаток сцены, говорил про Мочалова: «Он только тогда и хорош, когда не рассуждает, и я всегда прошу его об одном, чтобы он не старался играть, а старался не думать только, что на него смотрит публика. Это гений по инстинкту, ему надо выучить роль и сыграть; попал – так выйдет чудо, а не попал – так выйдет дрянь». С Мочаловым бывали такие случаи. Играл он однажды в комедии «Пустодомы» роль князя Радугина, играл «спустя рукава» и – был неподражаем: это была сама натура, изображенная с замечательною тонкостью в разработке отдельных штрихов. Не желая его смущать, автор пьесы, князь Шаховской, только по окончании ее бросился в уборную, обнимал и целовал недовольного собою Мочалова и восторженно восклицал: «Тальма! – какой Тальма? Тальма в слуги тебе не годится: ты был сегодня Бог!» Через некоторое время приезжает в Москву какая-то знатная особа и в разговоре с Шаховским пренебрежительно отзывается о таланте Мочалова. Шаховской обижается и, чтобы показать московскую знаменитость во всем блеске, назначает «Пустодомов». На беду об этом узнал Мочалов, «постарался» играть свою роль и – «был невыносимо дурен».
Проходит еще десять, двадцать лет. И во всех отзывах об игре Мочалова, в восторженных статьях Белинского, наконец, в посмертных воспоминаниях о гениальном трагике – везде находим одни общие строки: игра Мочалова была неровна. То она ослепляла ярким блеском пламенного вдохновения, то омрачала эстетическое чувство его поклонников тусклою деланностью игры посредственного актера.
Так оно и было, и разгадку этого явления надо искать в свойстве таланта Мочалова, в его натуре и обстоятельствах жизни. Мочалов в своей сценической карьере шел совершенно иным путем, чем Щепкин, всю жизнь стремившийся развивать себя и совершенствовать свой талант. По своей кипучей и страстной натуре Мочалов принадлежал к тем людям, которые живут преимущественно сердцем, а не головой. Добрый, честный, благородный, но со слабо развитой силой воли, он был способен быстро увлекаться до проявления бурной страсти и так же быстро охладевать. Слава осветила ему жизненную дорогу с первых же шагов его на сцене. Он сознавал в себе могучую силу артистического вдохновения, которая без труда, сама по себе, может двигать сердцами многих тысяч зрителей. Гордый этим сознанием, Мочалов пренебрегал работой над своим талантом. Воспитание не укоренило в нем убеждения в необходимости труда, какими бы достоинствами и талантами ни обладал человек. К тому же при всей своей порывистости Мочалов не отличался общительностью, избегал или, по крайней мере, не искал общества развитых людей. В этом сказывалось, может быть, нежелание явиться среди посторонних людей со своими пробелами в образовании. Бывали попытки ввести Мочалова в круг людей, способных оценить по достоинству его талант, указать ему на его недостатки и помочь от них избавиться. Но эти попытки не приводили к цели, и Мочалов оставался или почти одиноким, или среди людей низменных вкусов и неразвитого ума, дурно влиявших на него как на человека и артиста.
С. Т. Аксаков, один из представителей тогдашнего образованного общества, литератор и театрал, рассказывает, как в 1826 году он решил сойтись ближе с Мочаловым и ввести его в круг мыслящих людей. Тогда Мочалов даже у Кокошкина, где собирались актеры, бывал только по официальному приглашению. А туда ему попасть было уже совершенно легко, тем более что Кокошкин любил и поощрял молодого артиста. Когда Аксаков высказал свое желание, Мочалов ответил согласием. Он, по словам Аксакова, не умел выражать хорошо своих внутренних движений, но, очевидно, был тронут участием и в несвязных словах пробормотал, что сочтет за счастье воспользоваться оказанным ему расположением. Сначала Мочалов хаживал к Аксакову, но только по утрам, чтобы ни с кем у него не встретиться. Они читали друг другу то Пушкина, то Баратынского, то Козлова, который особенно нравился Мочалову. Много говорили о театре, о сценических условиях, о той мере огня и чувства, которой владели славные актеры. «Но, – вспоминает Аксаков, – я видел, что, несмотря на ответы Мочалова: „Да-с, точно так-с, совершенно справедливо-с!“ – слова мои отскакивали от него, как горох от стены». Кончилось тем, что Мочалов пришел как-то к Аксакову в состоянии сильного опьянения, – и с тех пор не бывал уже в его доме.
Пристрастие к вину было самым большим злом в жизни Мочалова. Нет твердо установленных фактов, чтобы показать, как развилась в нем эта пагубная страсть. Но нам думается, что в процессе этого развития было много общего с таким же фактом из жизни другого знаменитого представителя русской сцены, тоже вдохновенного трагика, – Яковлева. В натуре и таланте обоих артистов было много общего. В вулканической натуре Мочалова таились скрытые душевные силы, не направленные с юношеских лет к плодотворному исходу. Пылкая, но мягкая натура не выдерживала напора этих сил, начиналась внутренняя борьба, желание удовлетворить запросы души и сердца становилось болезненным. Обстоятельства складывались дурно. И жизнь, и счастье для Мочалова сосредоточивались на сцене. Но искусство дает своим жрецам, в самой их деятельности, невыразимое наслаждение и строго карает тех из них, кто плодотворным трудом не приносит дани своему богу и зарывает талант в землю. Мочалов был один из таких служителей искусства. Минуты вдохновенной игры доставляли ему и славу, и артистическое наслаждение. Но что должен он был переживать в те мучительные минуты, когда его гений отлетал от него, и великий артист из полубога, заставлявшего дрожать сердечные струны тысячной толпы зрительного зала, превращался в заурядного актера, лишенного всякого обаяния? Кто мог заменить Мочалову покинувшего его духа артистического вдохновения, что могло утешить его, ослабить горесть потери? Труд? Но он не знал, как и взяться за него. Люди? Но мы уже видели, как он чуждался их. А сама судьба не была в этом случае милостива к Мочалову: она не посылала ему человека с теплой, любящей душой, который бы согрел и осветил его лучом любви и дружбы. Семейная жизнь не доставила ему полного счастья; близких друзей, способных стать на уровне потребностей его души, у него не было. В чем мог он находить отраду, отдых? В стихах, в которых он изливал свои чувства? Но это было слишком недостаточным и, пожалуй, сентиментальным для полной жизни натуры Мочалова. Оставалось вино – и этой водою забвения слабый волею человек врачевал свои сердечные раны, утешал душевные бури и разгонял мрачные думы и сомнения.
Мы не станем приводить эпизодов из жизни Мочалова на тему о его злой страсти, рассказанных в различных воспоминаниях о нем. В этих рассказах, надо заметить, есть преувеличения, общий колорит слишком мрачен, краски слишком сгущены. Мочалов не был таким гулякой и пропойцей, каким рисуют его в некоторых воспоминаниях, написанных, по-видимому, по слухам, которые в устах народной молвы относительно замечательных людей превращаются всегда в легенды. Правда, он пил, но это не было беспросыпное пьянство упавшего низко человека. Одно близкое к Мочалову лицо рассказывало нам, что он никогда не пил другого вина, кроме виноградного, и никогда не выходил на сцену под влиянием даров Бахуса. Часто и горько он раскаивался в своей страсти, давал слово победить ее, но наступала роковая минута – и победа оставалась не за ним.
Последним показаниям особенно охотно хочется верить потому, что во вдохновении Мочалова многие из его недругов видели лишь испарение винной влаги. А его последователям и поклонникам в артистической среде такие слухи дали впоследствии основание искать таланта и вдохновения на дне стакана.
Прежде чем перейти к характеристике дарования и артистической деятельности Мочалова, добавим еще несколько черт к характеристике его как человека. Мочалов с добротою и благородством соединял большую скромность и даже застенчивость. Религиозность, великодушие и отзывчивость на нужды ближнего тоже заметно выделялись в его характере. В искусстве, говорится в одном из воспоминаний о Мочалове, он был больше поэтом, нежели художником, а в жизни – чаще ребенком, нежели человеком.
Мочалов любил литературу, много читал, был знаком и переписывался с некоторыми из писателей, и сам не был чужд литературным занятиям. Он писал стихотворения и пьесы для сцены, из которых одна была поставлена. Стихотворения Мочалова, напечатанные при его жизни, не имеют выдающегося литературного значения, но для характеристики их автора они могут дать некоторый материал. Их элегический, грустный строй звучит тоской, неудовлетворенностью, заглушенными порывами к счастью, почти отчаянием.
Умер Мочалов далеко еще не старым – 48 лет (16 марта 1848 года). Москва торжественно проводила своего любимца на вечный могильный покой Ваганьковского кладбища и с тех пор не видала на сцене таланта такой силы. Много искренних слез пролилось тогда об этой безвременной утрате гениального артиста и доброго человека. Могила Мочалова «возобновлена» в 1892 году Обществом для пособия нуждающимся сценическим деятелям. Почтить память покойного трагика сошлось при этом на кладбище так много публики, сколько и нельзя было ожидать почти через 50 лет после его смерти…
На памятнике, поставленном на могиле Мочалова лет через десять после его смерти, вырезана следующая эпитафия:
Ты слыл безумцем в мире этом,
И бедняком ты опочил,
И лишь пред избранным поэтом
Земное счастье находил.
Так спи ж, безумный друг Шекспира,
Оправдан вечности Отцом,
Вещал он, что премудрость мира —
Безумство пред его судом.
«Безумный друг Шекспира» благодаря особенно увлекательным статьям о нем Белинского оставил навсегда свое имя бессмертным в истории русской литературы и театра. Всякий, читавший Белинского, не мог не остановиться с особенным интересом на статьях о Мочалове, характеризующих его талант вообще и исполнение некоторых ролей, в особенности роли Гамлета. Белинский увлекался игрой Мочалова, наслаждался минутами его артистического вдохновения. Он ставил талант Мочалова, несмотря на все его недостатки, выше таланта петербургского артиста Каратыгина, игра которого была всегда строго выдержана; но не столько действовала на чувство, сколько на ум. Игра Мочалова, состоявшая из вспышек искреннего, неподдельного чувства, вполне гармонировала с искренностью и страстностью увлечений Белинского. Мочалов мог считать себя счастливым, что он нашел такого горячего поклонника и такого художественного судью в Белинском, увековечившим его имя в литературе. Без этого литературного памятника имя Мочалова не умерло бы, конечно, в истории театра, но с этим именем не соединялось бы такого яркого представления, какое получается после чтения статей Белинского.
Талант Мочалова не был общепризнанным. Одни, говорит Белинский, видели в нем высшую степень совершенства, до какой может доходить трагический талант; другие видели в нем совершенно бездарного актера. И Белинский находит, что последнее суждение имело свое основание в том, что Мочалов, наделенный богатыми сценическими средствами, пренебрегал их развитием и обработкой. Некоторые из современников Мочалова не согласны с этим и находят, что Мочалов трудился всегда усердно и добросовестно. Но печальная справедливость упрека, сделанного Белинским, очевидна.
Природные «средства» Мочалова были необыкновенно выразительны, и самым прекрасным из них являлся его голос. Это был тенор, мягкий и звучный, нежный и сильный, проникавший в душу. Переходы и переливы голоса были разнообразны и красивы; его шепот был слышен в верхних галереях; его голосовые удары заставляли невольно вздрагивать. Голос Мочалова способен был выражать все оттенки страстей: в нем слышны были и громовой рокот отчаяния, и порывистые крики бешенства и мщения, и тихий шепот сосредоточившегося в себе негодования, – шепот, который раздавался бывало по всему театру, и каждое слово доходило до сердца и слуха зрителя, – и мелодический лепет любви, и язвительность иронии, и спокойно-высокое слово.
Фигура Мочалова была не особенно сценична: он был среднего роста и немного сутуловат. Но в страстные минуты вдохновения он, казалось, вырастал и делался стройным. Тогда голова его с черными вьющимися волосами, могучие плечи особенно поражали, а черные глаза казались замечательно выразительными. Лицо его было создано для сцены. Красивое и приятное в спокойном состоянии духа, оно было изменчиво и подвижно – настоящее зеркало всевозможных ощущений, чувств и страстей.
Но эти благодатные артистические данные много теряли оттого, что игра Мочалова, не подчиненная требованиям искусства, была в высшей степени неровна. Он всегда надеялся на вдохновение, на какое-то наитие, овладевавшее всем его существом и придававшее его речи и жестам что-то пламенное и увлекательное. Поэтому он всегда находился в зависимости от расположения духа. Найдет на него одушевление, говорит Белинский, и он удивителен, бесподобен; нет одушевления – и он впадает в пошлость и тривиальность. Тогда невысокий рост его делался на сцене большим недостатком, вся фигура его становилась неприятной, манеры – безобразными. Понимая, что он играет дурно, Мочалов выходил из себя и, желая возбудить насильно в себе вдохновение, кричал, кривлялся, хлопал себя руками по бедрам, ломался, – и оттого становился еще нестерпимее. Иногда Мочалов бывал превосходен только в нескольких актах трагедии, иногда – в одном; иногда одно и то же место пьесы исполнял в различных спектаклях совершенно по-разному. Случалось, что и плохую пьесу «выносил» один на своих плечах.
И несмотря на то, что такая невыдержанная игра должна была производить тяжелое впечатление на зрителей, во всех отзывах современников признается за его игрой неотразимое обаяние тех мучительно-сладких и могущественных впечатлений, которые, по выражению Белинского, производила на них его страстная, простая и в высшей степени натуральная игра. Зритель под бременем волновавших его ощущений не успевал приходить в себя, чтобы ясно видеть оттенки игры и замечать неровности и небольшие промахи. Естественность игры Мочалова была необычайна для тогдашних понятий о драматическом искусстве. Заговорить в трагедии по-человечески среди декламирующего ансамбля было делом великого самобытного таланта, ибо этого пути Мочалову никто не указывал. Щепкину как комику было легче вступить на эту дорогу. Мочалов в качестве трагика был поставлен совершенно в другие условия. Ложноклассические приемы игры далеко еще не исчезли бесследно. Напыщенность и деланные эффекты считались тогда еще принадлежностью трагического таланта. Немудрено поэтому, что игра Мочалова казалась современным зрителям даже тривиальной, не соответствующей важности трагедии. Один из критиков замечает об игре Мочалова в роли Отелло (1828), что натуральность доходила у него до излишней простоты. «Но причиною сему, – замечает он, – как кажется, напыщенный тон других лиц и слог перевода; все декламируют по нотам, и странно слышать одного, говорящего по-человечески». Этим отчасти, вероятно, объяснялся сравнительный неуспех дебютов Мочалова в Петербурге, где привыкли к ложноклассической игре больше, чем в Москве. Впрочем, тут могла быть и другая причина: вдохновение не осеняло Мочалова, или, может быть, он «старался» играть хорошо – и играл плохо.
С внешней стороны игра Мочалова как основанная на внутреннем вдохновении была большей частью очень слаба; костюмироваться и гримироваться Мочалов не был особенным мастером. В исполнении своих ролей Мочалов отличался образцовой добросовестностью. Он всегда знал их твердо, и суфлер ему был решительно не нужен. Мимика Мочалова была замечательной благодаря подвижному и выразительному лицу, и поэтому немые сцены выходили у него поразительными. Увлекаясь игрою, Мочалов забывал, что он на сцене, и жил жизнью изображаемого лица. Он не помнил в это время, как нужно обращаться с окружающими, и нередко игравшие с ним артисты возвращались домой с синяками на руках, сделанными Мочаловым в порыве сценического увлечения.
Мочалов вступал на артистическое поприще в ту эпоху, когда на русской сцене отошли уже в область воспоминаний трагедии Сумарокова и Княжнина, когда кончалось обаяние трагедий Озерова и наступила пора переводной, а затем и русской мелодрамы и классических трагедий Шекспира и Шиллера. В этом репертуаре Мочалов бессменно тридцать лет занимал первое амплуа и переиграл огромное число ролей. Из переводных мелодрам в репертуаре Мочалова главное место занимали пьесы Коцебу, из русских – Шаховского, Полевого, Ободовского и Кукольника. Приходилось Мочалову играть главные роли и в комедиях – например, Альмавиву в «Севильском цирюльнике» и Чацкого – в «Горе от ума». Из шекспировского репертуара Мочалов играл Гамлета, Отелло, Лира, Кориолана, Ромео, Ричарда III; из шиллеровского – Франца и Карла Мооров («Разбойники»), Дон-Карлоса, Фердинанда и Миллера («Коварство и любовь»), Мортимера («Мария Стюарт»).
Одною из лучших ролей Мочалова был Гамлет. В первый раз «Гамлет», в переводе Полевого, был поставлен 22 января 1837 года. Выдающимся местом в игре Мочалова в этой трагедии была сцена после представления странствующих актеров. По невольному душевному порыву или по заранее обдуманному расчету Мочалов-Гамлет, сидевший у ног Офелии, вскочил и в припадке истерической радости начал прыгать по сцене, хохоча и требуя музыки. Незаметной чертой разграничивалось здесь смешное от ужасного: трагик мог произвести первое впечатление, и тогда бы все погибло, но он произвел второе и – выказал в себе великого артиста.
Поразительно хорошо играл Мочалов роль Мейнау в мелодраме Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние». Рассказывают, будто он так любил эту роль, что завещал положить себя в гроб в костюме Мейнау. Пьеса эта принадлежала к числу тех немногих, в которых Мочалов всегда был одинаково ровен и хорош. Он исполнял роль обманутого мужа, удалившегося в уединение и впавшего в мизантропию. В его исполнении слащавая, неестественная мелодрама становилась глубоко потрясающей драмой. Сосредоточенное горе, оскорбленное самолюбие, душевная тоска – все это было сыграно не только глубоко просто, но и глубоко трогательно. Лучшая сцена – встреча с другом и рассказ о своем несчастии. Рассказ этот, монолог в несколько страниц, он передавал художественно. Он не позволял себе ни возвышать голоса, ни прибегать к жестам, но каждое слово его тяжело падало на сердце слушателя. Начинал он этот рассказ спокойно и как бы равнодушно, но потом мало-помалу поддавался охватывающему его чувству, которое тут же сообщалось зрителям; с каждым словом сильнее и сильнее двигал он их сердца изображением накопившейся душевной горести, наконец не мог удержать слез, – этих нежданных, давно забытых своих знакомцев. К концу рассказа среди публики и между актерами не было никого, кто бы не прослезился; женские рыдания слышались в театре.
Роль Фердинанда в трагедии Шиллера «Коварство и любовь» также была торжеством Мочалова, исполнявшего ее в пору молодости. Сердце замирало у зрителей, когда Мочалов-Фердинанд, придя в последний раз к Луизе Миллер, с чувством боязни и надежды допытывался у нее, она ли написала письмо, и восклицал: «Солги, солги, Луиза!» Так же потрясающа была и роль Карла Моора в «Разбойниках». Вся публика, рассказывает очевидец, была в каком-то опьянении, а в сцене свидания Карла Моора с отцом среди мертвой тишины в зрительном зале вдруг послышался стон.
Во французской мелодраме «Тридцать лет, или Жизнь игрока» Мочалов исполнял роль игрока. Мочалов в этой пьесе держал зрителей в постоянно напряженном состоянии духа. Особенно был замечателен третий акт, где разорившийся игрок живет в горах, среди развалин. Нищета сделала его преступником: он убил путника, ограбил его и воротился домой к жене и дочери. Он просит пить. Дочь, подавая стакан воды, замечает, что у него рукава в крови. Надобно было видеть лицо Мочалова, чтобы судить о его душевном состоянии при этих словах. Он был ужасен. Бормоча: «Кровь! Кровь!» – он судорожно обтирал рукава, а сам, бледный, с искаженным лицом, улыбался какой-то страшной улыбкой.
Точно так же поразительна была сцена в четвертом акте мелодрамы «Клара д’Обервиль», когда Мочалов-граф, подозревающий свою жену в измене, видит в зеркало своего друга, вливающего ему в лекарство яд. Граф не верит тому, что видит, сомневается, колеблется, наконец убеждается в страшной истине, дрожит, становится бледнее полотна и страшным голосом восклицает: «Отравитель!..» Зрители переживали все эти ощущения, бледнели, невольно приподнимались вместе с ним с мест, – они были в обаятельной власти артиста.
Эти высокохудожественные моменты вдохновения западали так глубоко в души зрителей, что через многие десятки лет, на склоне жизни, они, вспоминая игру Мочалова, снова как бы переживали былое наслаждение. В этих моментах, в этой необыкновенной яркости, правдивости и силе производимого впечатления и заключалось обаяние Мочалова. Отсюда понятно и то огромное значение, которое он имел как артист, как правдивый толкователь перед тысячами зрителей драматических образов, созданных великими поэтами, или тех образов, которые он творил как великий художник из самого неблагодарного материала.
Совершенной противоположностью Мочалову был артист петербургской сцены Каратыгин. Оба они были ровесники со схожими амплуа трагиков, их деятельность проходила в одно и то же время – и этим ограничивалось общее между ними.
Василий Андреевич Каратыгин родился 26 февраля 1802 года. Отец его, Андрей Васильевич, был актером петербургского театра, а мать, Александра Дмитриевна, до замужества Перлова, – актриса. Закулисная хроника считает Каратыгина сыном знаменитого актера Яковлева, который безумно любил Перлову-Каратыгину. Она была в высшей степени симпатичная женщина, умная и красивая, нежная мать, а как артистка стояла в ряду даровитейших драматических актрис своего времени и была ученицей Дмитревского.
Каратыгин получил образование в гимназии и в Горном корпусе. Окончив курс, он избрал чиновничью карьеру и поступил на службу. Но театральная среда, в которой он жил с самого рождения, оказала свое влияние. В домашних спектаклях юный Каратыгин обнаружил задатки сценического дарования. Это заметил князь А. А. Шаховской и предложил заняться сценическим образованием будущего трагика. Каратыгин стал брать уроки у князя Шаховского и через полгода выступал уже в школьном театре в числе других учеников. Дирекция театров предложила ему дебютировать, но родители на время отложили дебют сына, тогда еще очень юного: ему было немногим больше 16 лет.
Каратыгин продолжал бывать у Шаховского и тут приобрел новое знакомство, оказавшееся для него чрезвычайно важным. Он познакомился с другим театралом и писателем, переводчиком трагедий Расина и Корнеля П. А. Катениным, тогда штабс-капитаном Преображенского полка. По предложению своего нового знакомого Каратыгин стал заниматься с ним сценическим искусством. Катенин был человек высокого и разностороннего образования и обширного ума, знал прекрасно несколько европейских языков и отлично понимал практику и теорию сценического искусства. Ему Каратыгин был обязан довершением своего образования, привычкой к добросовестной работе и серьезными взглядами на искусство. Занятия их были полны классической строгости и постоянного неутомимого труда.
Первый раз Каратыгин дебютировал 3 мая 1820 года в трагедии Озерова в роли Фингала. Через 10 дней для второго дебюта он сыграл роль царя Эдипа, еще через неделю – Танкреда в трагедии Вольтера, и месяца через полтора – роль князя Пожарского. Все дебюты были удачны, и Каратыгин был принят в труппу.
Появление на сцене молодого талантливого артиста было встречено публикой сочувственно, но за кулисами образовалась партия его соперников и завистников. Это более или менее общее явление на театральных подмостках в данном случае усиливалось еще и тем, что Каратыгиным многие были недовольны. Князь Шаховской был недоволен тем, что Каратыгин изменил ему для Катенина; всесильная тогда за кулисами трагическая актриса Семенова относилась к нему с пренебрежением. Каратыгин был близок с Катениным, строгим критиком и небезусловным поклонником ее таланта, и с Колосовой, только что появившейся драматической актрисой, которая обещала сделаться соперницей Семеновой. К недоброжелателям Каратыгина примкнуло, по одному случаю, и театральное начальство, засадившее молодого артиста в 1822 году в Петропавловскую крепость.
Этот характерный эпизод из театрального прошлого произошел так. Директору театров А. А. Майкову как-то показалось, что Каратыгин в танцевальном зале театрального училища позволил себе сидеть в его присутствии. Директор тут же распек Каратыгина, несмотря на его заявление, что он не видел своего начальства. Затем не замедлили явиться и серьезные осложнения из-за этого события. На другой день Каратыгин по приказанию главного начальника театров, военного генерал-губернатора графа Милорадовича был арестован и отвезен в крепость. Пораженная горем мать бросилась к графу и на коленях умоляла его выпустить сына на свободу. Граф, наконец, смилостивился и сказал: «Этот урок был нужен молодому либералу, который набрался вольного духу от своего учителя Катенина». На другой день, просидев двое суток, Каратыгин был выпущен из крепости.
В том же году он понес чувствительную потерю в лице своего наставника и друга Катенина, который, по проискам Семеновой, был выслан из Петербурга в свою деревню. Этими двумя эпизодами омрачилась деятельность начинающего артиста. Но скоро горизонт прояснился, и Каратыгин занял первое место на петербургской сцене. Время с 1825 года по 1845-й было самой блестящей порой его артистических успехов.
В 1827 году Каратыгин женился на артистке Александре Михайловне Колосовой. Колосова, выдающаяся артистка драмы и высокой комедии, получила прекрасное образование и художественное развитие, знала иностранные языки, бывала за границей и видала игру лучших артистов того времени. Такая жена должна была служить твердой опорой своему мужу в его серьезном отношении к искусству. И когда она в 1844 году покинула сцену, Каратыгин стал с меньшей охотой работать. Но это не значило, что он пренебрегал своим делом, которому служил до самой смерти с одинаковым успехом и с прежними воззрениями на искусство.
13 марта 1853 года Каратыгин в полной силе своего таланта скончался от «простудной болезни». В последний раз он играл за две недели до своей смерти. Торжественные похороны на Смоленском кладбище закончили его земной путь.
Каратыгин принадлежал к числу замечательных деятелей русского театра. Выступив, как и Мочалов, в то время, когда ложноклассическая трагедия сходила с русской сцены, он остался последователем приемов старой школы. Каратыгин не обладал, как Мочалов, необыкновенным запасом внутреннего чувства, и это предначертало ему путь строгого изучения законов искусства. Общее и художественное образование под руководством Катенина положило прочную основу всей деятельности Каратыгина, бывшего одним из образованнейших русских актеров.
В Каратыгине русская сцена имела последнего знаменитого преемника тех классических традиций, которые шли еще от Дмитревского. В игре Каратыгина не было уже, конечно, той неестественности, которая отличала актеров-декламаторов. Но не было и той простоты и естественности, которая характеризовала игру Мочалова и была утверждена Щепкиным как художественный принцип русского сценического искусства. Сам репертуар, в котором выступил Каратыгин, требовал известной приподнятости игры, известного удаления от простых смертных в область героев и полубогов. Таковы были главные действующие лица трагедий Расина, Корнеля и Вольтера, трагедий Озерова, французских переделок Шекспира. Затем следовали мелодрамы, наконец тот же характер сценического изображения оставался и для героев трагедий Шекспира и Шиллера. Из репертуара этих двух последних Каратыгин играл Гамлета, Ромео, Лира, Отелло, Кориолана – Шекспира; Карла Моора, Франца Моора, Дон-Карлоса, маркиза Позу, Лейчестера, Вильгельма Телля, Дон Сезара и Фердинанда – Шиллера.
Внешние данные вполне соответствовали трагическому амплуа Каратыгина. Величественная фигура, пластичные движения, замечательно выработанная дикция уже сами по себе производили на зрителей сильное впечатление. Но самым главным в игре Каратыгина была разработка ролей до мельчайших деталей. Каждый шаг на сцене, каждый жест, поза, изменение голоса были строго обдуманы и приноровлены к характеру изображаемого лица. Костюмы и гримировка поражали своей точностью и художественным вкусом. Сценические образы, создаваемые Каратыгиным, были цельными от начала до конца, как бы изваянными мастерским резцом скульптора. Каждая роль велась по продуманному плану и не допускала никаких уклонений. На это полагалось много добросовестного труда, знаний и понимания сценического искусства, – и в этом – огромная заслуга Каратыгина.
Глава V. Павел Степанович Мочалов и Василий Андреевич Каратыгин
Время деятельности Щепкина на московской сцене было самой блестящей эпохой в историческом ходе развития русского сценического искусства. В этот период появилась и служила русской сцене плеяда выдающихся артистов, из которых замечательнейшими были Мочалов и Садовский на московской сцене и Каратыгин и Мартынов – на петербургской.
Имя Мочалова стоит наряду с именем Щепкина по той популярности, которой оно пользовалось при его жизни, и по тем отзывам и воспоминаниям, полным восторженного поклонения, которыми навсегда запечатлелось это имя в памяти потомства. Мочалов, как и Щепкин, принадлежал к числу гениальных людей, но между ними была громадная разница. Гений Щепкина развивался и поддерживался упорным трудом, а гений Мочалова, ослабляемый небрежным за ним уходом, достигал полной своей силы лишь временами.
«В мире искусства, – говорит Белинский, посвятивший Мочалову много горячо написанных строк, – Мочалов – пример поучительный и грустный. Он доказал, что одни природные средства, как бы они ни были огромны, но, без искусства и науки доставляют торжества только временные, и часто человек лишается их именно в ту эпоху своей жизни, когда бы им следовало быть в полном их развитии».
Павел Степанович Мочалов родился 3 ноября 1800 года. Отец его, Степан Федорович, был известный в свое время актер-трагик московского театра. О детстве и юности Мочалова, о его воспитании нет сведений. Известно, что он слушал лекции в Московском университете, но, во всяком случае, образование его осталось незаконченным. Детство он провел в семье и, вероятно, воспитывался под отцовским влиянием. О Мочалове-отце как о человеке известно тоже очень мало. Был он человек добрый, но недостаточно развитый, дававший волю своим страстям и чувствам. Как артист Мочалов-отец был очень даровит и обладал прекрасными физическими данными. Талант в нем был заметен, но лишь в двух-трех ролях он был безукоризненно хорош. Амплуа его составляли роли драматических любовников, резонеров и героев. В его игре видно было отсутствие работы, искусства и даже, по словам С. Т. Аксакова, понимания изображаемого лица. Принадлежа к старой школе актеров, Мочалов-отец не пренебрегал и эффектами, а это еще больше убивало его талант. У него был один излюбленный прием игры, блистательно удавшийся ему с первого раза и восхищавший тогдашнюю публику. В каком-нибудь месте своей роли Мочалов-отец бросался на авансцену и с неподдельным чувством, с огнем, вылетавшим прямо из души, скорым полушепотом произносил несколько стихов или несколько строк прозы – и обыкновенно увлекал публику. В первый раз это был действительно порыв, вспышка кипучего чувства. Но, заметив успех, Мочалов стал употреблять этот эффект все чаще и чаще, уже и без чувства, и невпопад. Публика продолжала рукоплескать. Это избаловало актера, он начал плохо учить новые роли, забывал старые, изменился, загулял и стал падать во мнении публики, пока не понял своих промахов.
Театральная среда, в которой родился и вырос Мочалов-сын, обусловила и его жизненный путь, а отец-актер явился первым его учителем сценического искусства. Влияние отцовской школы должно было отразиться на игре сына, но талант последнего победил воспринятое с детства ложное понимание искусства, и в лице Мочалова-сына русская сцена увидала великого актера, жившего на сцене жизнью изображаемых героев и возвышавшегося до гениальных созданий.
Мочалов посвятил себя театру с 17 лет. 4 сентября 1817 года, подготовленный отцом к дебюту, он выступил в первый раз на сцене московского театра в роли Полиника в трагедии Озерова «Эдип в Афинах». С первого же выступления Мочалов имел успех. В юноше сказывалась уже главная черта его дарования – неподдельное чувство, вдохновение, – и скоро он вступил на тот путь развития своего таланта, с которого не сходил до последних лет своей деятельности. В первые же годы обнаружились все достоинства и недостатки сценического таланта Мочалова. В критической заметке, относящейся к первому десятилетию деятельности Мочалова, читаем уже прочувствованные похвалы его игре и замечания о ее недостатках. Речь идет о роли Аристофана. «Сколько огня, сколько чувства и даже силы было в его сладком, очаровательном голосе! Как он хорош был собой и какие прекрасные, послушные и выразительные имел он черты лица! Все чувства, как в зеркале, отражались в его глазах. Греческий хитон и мантия скрывали недостатки его телосложения и дурные привычки известных движений». И тут же рассказывается, что талант Мочалова не поддерживался трудом и не поддавался обработке: когда он «старался» играть как можно лучше, то всегда играл хуже.
Это было в 20-х годах, при управлении московскими театрами Кокошкина. Живший тогда в Москве князь А. А. Шаховской, тонкий ценитель талантов и знаток сцены, говорил про Мочалова: «Он только тогда и хорош, когда не рассуждает, и я всегда прошу его об одном, чтобы он не старался играть, а старался не думать только, что на него смотрит публика. Это гений по инстинкту, ему надо выучить роль и сыграть; попал – так выйдет чудо, а не попал – так выйдет дрянь». С Мочаловым бывали такие случаи. Играл он однажды в комедии «Пустодомы» роль князя Радугина, играл «спустя рукава» и – был неподражаем: это была сама натура, изображенная с замечательною тонкостью в разработке отдельных штрихов. Не желая его смущать, автор пьесы, князь Шаховской, только по окончании ее бросился в уборную, обнимал и целовал недовольного собою Мочалова и восторженно восклицал: «Тальма! – какой Тальма? Тальма в слуги тебе не годится: ты был сегодня Бог!» Через некоторое время приезжает в Москву какая-то знатная особа и в разговоре с Шаховским пренебрежительно отзывается о таланте Мочалова. Шаховской обижается и, чтобы показать московскую знаменитость во всем блеске, назначает «Пустодомов». На беду об этом узнал Мочалов, «постарался» играть свою роль и – «был невыносимо дурен».
Проходит еще десять, двадцать лет. И во всех отзывах об игре Мочалова, в восторженных статьях Белинского, наконец, в посмертных воспоминаниях о гениальном трагике – везде находим одни общие строки: игра Мочалова была неровна. То она ослепляла ярким блеском пламенного вдохновения, то омрачала эстетическое чувство его поклонников тусклою деланностью игры посредственного актера.
Так оно и было, и разгадку этого явления надо искать в свойстве таланта Мочалова, в его натуре и обстоятельствах жизни. Мочалов в своей сценической карьере шел совершенно иным путем, чем Щепкин, всю жизнь стремившийся развивать себя и совершенствовать свой талант. По своей кипучей и страстной натуре Мочалов принадлежал к тем людям, которые живут преимущественно сердцем, а не головой. Добрый, честный, благородный, но со слабо развитой силой воли, он был способен быстро увлекаться до проявления бурной страсти и так же быстро охладевать. Слава осветила ему жизненную дорогу с первых же шагов его на сцене. Он сознавал в себе могучую силу артистического вдохновения, которая без труда, сама по себе, может двигать сердцами многих тысяч зрителей. Гордый этим сознанием, Мочалов пренебрегал работой над своим талантом. Воспитание не укоренило в нем убеждения в необходимости труда, какими бы достоинствами и талантами ни обладал человек. К тому же при всей своей порывистости Мочалов не отличался общительностью, избегал или, по крайней мере, не искал общества развитых людей. В этом сказывалось, может быть, нежелание явиться среди посторонних людей со своими пробелами в образовании. Бывали попытки ввести Мочалова в круг людей, способных оценить по достоинству его талант, указать ему на его недостатки и помочь от них избавиться. Но эти попытки не приводили к цели, и Мочалов оставался или почти одиноким, или среди людей низменных вкусов и неразвитого ума, дурно влиявших на него как на человека и артиста.
С. Т. Аксаков, один из представителей тогдашнего образованного общества, литератор и театрал, рассказывает, как в 1826 году он решил сойтись ближе с Мочаловым и ввести его в круг мыслящих людей. Тогда Мочалов даже у Кокошкина, где собирались актеры, бывал только по официальному приглашению. А туда ему попасть было уже совершенно легко, тем более что Кокошкин любил и поощрял молодого артиста. Когда Аксаков высказал свое желание, Мочалов ответил согласием. Он, по словам Аксакова, не умел выражать хорошо своих внутренних движений, но, очевидно, был тронут участием и в несвязных словах пробормотал, что сочтет за счастье воспользоваться оказанным ему расположением. Сначала Мочалов хаживал к Аксакову, но только по утрам, чтобы ни с кем у него не встретиться. Они читали друг другу то Пушкина, то Баратынского, то Козлова, который особенно нравился Мочалову. Много говорили о театре, о сценических условиях, о той мере огня и чувства, которой владели славные актеры. «Но, – вспоминает Аксаков, – я видел, что, несмотря на ответы Мочалова: „Да-с, точно так-с, совершенно справедливо-с!“ – слова мои отскакивали от него, как горох от стены». Кончилось тем, что Мочалов пришел как-то к Аксакову в состоянии сильного опьянения, – и с тех пор не бывал уже в его доме.
Пристрастие к вину было самым большим злом в жизни Мочалова. Нет твердо установленных фактов, чтобы показать, как развилась в нем эта пагубная страсть. Но нам думается, что в процессе этого развития было много общего с таким же фактом из жизни другого знаменитого представителя русской сцены, тоже вдохновенного трагика, – Яковлева. В натуре и таланте обоих артистов было много общего. В вулканической натуре Мочалова таились скрытые душевные силы, не направленные с юношеских лет к плодотворному исходу. Пылкая, но мягкая натура не выдерживала напора этих сил, начиналась внутренняя борьба, желание удовлетворить запросы души и сердца становилось болезненным. Обстоятельства складывались дурно. И жизнь, и счастье для Мочалова сосредоточивались на сцене. Но искусство дает своим жрецам, в самой их деятельности, невыразимое наслаждение и строго карает тех из них, кто плодотворным трудом не приносит дани своему богу и зарывает талант в землю. Мочалов был один из таких служителей искусства. Минуты вдохновенной игры доставляли ему и славу, и артистическое наслаждение. Но что должен он был переживать в те мучительные минуты, когда его гений отлетал от него, и великий артист из полубога, заставлявшего дрожать сердечные струны тысячной толпы зрительного зала, превращался в заурядного актера, лишенного всякого обаяния? Кто мог заменить Мочалову покинувшего его духа артистического вдохновения, что могло утешить его, ослабить горесть потери? Труд? Но он не знал, как и взяться за него. Люди? Но мы уже видели, как он чуждался их. А сама судьба не была в этом случае милостива к Мочалову: она не посылала ему человека с теплой, любящей душой, который бы согрел и осветил его лучом любви и дружбы. Семейная жизнь не доставила ему полного счастья; близких друзей, способных стать на уровне потребностей его души, у него не было. В чем мог он находить отраду, отдых? В стихах, в которых он изливал свои чувства? Но это было слишком недостаточным и, пожалуй, сентиментальным для полной жизни натуры Мочалова. Оставалось вино – и этой водою забвения слабый волею человек врачевал свои сердечные раны, утешал душевные бури и разгонял мрачные думы и сомнения.
Мы не станем приводить эпизодов из жизни Мочалова на тему о его злой страсти, рассказанных в различных воспоминаниях о нем. В этих рассказах, надо заметить, есть преувеличения, общий колорит слишком мрачен, краски слишком сгущены. Мочалов не был таким гулякой и пропойцей, каким рисуют его в некоторых воспоминаниях, написанных, по-видимому, по слухам, которые в устах народной молвы относительно замечательных людей превращаются всегда в легенды. Правда, он пил, но это не было беспросыпное пьянство упавшего низко человека. Одно близкое к Мочалову лицо рассказывало нам, что он никогда не пил другого вина, кроме виноградного, и никогда не выходил на сцену под влиянием даров Бахуса. Часто и горько он раскаивался в своей страсти, давал слово победить ее, но наступала роковая минута – и победа оставалась не за ним.
Последним показаниям особенно охотно хочется верить потому, что во вдохновении Мочалова многие из его недругов видели лишь испарение винной влаги. А его последователям и поклонникам в артистической среде такие слухи дали впоследствии основание искать таланта и вдохновения на дне стакана.
Прежде чем перейти к характеристике дарования и артистической деятельности Мочалова, добавим еще несколько черт к характеристике его как человека. Мочалов с добротою и благородством соединял большую скромность и даже застенчивость. Религиозность, великодушие и отзывчивость на нужды ближнего тоже заметно выделялись в его характере. В искусстве, говорится в одном из воспоминаний о Мочалове, он был больше поэтом, нежели художником, а в жизни – чаще ребенком, нежели человеком.
Мочалов любил литературу, много читал, был знаком и переписывался с некоторыми из писателей, и сам не был чужд литературным занятиям. Он писал стихотворения и пьесы для сцены, из которых одна была поставлена. Стихотворения Мочалова, напечатанные при его жизни, не имеют выдающегося литературного значения, но для характеристики их автора они могут дать некоторый материал. Их элегический, грустный строй звучит тоской, неудовлетворенностью, заглушенными порывами к счастью, почти отчаянием.
Умер Мочалов далеко еще не старым – 48 лет (16 марта 1848 года). Москва торжественно проводила своего любимца на вечный могильный покой Ваганьковского кладбища и с тех пор не видала на сцене таланта такой силы. Много искренних слез пролилось тогда об этой безвременной утрате гениального артиста и доброго человека. Могила Мочалова «возобновлена» в 1892 году Обществом для пособия нуждающимся сценическим деятелям. Почтить память покойного трагика сошлось при этом на кладбище так много публики, сколько и нельзя было ожидать почти через 50 лет после его смерти…
На памятнике, поставленном на могиле Мочалова лет через десять после его смерти, вырезана следующая эпитафия:
Ты слыл безумцем в мире этом,
И бедняком ты опочил,
И лишь пред избранным поэтом
Земное счастье находил.
Так спи ж, безумный друг Шекспира,
Оправдан вечности Отцом,
Вещал он, что премудрость мира —
Безумство пред его судом.
«Безумный друг Шекспира» благодаря особенно увлекательным статьям о нем Белинского оставил навсегда свое имя бессмертным в истории русской литературы и театра. Всякий, читавший Белинского, не мог не остановиться с особенным интересом на статьях о Мочалове, характеризующих его талант вообще и исполнение некоторых ролей, в особенности роли Гамлета. Белинский увлекался игрой Мочалова, наслаждался минутами его артистического вдохновения. Он ставил талант Мочалова, несмотря на все его недостатки, выше таланта петербургского артиста Каратыгина, игра которого была всегда строго выдержана; но не столько действовала на чувство, сколько на ум. Игра Мочалова, состоявшая из вспышек искреннего, неподдельного чувства, вполне гармонировала с искренностью и страстностью увлечений Белинского. Мочалов мог считать себя счастливым, что он нашел такого горячего поклонника и такого художественного судью в Белинском, увековечившим его имя в литературе. Без этого литературного памятника имя Мочалова не умерло бы, конечно, в истории театра, но с этим именем не соединялось бы такого яркого представления, какое получается после чтения статей Белинского.
Талант Мочалова не был общепризнанным. Одни, говорит Белинский, видели в нем высшую степень совершенства, до какой может доходить трагический талант; другие видели в нем совершенно бездарного актера. И Белинский находит, что последнее суждение имело свое основание в том, что Мочалов, наделенный богатыми сценическими средствами, пренебрегал их развитием и обработкой. Некоторые из современников Мочалова не согласны с этим и находят, что Мочалов трудился всегда усердно и добросовестно. Но печальная справедливость упрека, сделанного Белинским, очевидна.
Природные «средства» Мочалова были необыкновенно выразительны, и самым прекрасным из них являлся его голос. Это был тенор, мягкий и звучный, нежный и сильный, проникавший в душу. Переходы и переливы голоса были разнообразны и красивы; его шепот был слышен в верхних галереях; его голосовые удары заставляли невольно вздрагивать. Голос Мочалова способен был выражать все оттенки страстей: в нем слышны были и громовой рокот отчаяния, и порывистые крики бешенства и мщения, и тихий шепот сосредоточившегося в себе негодования, – шепот, который раздавался бывало по всему театру, и каждое слово доходило до сердца и слуха зрителя, – и мелодический лепет любви, и язвительность иронии, и спокойно-высокое слово.
Фигура Мочалова была не особенно сценична: он был среднего роста и немного сутуловат. Но в страстные минуты вдохновения он, казалось, вырастал и делался стройным. Тогда голова его с черными вьющимися волосами, могучие плечи особенно поражали, а черные глаза казались замечательно выразительными. Лицо его было создано для сцены. Красивое и приятное в спокойном состоянии духа, оно было изменчиво и подвижно – настоящее зеркало всевозможных ощущений, чувств и страстей.
Но эти благодатные артистические данные много теряли оттого, что игра Мочалова, не подчиненная требованиям искусства, была в высшей степени неровна. Он всегда надеялся на вдохновение, на какое-то наитие, овладевавшее всем его существом и придававшее его речи и жестам что-то пламенное и увлекательное. Поэтому он всегда находился в зависимости от расположения духа. Найдет на него одушевление, говорит Белинский, и он удивителен, бесподобен; нет одушевления – и он впадает в пошлость и тривиальность. Тогда невысокий рост его делался на сцене большим недостатком, вся фигура его становилась неприятной, манеры – безобразными. Понимая, что он играет дурно, Мочалов выходил из себя и, желая возбудить насильно в себе вдохновение, кричал, кривлялся, хлопал себя руками по бедрам, ломался, – и оттого становился еще нестерпимее. Иногда Мочалов бывал превосходен только в нескольких актах трагедии, иногда – в одном; иногда одно и то же место пьесы исполнял в различных спектаклях совершенно по-разному. Случалось, что и плохую пьесу «выносил» один на своих плечах.
И несмотря на то, что такая невыдержанная игра должна была производить тяжелое впечатление на зрителей, во всех отзывах современников признается за его игрой неотразимое обаяние тех мучительно-сладких и могущественных впечатлений, которые, по выражению Белинского, производила на них его страстная, простая и в высшей степени натуральная игра. Зритель под бременем волновавших его ощущений не успевал приходить в себя, чтобы ясно видеть оттенки игры и замечать неровности и небольшие промахи. Естественность игры Мочалова была необычайна для тогдашних понятий о драматическом искусстве. Заговорить в трагедии по-человечески среди декламирующего ансамбля было делом великого самобытного таланта, ибо этого пути Мочалову никто не указывал. Щепкину как комику было легче вступить на эту дорогу. Мочалов в качестве трагика был поставлен совершенно в другие условия. Ложноклассические приемы игры далеко еще не исчезли бесследно. Напыщенность и деланные эффекты считались тогда еще принадлежностью трагического таланта. Немудрено поэтому, что игра Мочалова казалась современным зрителям даже тривиальной, не соответствующей важности трагедии. Один из критиков замечает об игре Мочалова в роли Отелло (1828), что натуральность доходила у него до излишней простоты. «Но причиною сему, – замечает он, – как кажется, напыщенный тон других лиц и слог перевода; все декламируют по нотам, и странно слышать одного, говорящего по-человечески». Этим отчасти, вероятно, объяснялся сравнительный неуспех дебютов Мочалова в Петербурге, где привыкли к ложноклассической игре больше, чем в Москве. Впрочем, тут могла быть и другая причина: вдохновение не осеняло Мочалова, или, может быть, он «старался» играть хорошо – и играл плохо.
С внешней стороны игра Мочалова как основанная на внутреннем вдохновении была большей частью очень слаба; костюмироваться и гримироваться Мочалов не был особенным мастером. В исполнении своих ролей Мочалов отличался образцовой добросовестностью. Он всегда знал их твердо, и суфлер ему был решительно не нужен. Мимика Мочалова была замечательной благодаря подвижному и выразительному лицу, и поэтому немые сцены выходили у него поразительными. Увлекаясь игрою, Мочалов забывал, что он на сцене, и жил жизнью изображаемого лица. Он не помнил в это время, как нужно обращаться с окружающими, и нередко игравшие с ним артисты возвращались домой с синяками на руках, сделанными Мочаловым в порыве сценического увлечения.
Мочалов вступал на артистическое поприще в ту эпоху, когда на русской сцене отошли уже в область воспоминаний трагедии Сумарокова и Княжнина, когда кончалось обаяние трагедий Озерова и наступила пора переводной, а затем и русской мелодрамы и классических трагедий Шекспира и Шиллера. В этом репертуаре Мочалов бессменно тридцать лет занимал первое амплуа и переиграл огромное число ролей. Из переводных мелодрам в репертуаре Мочалова главное место занимали пьесы Коцебу, из русских – Шаховского, Полевого, Ободовского и Кукольника. Приходилось Мочалову играть главные роли и в комедиях – например, Альмавиву в «Севильском цирюльнике» и Чацкого – в «Горе от ума». Из шекспировского репертуара Мочалов играл Гамлета, Отелло, Лира, Кориолана, Ромео, Ричарда III; из шиллеровского – Франца и Карла Мооров («Разбойники»), Дон-Карлоса, Фердинанда и Миллера («Коварство и любовь»), Мортимера («Мария Стюарт»).
Одною из лучших ролей Мочалова был Гамлет. В первый раз «Гамлет», в переводе Полевого, был поставлен 22 января 1837 года. Выдающимся местом в игре Мочалова в этой трагедии была сцена после представления странствующих актеров. По невольному душевному порыву или по заранее обдуманному расчету Мочалов-Гамлет, сидевший у ног Офелии, вскочил и в припадке истерической радости начал прыгать по сцене, хохоча и требуя музыки. Незаметной чертой разграничивалось здесь смешное от ужасного: трагик мог произвести первое впечатление, и тогда бы все погибло, но он произвел второе и – выказал в себе великого артиста.
Поразительно хорошо играл Мочалов роль Мейнау в мелодраме Коцебу «Ненависть к людям и раскаяние». Рассказывают, будто он так любил эту роль, что завещал положить себя в гроб в костюме Мейнау. Пьеса эта принадлежала к числу тех немногих, в которых Мочалов всегда был одинаково ровен и хорош. Он исполнял роль обманутого мужа, удалившегося в уединение и впавшего в мизантропию. В его исполнении слащавая, неестественная мелодрама становилась глубоко потрясающей драмой. Сосредоточенное горе, оскорбленное самолюбие, душевная тоска – все это было сыграно не только глубоко просто, но и глубоко трогательно. Лучшая сцена – встреча с другом и рассказ о своем несчастии. Рассказ этот, монолог в несколько страниц, он передавал художественно. Он не позволял себе ни возвышать голоса, ни прибегать к жестам, но каждое слово его тяжело падало на сердце слушателя. Начинал он этот рассказ спокойно и как бы равнодушно, но потом мало-помалу поддавался охватывающему его чувству, которое тут же сообщалось зрителям; с каждым словом сильнее и сильнее двигал он их сердца изображением накопившейся душевной горести, наконец не мог удержать слез, – этих нежданных, давно забытых своих знакомцев. К концу рассказа среди публики и между актерами не было никого, кто бы не прослезился; женские рыдания слышались в театре.
Роль Фердинанда в трагедии Шиллера «Коварство и любовь» также была торжеством Мочалова, исполнявшего ее в пору молодости. Сердце замирало у зрителей, когда Мочалов-Фердинанд, придя в последний раз к Луизе Миллер, с чувством боязни и надежды допытывался у нее, она ли написала письмо, и восклицал: «Солги, солги, Луиза!» Так же потрясающа была и роль Карла Моора в «Разбойниках». Вся публика, рассказывает очевидец, была в каком-то опьянении, а в сцене свидания Карла Моора с отцом среди мертвой тишины в зрительном зале вдруг послышался стон.
Во французской мелодраме «Тридцать лет, или Жизнь игрока» Мочалов исполнял роль игрока. Мочалов в этой пьесе держал зрителей в постоянно напряженном состоянии духа. Особенно был замечателен третий акт, где разорившийся игрок живет в горах, среди развалин. Нищета сделала его преступником: он убил путника, ограбил его и воротился домой к жене и дочери. Он просит пить. Дочь, подавая стакан воды, замечает, что у него рукава в крови. Надобно было видеть лицо Мочалова, чтобы судить о его душевном состоянии при этих словах. Он был ужасен. Бормоча: «Кровь! Кровь!» – он судорожно обтирал рукава, а сам, бледный, с искаженным лицом, улыбался какой-то страшной улыбкой.
Точно так же поразительна была сцена в четвертом акте мелодрамы «Клара д’Обервиль», когда Мочалов-граф, подозревающий свою жену в измене, видит в зеркало своего друга, вливающего ему в лекарство яд. Граф не верит тому, что видит, сомневается, колеблется, наконец убеждается в страшной истине, дрожит, становится бледнее полотна и страшным голосом восклицает: «Отравитель!..» Зрители переживали все эти ощущения, бледнели, невольно приподнимались вместе с ним с мест, – они были в обаятельной власти артиста.
Эти высокохудожественные моменты вдохновения западали так глубоко в души зрителей, что через многие десятки лет, на склоне жизни, они, вспоминая игру Мочалова, снова как бы переживали былое наслаждение. В этих моментах, в этой необыкновенной яркости, правдивости и силе производимого впечатления и заключалось обаяние Мочалова. Отсюда понятно и то огромное значение, которое он имел как артист, как правдивый толкователь перед тысячами зрителей драматических образов, созданных великими поэтами, или тех образов, которые он творил как великий художник из самого неблагодарного материала.
Совершенной противоположностью Мочалову был артист петербургской сцены Каратыгин. Оба они были ровесники со схожими амплуа трагиков, их деятельность проходила в одно и то же время – и этим ограничивалось общее между ними.
Василий Андреевич Каратыгин родился 26 февраля 1802 года. Отец его, Андрей Васильевич, был актером петербургского театра, а мать, Александра Дмитриевна, до замужества Перлова, – актриса. Закулисная хроника считает Каратыгина сыном знаменитого актера Яковлева, который безумно любил Перлову-Каратыгину. Она была в высшей степени симпатичная женщина, умная и красивая, нежная мать, а как артистка стояла в ряду даровитейших драматических актрис своего времени и была ученицей Дмитревского.
Каратыгин получил образование в гимназии и в Горном корпусе. Окончив курс, он избрал чиновничью карьеру и поступил на службу. Но театральная среда, в которой он жил с самого рождения, оказала свое влияние. В домашних спектаклях юный Каратыгин обнаружил задатки сценического дарования. Это заметил князь А. А. Шаховской и предложил заняться сценическим образованием будущего трагика. Каратыгин стал брать уроки у князя Шаховского и через полгода выступал уже в школьном театре в числе других учеников. Дирекция театров предложила ему дебютировать, но родители на время отложили дебют сына, тогда еще очень юного: ему было немногим больше 16 лет.
Каратыгин продолжал бывать у Шаховского и тут приобрел новое знакомство, оказавшееся для него чрезвычайно важным. Он познакомился с другим театралом и писателем, переводчиком трагедий Расина и Корнеля П. А. Катениным, тогда штабс-капитаном Преображенского полка. По предложению своего нового знакомого Каратыгин стал заниматься с ним сценическим искусством. Катенин был человек высокого и разностороннего образования и обширного ума, знал прекрасно несколько европейских языков и отлично понимал практику и теорию сценического искусства. Ему Каратыгин был обязан довершением своего образования, привычкой к добросовестной работе и серьезными взглядами на искусство. Занятия их были полны классической строгости и постоянного неутомимого труда.
Первый раз Каратыгин дебютировал 3 мая 1820 года в трагедии Озерова в роли Фингала. Через 10 дней для второго дебюта он сыграл роль царя Эдипа, еще через неделю – Танкреда в трагедии Вольтера, и месяца через полтора – роль князя Пожарского. Все дебюты были удачны, и Каратыгин был принят в труппу.
Появление на сцене молодого талантливого артиста было встречено публикой сочувственно, но за кулисами образовалась партия его соперников и завистников. Это более или менее общее явление на театральных подмостках в данном случае усиливалось еще и тем, что Каратыгиным многие были недовольны. Князь Шаховской был недоволен тем, что Каратыгин изменил ему для Катенина; всесильная тогда за кулисами трагическая актриса Семенова относилась к нему с пренебрежением. Каратыгин был близок с Катениным, строгим критиком и небезусловным поклонником ее таланта, и с Колосовой, только что появившейся драматической актрисой, которая обещала сделаться соперницей Семеновой. К недоброжелателям Каратыгина примкнуло, по одному случаю, и театральное начальство, засадившее молодого артиста в 1822 году в Петропавловскую крепость.
Этот характерный эпизод из театрального прошлого произошел так. Директору театров А. А. Майкову как-то показалось, что Каратыгин в танцевальном зале театрального училища позволил себе сидеть в его присутствии. Директор тут же распек Каратыгина, несмотря на его заявление, что он не видел своего начальства. Затем не замедлили явиться и серьезные осложнения из-за этого события. На другой день Каратыгин по приказанию главного начальника театров, военного генерал-губернатора графа Милорадовича был арестован и отвезен в крепость. Пораженная горем мать бросилась к графу и на коленях умоляла его выпустить сына на свободу. Граф, наконец, смилостивился и сказал: «Этот урок был нужен молодому либералу, который набрался вольного духу от своего учителя Катенина». На другой день, просидев двое суток, Каратыгин был выпущен из крепости.
В том же году он понес чувствительную потерю в лице своего наставника и друга Катенина, который, по проискам Семеновой, был выслан из Петербурга в свою деревню. Этими двумя эпизодами омрачилась деятельность начинающего артиста. Но скоро горизонт прояснился, и Каратыгин занял первое место на петербургской сцене. Время с 1825 года по 1845-й было самой блестящей порой его артистических успехов.
В 1827 году Каратыгин женился на артистке Александре Михайловне Колосовой. Колосова, выдающаяся артистка драмы и высокой комедии, получила прекрасное образование и художественное развитие, знала иностранные языки, бывала за границей и видала игру лучших артистов того времени. Такая жена должна была служить твердой опорой своему мужу в его серьезном отношении к искусству. И когда она в 1844 году покинула сцену, Каратыгин стал с меньшей охотой работать. Но это не значило, что он пренебрегал своим делом, которому служил до самой смерти с одинаковым успехом и с прежними воззрениями на искусство.
13 марта 1853 года Каратыгин в полной силе своего таланта скончался от «простудной болезни». В последний раз он играл за две недели до своей смерти. Торжественные похороны на Смоленском кладбище закончили его земной путь.
Каратыгин принадлежал к числу замечательных деятелей русского театра. Выступив, как и Мочалов, в то время, когда ложноклассическая трагедия сходила с русской сцены, он остался последователем приемов старой школы. Каратыгин не обладал, как Мочалов, необыкновенным запасом внутреннего чувства, и это предначертало ему путь строгого изучения законов искусства. Общее и художественное образование под руководством Катенина положило прочную основу всей деятельности Каратыгина, бывшего одним из образованнейших русских актеров.
В Каратыгине русская сцена имела последнего знаменитого преемника тех классических традиций, которые шли еще от Дмитревского. В игре Каратыгина не было уже, конечно, той неестественности, которая отличала актеров-декламаторов. Но не было и той простоты и естественности, которая характеризовала игру Мочалова и была утверждена Щепкиным как художественный принцип русского сценического искусства. Сам репертуар, в котором выступил Каратыгин, требовал известной приподнятости игры, известного удаления от простых смертных в область героев и полубогов. Таковы были главные действующие лица трагедий Расина, Корнеля и Вольтера, трагедий Озерова, французских переделок Шекспира. Затем следовали мелодрамы, наконец тот же характер сценического изображения оставался и для героев трагедий Шекспира и Шиллера. Из репертуара этих двух последних Каратыгин играл Гамлета, Ромео, Лира, Отелло, Кориолана – Шекспира; Карла Моора, Франца Моора, Дон-Карлоса, маркиза Позу, Лейчестера, Вильгельма Телля, Дон Сезара и Фердинанда – Шиллера.
Внешние данные вполне соответствовали трагическому амплуа Каратыгина. Величественная фигура, пластичные движения, замечательно выработанная дикция уже сами по себе производили на зрителей сильное впечатление. Но самым главным в игре Каратыгина была разработка ролей до мельчайших деталей. Каждый шаг на сцене, каждый жест, поза, изменение голоса были строго обдуманы и приноровлены к характеру изображаемого лица. Костюмы и гримировка поражали своей точностью и художественным вкусом. Сценические образы, создаваемые Каратыгиным, были цельными от начала до конца, как бы изваянными мастерским резцом скульптора. Каждая роль велась по продуманному плану и не допускала никаких уклонений. На это полагалось много добросовестного труда, знаний и понимания сценического искусства, – и в этом – огромная заслуга Каратыгина.