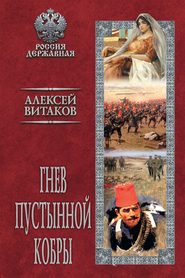По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ярость Белого Волка
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Шеин отер рукавом пот со лба.
«И посадским старостам велити прокликати… по всем торшкам и по крестцам и по всем слободкам и по улицам, что те люди, которым по росписи велено бытии на городе со всяким боем, и те б люди стояли все сполна по своим местам и со своим боем безотступно с великим бережением по смотру, а ково по росписи на городе не будет и тому быть казнену смертью».
А спустя две недели стало совсем жарко. Поляки подошли к Смоленску.
– Не круто забираешь, боярин? – спокойно спросил Горчаков.
– Лучше сразу круто, чем потом локти кусать. Суды пусть ведут дьяк Никон Олексьевич, посадские старосты Лука Горбачев и Юрий Огопьянов. Они люди надежные и понапрасну никого не тронут.
– Где казни править, ежли чего? – Горчаков перевел почему-то взгляд на свои руки.
– У Фроловских ворот. Но там только «торговые казни» чинить. Пороть пусть порют, а вешать на людях не стоит. Не то время сейчас.
– Сегодня утром схватили Ивана Зубова.
– Вот бес окаянный. Мало ему, что в Дорогобуже полторы тысячи наших уговорил не возвращаться в Смоленск, так он еще и здесь орудует.
– Чего ему, псу, не хватает! – Горчаков сплюнул. – Ладно бы обделен чем, а то ведь богат, как Густав Адольф.
– Богат, вот и чувствует себя не должным никому. А кто еще с ним?
– Еще семнадцать дворян, стрелец и пушкарь.
– Дворян пороть, стрельца к пушке привязать…
– А пушкаря к пищали, – подхватил окольничий Горчаков.
– И чтоб со стены куски их к полякам летели. – Шеин заскрипел зубами. И тут же уже смягчившись: – Как тама Маша моя?
– Поклон тебе шлет Марья Михайловна. Ты б спроведал боярыню. А то все на тюфяки смотришь да дымом пороховым дышишь.
– Ну и любо. Ладно, стало быть, все с Марьюшкой. Ничего, Петя, времени хватит на про все. Апосля с бабами любиться будем. Ты бы Никона мне кликнул.
– Да тута он. За дверью мается. – Горчаков шагнул к порогу гридницы.
– Давай.
Высокий, сухой дьяк Никон Олексьевич, вошел, сильно сгибаясь, чтобы не удариться о притолоку. И замер, глядя поблекшими голубыми глазами на Шеина.
– А… Валяй с самого худого.
– После того как Дорогобуж отбили, дворяне и стрельцы многие поразошлися по своим поместьям. Скопин-Шуйский еще крепления просит. – Дьяк говорил занудновато, держа в голосе одну-единственную ноту.
– Дак где ж я ему еще возьму! У самого земля дыбом!
– А ведь возьмешь, боярин. Опять возьмешь и последнее отправишь. А сам тут ужом вертеться будешь. Шуйского не бросишь ведь.
– А… Так ведь он тама противу Лжедмитрия. А здесь все ж король.
– А хрен-то редьки слаще? – хмыкнул дьяк. – Али ты думаешь, коль король, то не разбойник! Бесчинствовать меньше Сигизмунд не будет оттого, что он король. Еще пошлешь, снова разбегутся. Не доверяют они бесперому и бесклюеву твому Шуйскому. Не хочут оне с ним…
– А Дорогобуж опять у поляков? – Шеин потер кулаком лоб.
– Опять, – выдохнул дьяк.
– Значит, послать надоть, – твердо сказал воевода.
– Да как так! – выкрикнул Горчаков. – Что ж ты делаешь-то, отец родной!
– Ыть!.. – Шеин стукнул по столу кулаком.
– Дело твое, боярин, – обреченно и оттого тускло вымолвил побелевшими губами Никон.
– Михайло Борисыч, – вдруг неожиданно возвысившимся голосом заговорил Горчаков, – наша армия уменьшится уже на четыре тысячи.
– А ты почем знаешь, Петр Иваныч, сколько я еще пошлю?
– Мне б тебя не ведать, воевода! Все лучшее и отдашь. Всех, небось безобразовских и ильинских. Оне ж у нас самы обученные.
– Им в поле биться. А нам за стенами сидеть. А Шуйскому помочь надобно. Вот их, Петр Иваныч, и распорядись отправить на подмогу царю.
– А… все одно. Пропадем все тут к едрене макарене… – Горчаков сплюнул и пошел выполнять наказ боярина.
– Ты языком-то не плескай, где ни попадя! – крикнул ему вслед Шеин. И уже обращаясь к другому: – Молчи ужо, Никон Олексьевич. Самому муторно. Безобразовских и ильинских, считай, нет с нами. Чего у нас остается?
– Посадских две тысячи пятьсот людей. Крестьян одна тысяча пятьсот. Дворян и детей боярских триста восемьдесят человек. Пушкарей пятьсот ровно.
– Сколько сейчас всех жителей в городе? – спросил Шеин.
– Тыщ семьдесят наберется.
– Ну вот, а вам жалко для Шуйского полторы тысячи.
– Так то ж ратники, боярин. А в городе половина баб, треть детей, остальные в военном деле ни бельмеса.
– Ничего, Никон Олексьевич, где поднести, где раненым помочь… На войне кажной человек себе дело найдет. Вон ведь Сапега, то же воин тот еще, а с маршу город не рискнул брать. Значит, чуют поляки силушку здесь.
– Чуют, – кивнул Никон, – но оттого еще боле ярятся. Сказывают, Сигизмунд на сейме заявил, мол, стоит только саблю обнажить и война кончится.
– Кабы не опрохвостился августейший! – хмыкнул Шеин, мотнув седеющей головой. – Давай дале.
– Сотские расставлены по башням. Сорок восемь сотских из торговых и посадских, тридцать девять из дворян.
– Эк, армия! – Воевода довольно улыбнулся. – А дворяне-то, гляди ж, в меньшинстве оказались.
– Поделом им, – со спокойной монотонностью ответил Никон, не давая одной-единственной ноте слабину. В башнях по семь пушек, по пяти затинных пищалей и по две сороковых.
– Чего у них?
«И посадским старостам велити прокликати… по всем торшкам и по крестцам и по всем слободкам и по улицам, что те люди, которым по росписи велено бытии на городе со всяким боем, и те б люди стояли все сполна по своим местам и со своим боем безотступно с великим бережением по смотру, а ково по росписи на городе не будет и тому быть казнену смертью».
А спустя две недели стало совсем жарко. Поляки подошли к Смоленску.
– Не круто забираешь, боярин? – спокойно спросил Горчаков.
– Лучше сразу круто, чем потом локти кусать. Суды пусть ведут дьяк Никон Олексьевич, посадские старосты Лука Горбачев и Юрий Огопьянов. Они люди надежные и понапрасну никого не тронут.
– Где казни править, ежли чего? – Горчаков перевел почему-то взгляд на свои руки.
– У Фроловских ворот. Но там только «торговые казни» чинить. Пороть пусть порют, а вешать на людях не стоит. Не то время сейчас.
– Сегодня утром схватили Ивана Зубова.
– Вот бес окаянный. Мало ему, что в Дорогобуже полторы тысячи наших уговорил не возвращаться в Смоленск, так он еще и здесь орудует.
– Чего ему, псу, не хватает! – Горчаков сплюнул. – Ладно бы обделен чем, а то ведь богат, как Густав Адольф.
– Богат, вот и чувствует себя не должным никому. А кто еще с ним?
– Еще семнадцать дворян, стрелец и пушкарь.
– Дворян пороть, стрельца к пушке привязать…
– А пушкаря к пищали, – подхватил окольничий Горчаков.
– И чтоб со стены куски их к полякам летели. – Шеин заскрипел зубами. И тут же уже смягчившись: – Как тама Маша моя?
– Поклон тебе шлет Марья Михайловна. Ты б спроведал боярыню. А то все на тюфяки смотришь да дымом пороховым дышишь.
– Ну и любо. Ладно, стало быть, все с Марьюшкой. Ничего, Петя, времени хватит на про все. Апосля с бабами любиться будем. Ты бы Никона мне кликнул.
– Да тута он. За дверью мается. – Горчаков шагнул к порогу гридницы.
– Давай.
Высокий, сухой дьяк Никон Олексьевич, вошел, сильно сгибаясь, чтобы не удариться о притолоку. И замер, глядя поблекшими голубыми глазами на Шеина.
– А… Валяй с самого худого.
– После того как Дорогобуж отбили, дворяне и стрельцы многие поразошлися по своим поместьям. Скопин-Шуйский еще крепления просит. – Дьяк говорил занудновато, держа в голосе одну-единственную ноту.
– Дак где ж я ему еще возьму! У самого земля дыбом!
– А ведь возьмешь, боярин. Опять возьмешь и последнее отправишь. А сам тут ужом вертеться будешь. Шуйского не бросишь ведь.
– А… Так ведь он тама противу Лжедмитрия. А здесь все ж король.
– А хрен-то редьки слаще? – хмыкнул дьяк. – Али ты думаешь, коль король, то не разбойник! Бесчинствовать меньше Сигизмунд не будет оттого, что он король. Еще пошлешь, снова разбегутся. Не доверяют они бесперому и бесклюеву твому Шуйскому. Не хочут оне с ним…
– А Дорогобуж опять у поляков? – Шеин потер кулаком лоб.
– Опять, – выдохнул дьяк.
– Значит, послать надоть, – твердо сказал воевода.
– Да как так! – выкрикнул Горчаков. – Что ж ты делаешь-то, отец родной!
– Ыть!.. – Шеин стукнул по столу кулаком.
– Дело твое, боярин, – обреченно и оттого тускло вымолвил побелевшими губами Никон.
– Михайло Борисыч, – вдруг неожиданно возвысившимся голосом заговорил Горчаков, – наша армия уменьшится уже на четыре тысячи.
– А ты почем знаешь, Петр Иваныч, сколько я еще пошлю?
– Мне б тебя не ведать, воевода! Все лучшее и отдашь. Всех, небось безобразовских и ильинских. Оне ж у нас самы обученные.
– Им в поле биться. А нам за стенами сидеть. А Шуйскому помочь надобно. Вот их, Петр Иваныч, и распорядись отправить на подмогу царю.
– А… все одно. Пропадем все тут к едрене макарене… – Горчаков сплюнул и пошел выполнять наказ боярина.
– Ты языком-то не плескай, где ни попадя! – крикнул ему вслед Шеин. И уже обращаясь к другому: – Молчи ужо, Никон Олексьевич. Самому муторно. Безобразовских и ильинских, считай, нет с нами. Чего у нас остается?
– Посадских две тысячи пятьсот людей. Крестьян одна тысяча пятьсот. Дворян и детей боярских триста восемьдесят человек. Пушкарей пятьсот ровно.
– Сколько сейчас всех жителей в городе? – спросил Шеин.
– Тыщ семьдесят наберется.
– Ну вот, а вам жалко для Шуйского полторы тысячи.
– Так то ж ратники, боярин. А в городе половина баб, треть детей, остальные в военном деле ни бельмеса.
– Ничего, Никон Олексьевич, где поднести, где раненым помочь… На войне кажной человек себе дело найдет. Вон ведь Сапега, то же воин тот еще, а с маршу город не рискнул брать. Значит, чуют поляки силушку здесь.
– Чуют, – кивнул Никон, – но оттого еще боле ярятся. Сказывают, Сигизмунд на сейме заявил, мол, стоит только саблю обнажить и война кончится.
– Кабы не опрохвостился августейший! – хмыкнул Шеин, мотнув седеющей головой. – Давай дале.
– Сотские расставлены по башням. Сорок восемь сотских из торговых и посадских, тридцать девять из дворян.
– Эк, армия! – Воевода довольно улыбнулся. – А дворяне-то, гляди ж, в меньшинстве оказались.
– Поделом им, – со спокойной монотонностью ответил Никон, не давая одной-единственной ноте слабину. В башнях по семь пушек, по пяти затинных пищалей и по две сороковых.
– Чего у них?