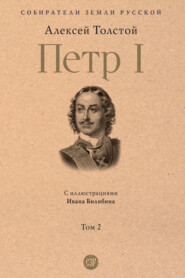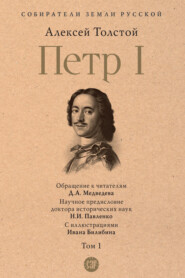По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хождение по мукам. Книга 2. Восемнадцатый год
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Был уже глубокий вечер, когда она, вздохнув, проснулась. Желтоватый месяц над крышей дома ломался в неровном стекле окна. Под дверью лежала полоска электрического света. Даша вспомнила наконец, где она, быстро натянула чулки, поправила волосы и платье и пошла к умывальнику. Полотенце было такое грязное, что Даша подумала, растопырив пальцы, с которых капала вода, и вытерлась подолом юбки с изнанки.
Ее охватила острая тоска от всего этого бездолья, отвращением стиснуло горло: убежать отсюда домой, к чистому окну с ласточками… Повернула голову, взглянула на месяц, – мертвый, изломанный, страшный серп над Москвой. Нет, нет… Возврата нет, – умирать в одиночестве в кресле у окна, над пустынным Каменноостровским, слушать, как заколачивают дома… Нет… Пусть будет что будет…
В дверь постучались, на цыпочках вошел Жиров.
– Достал ордер, Дарья Дмитриевна, идемте.
Даша не спросила – какой ордер и куда нужно идти, надвинула самодельную шапочку, прижала к боку сумочку с двумя тысячами. Вышли. Одна сторона Тверской была в лунном свету. Фонари не горели. По пустой улице медленно прошел патруль, – молча и мрачно пробухали сапогами.
Жиров свернул на Страстной бульвар. Здесь лежали лунные пятна на неровной земле. В непроглядную темноту под липы страшно было смотреть. Впереди в эту тень как будто шарахнулся человек. Жиров остановился, в руке у него был револьвер.
Постояв, он негромко свистнул. Оттуда ответили. «Полундра», – сказал он громче. «Проходи, товарищ», – ответил лениво отчетливый голос.
Они свернули на Малую Дмитровку. Здесь, навстречу им, быстро перешли улицу двое в кожаных куртках. Оглянув, молча пропустили. У подъезда Купеческого клуба, – где со второго этажа над входом свешивалось черное знамя, – выступили из-за колонн четверо, направили револьверы. Даша споткнулась. Жиров сказал сердито:
– Ну вас к черту, в самом деле, товарищи! Чего зря пугаете. У меня ордер от Мамонта…
– Покажи.
При лунном свете четверо боевиков, спрятавших безбородые щеки в поднятые воротники и глаза – под козырьки кепок, осмотрели ордер. Лицо Жирова, как неживое, застыло, растянутое улыбкой. Один из четверых спросил грубо:
– А для кого же?
– Вот, для товарища, – Жиров схватил Дашину руку, – она артистка из Петрограда… Необходимо одеть… Вступает в нашу группу…
– Ладно. Заходи…
Даша и Жиров вошли в тускло освещенный вестибюль с пулеметом на лестнице… Появился комендант – низенький, с надутыми щеками студент в форменной куртке и феске. Он долго вертел и читал ордер, ворчливо спросил Дашу:
– Что из вещей нужно?
Ответил Жиров:
– Мамонт приказал – с ног до головы, самое лучшее.
– То есть как – приказал Мамонт… Пора бы знать, товарищ: здесь не приказывают… Здесь не лавочка… (У коменданта в это время зачесалось на ляжке, он ужасно сморщился, почесал.) Ладно, идемте.
Он вынул ключ и пошел впереди в бывшую гардеробную, где сейчас находились кладовые Дома анархии.
– Дарья Дмитриевна, выбирайте, не стесняйтесь, это все принадлежит народу…
Жиров широким размахом указал на вешалки, где рядами висели собольи, горностаевые, чернобурые палантины, шиншилловые, обезьяньи, котиковые шубки. Они лежали на столах и просто кучками на полу. В раскрытых чемоданах навалены платье, белье, коробки с обувью. Казалось, сюда были вывезены целые склады роскоши. Комендант, равнодушный к этому изобилию, только зевал, присев на ящик.
– Дарья Дмитриевна, берите все, что понравится, я захвачу; пройдем наверх, там переоденетесь.
Что ни говори о Дашиных сложных переживаниях, – прежде всего она была женщиной. У нее порозовели щеки. Неделю тому назад, когда она увядала, как ландыш, у окна и казалось, что жизнь кончена и ждать нечего, – ее не прельстили бы, пожалуй, никакие сокровища. Теперь все вокруг раздвинулось, – то, что она считала в себе оконченным и неподвижным, пришло в движение. Наступило то удивительное состояние, когда желания, проснувшиеся надежды устремляются в тревожный туман завтрашнего дня, а настоящее – все в развалинах, как покинутый дом.
Она не узнавала своего голоса, изумлялась своим ответам, поступкам, спокойствию, с каким принимала закрутившуюся вокруг фантастику. Каким-то до сих пор дремавшим инстинктом самосохранения почувствовала, что сейчас нужно, распустив паруса, лететь с выброшенным за борт грузом.
Она протянула руку к седому собольему палантину:
– Пожалуйста, вот этот.
Жиров взглянул на коменданта, тот тряхнул щеками. Жиров снял палантин, перекинул через плечо. Даша наклонилась над раскрытым кофром, – на секунду стало противно это чужое, – запустила по локоть руку под стопочку белья.
– Дарья Дмитриевна, а туфельки? Берите уж и башмаки для дождя. Вечерние туалеты – в том гардеробе. Товарищ комендант, дай ключик… Для артистки, понимаешь, туалет – орудие производства.
– Наплевать, берите чего хотите, – сказал комендант.
Даша и за ней Жиров с вещами поднялись во второй этаж, в небольшую комнату, где было зеркало, пробитое пулей. Среди паутины трещин в туманном стекле Даша увидела какую-то другую женщину, медленно натягивающую шелковые чулки. Вот она опустила на себя тончайшую рубашку, надела белье в кружевах. Переступая туфельками, отбросила в сторону штопаное. Накинула на голые худые плечи мех… Ты кто же, душа моя? Кокоточка? Налетчица? Воровка?.. Но до чего хороша… Так, значит, – все впереди? Ну, что ж, – потом как-нибудь разберемся…
Большой зал ресторана в «Метрополе», поврежденный октябрьской бомбардировкой, уже не работал, но в кабинетах еще подавали еду и вино, так как часть гостиницы была занята иностранцами, большею частью немцами и теми из отчаянных дельцов, кто сумел добыть себе иностранный – литовский, польский, персидский – паспорт. В кабинетах кутили, как во Флоренции во время чумы. По знакомству, с черного хода, пускали туда и коренных москвичей, – преимущественно актеров, уверенных, что московские театры не дотянут и до конца сезона: и театрам и актерам – беспросветная гибель. Актеры пили, не щадя живота.
Душой этих ночных кутежей был Мамонт Дальский, драматический актер, трагик, чье имя в недавнем прошлом гремело не менее звучно, чем Росси. Это был человек дикого темперамента, красавец, игрок, расчетливый безумец, опасный, величественный и хитрый. За последние годы он выступал редко, только в гастролях. Его встречали в игорных домах в столицах, на юге, в Сибири. Рассказывали о его чудовищных проигрышах. Он начинал стареть. Говорил, что бросает сцену. Во время войны участвовал в темных комбинациях с поставками. Когда началась революция, он появился в Москве. Он почувствовал гигантскую трагическую сцену и захотел сыграть на ней главную роль в новых «Братьях-разбойниках».
Со всей убедительностью гениального актера он заговорил о священной анархии и абсолютной свободе, об условности моральных принципов и праве каждого на все. Он сеял по Москве возбуждение в умах. Когда отдельные группы молодежи, усиленные уголовными личностями, начали реквизировать особняки, – он объединил эти разрозненные группы анархистов, силой захватил Купеческий клуб и объявил его Домом анархии. Советскую власть он поставил перед совершившимся фактом. Он еще не объявлял войны советской власти, но, несомненно, его фантазия устремлялась дальше кладовых Купеческого клуба и ночных кутежей, когда во дворе Дома, стоя в окне, он говорил перед народом, и, вслед за его античным жестом, вниз, во двор, в толпу, летели штаны, сапоги, куски материи, бутылки с коньяком.
Этого человека, – мрачное, точно вылитое из бронзы, лицо, на котором страсти и шумно прожитая жизнь, как великий скульптор, отчеканили складки, морщины, решительные линии рта, подбородка и шеи, схваченной мягким грязным воротничком, – Даша увидала первого, когда вошла вместе с Жировым в кабинет «Метрополя».
Крышка рояля была поднята. Щуплый, бритый человечек в бархатной куртке, закинув голову, закусив папиросу, занавесив ресницами масленые глаза, брал погребальные аккорды. За столом, среди множества пустых бутылок, сидело несколько мировых знаменитостей. Один из них, курносый, подперев ладонью характерный подбородок, отчего мягкое лицо его сплющилось, пел тенорком за священника. Остальные – резонер, с кувшинным лицом; мрачный, с отвисшей губой, комик; герой, не бритый третьи сутки и с обострившимся носом; любовник, пьяный до мучения; великий премьер, с пламенным челом, глубоко перерезанным морщинами, и на вид совершенно трезвый, – вступали, когда нужно, хором.
Архидьякон от «Христа-спасителя», седеющий красавец в золотых, полтора фунта весом, очках, поднесенных ему московским купечеством, похаживал по ковру, помахивая рукавом подрясника, и подавал возгласы. От зверино-бархатного баса его дребезжал хрусталь на столе. Кабинет был затянут темно-красным шелком, с парчовыми портьерами и трехстворчатыми ширмочками у входной двери.
Облокотясь об эти ширмы, стоял Мамонт Дальский. В руке он держал колоду карт. На нем был полувоенный костюм – английский френч, клетчатые, с кожей на заду галифе и черные сапоги. Когда Даша вошла, он злобно усмехнулся, слушая панихиду.
– С ума сойти – какой красоты женщина! – проговорил человек у рояля.
Даша заробела. Остановилась. Все поглядели на нее, кроме Дальского. Архидьякон сказал:
– Чисто русская красота.
– Девушка, идите к нам, – бархатно проговорил премьер.
Жиров зашептал:
– Садитесь же, садитесь.
Даша села к столу. У нее стали целовать руки, с подходами и торжественными поклонами, как у Марии Стюарт, после чего пение продолжалось. Жиров подкладывал икорки, закусочек, заставил выпить чего-то сладкого, обжигающего. Было душно, дымно. После тягучего напитка Даша сбросила мех, положила голые руки на стол. Ее волновали эти мрачные аккорды, древние слова пения. Она не отрываясь глядела на Мамонта. Только что, по дороге, Жиров рассказывал о нем. Он продолжал стоять в стороне у ширмы и был не то взбешен, не то пьян до потери сознания.
– Так что же, господа, – сказал он басом, наполнившим комнату. – Никто не хочет?
– Никто, никто не хочет с тобой играть, и так нам весело, и отстань, успокойся, – скороговоркой, тенорком проговорил тот, у кого было сплющенное лицо. – Ну-ка, Яшенька, подмахни глас седьмый.
Яша у рояля, совсем закинув голову, зажмурясь, положил пальцы на клавиши. Мамонт сказал:
– Не на деньги… Плевал я на ваши деньги…
– Все равно не хотим, не подыгрывайся, Мамонт.
Ее охватила острая тоска от всего этого бездолья, отвращением стиснуло горло: убежать отсюда домой, к чистому окну с ласточками… Повернула голову, взглянула на месяц, – мертвый, изломанный, страшный серп над Москвой. Нет, нет… Возврата нет, – умирать в одиночестве в кресле у окна, над пустынным Каменноостровским, слушать, как заколачивают дома… Нет… Пусть будет что будет…
В дверь постучались, на цыпочках вошел Жиров.
– Достал ордер, Дарья Дмитриевна, идемте.
Даша не спросила – какой ордер и куда нужно идти, надвинула самодельную шапочку, прижала к боку сумочку с двумя тысячами. Вышли. Одна сторона Тверской была в лунном свету. Фонари не горели. По пустой улице медленно прошел патруль, – молча и мрачно пробухали сапогами.
Жиров свернул на Страстной бульвар. Здесь лежали лунные пятна на неровной земле. В непроглядную темноту под липы страшно было смотреть. Впереди в эту тень как будто шарахнулся человек. Жиров остановился, в руке у него был револьвер.
Постояв, он негромко свистнул. Оттуда ответили. «Полундра», – сказал он громче. «Проходи, товарищ», – ответил лениво отчетливый голос.
Они свернули на Малую Дмитровку. Здесь, навстречу им, быстро перешли улицу двое в кожаных куртках. Оглянув, молча пропустили. У подъезда Купеческого клуба, – где со второго этажа над входом свешивалось черное знамя, – выступили из-за колонн четверо, направили револьверы. Даша споткнулась. Жиров сказал сердито:
– Ну вас к черту, в самом деле, товарищи! Чего зря пугаете. У меня ордер от Мамонта…
– Покажи.
При лунном свете четверо боевиков, спрятавших безбородые щеки в поднятые воротники и глаза – под козырьки кепок, осмотрели ордер. Лицо Жирова, как неживое, застыло, растянутое улыбкой. Один из четверых спросил грубо:
– А для кого же?
– Вот, для товарища, – Жиров схватил Дашину руку, – она артистка из Петрограда… Необходимо одеть… Вступает в нашу группу…
– Ладно. Заходи…
Даша и Жиров вошли в тускло освещенный вестибюль с пулеметом на лестнице… Появился комендант – низенький, с надутыми щеками студент в форменной куртке и феске. Он долго вертел и читал ордер, ворчливо спросил Дашу:
– Что из вещей нужно?
Ответил Жиров:
– Мамонт приказал – с ног до головы, самое лучшее.
– То есть как – приказал Мамонт… Пора бы знать, товарищ: здесь не приказывают… Здесь не лавочка… (У коменданта в это время зачесалось на ляжке, он ужасно сморщился, почесал.) Ладно, идемте.
Он вынул ключ и пошел впереди в бывшую гардеробную, где сейчас находились кладовые Дома анархии.
– Дарья Дмитриевна, выбирайте, не стесняйтесь, это все принадлежит народу…
Жиров широким размахом указал на вешалки, где рядами висели собольи, горностаевые, чернобурые палантины, шиншилловые, обезьяньи, котиковые шубки. Они лежали на столах и просто кучками на полу. В раскрытых чемоданах навалены платье, белье, коробки с обувью. Казалось, сюда были вывезены целые склады роскоши. Комендант, равнодушный к этому изобилию, только зевал, присев на ящик.
– Дарья Дмитриевна, берите все, что понравится, я захвачу; пройдем наверх, там переоденетесь.
Что ни говори о Дашиных сложных переживаниях, – прежде всего она была женщиной. У нее порозовели щеки. Неделю тому назад, когда она увядала, как ландыш, у окна и казалось, что жизнь кончена и ждать нечего, – ее не прельстили бы, пожалуй, никакие сокровища. Теперь все вокруг раздвинулось, – то, что она считала в себе оконченным и неподвижным, пришло в движение. Наступило то удивительное состояние, когда желания, проснувшиеся надежды устремляются в тревожный туман завтрашнего дня, а настоящее – все в развалинах, как покинутый дом.
Она не узнавала своего голоса, изумлялась своим ответам, поступкам, спокойствию, с каким принимала закрутившуюся вокруг фантастику. Каким-то до сих пор дремавшим инстинктом самосохранения почувствовала, что сейчас нужно, распустив паруса, лететь с выброшенным за борт грузом.
Она протянула руку к седому собольему палантину:
– Пожалуйста, вот этот.
Жиров взглянул на коменданта, тот тряхнул щеками. Жиров снял палантин, перекинул через плечо. Даша наклонилась над раскрытым кофром, – на секунду стало противно это чужое, – запустила по локоть руку под стопочку белья.
– Дарья Дмитриевна, а туфельки? Берите уж и башмаки для дождя. Вечерние туалеты – в том гардеробе. Товарищ комендант, дай ключик… Для артистки, понимаешь, туалет – орудие производства.
– Наплевать, берите чего хотите, – сказал комендант.
Даша и за ней Жиров с вещами поднялись во второй этаж, в небольшую комнату, где было зеркало, пробитое пулей. Среди паутины трещин в туманном стекле Даша увидела какую-то другую женщину, медленно натягивающую шелковые чулки. Вот она опустила на себя тончайшую рубашку, надела белье в кружевах. Переступая туфельками, отбросила в сторону штопаное. Накинула на голые худые плечи мех… Ты кто же, душа моя? Кокоточка? Налетчица? Воровка?.. Но до чего хороша… Так, значит, – все впереди? Ну, что ж, – потом как-нибудь разберемся…
Большой зал ресторана в «Метрополе», поврежденный октябрьской бомбардировкой, уже не работал, но в кабинетах еще подавали еду и вино, так как часть гостиницы была занята иностранцами, большею частью немцами и теми из отчаянных дельцов, кто сумел добыть себе иностранный – литовский, польский, персидский – паспорт. В кабинетах кутили, как во Флоренции во время чумы. По знакомству, с черного хода, пускали туда и коренных москвичей, – преимущественно актеров, уверенных, что московские театры не дотянут и до конца сезона: и театрам и актерам – беспросветная гибель. Актеры пили, не щадя живота.
Душой этих ночных кутежей был Мамонт Дальский, драматический актер, трагик, чье имя в недавнем прошлом гремело не менее звучно, чем Росси. Это был человек дикого темперамента, красавец, игрок, расчетливый безумец, опасный, величественный и хитрый. За последние годы он выступал редко, только в гастролях. Его встречали в игорных домах в столицах, на юге, в Сибири. Рассказывали о его чудовищных проигрышах. Он начинал стареть. Говорил, что бросает сцену. Во время войны участвовал в темных комбинациях с поставками. Когда началась революция, он появился в Москве. Он почувствовал гигантскую трагическую сцену и захотел сыграть на ней главную роль в новых «Братьях-разбойниках».
Со всей убедительностью гениального актера он заговорил о священной анархии и абсолютной свободе, об условности моральных принципов и праве каждого на все. Он сеял по Москве возбуждение в умах. Когда отдельные группы молодежи, усиленные уголовными личностями, начали реквизировать особняки, – он объединил эти разрозненные группы анархистов, силой захватил Купеческий клуб и объявил его Домом анархии. Советскую власть он поставил перед совершившимся фактом. Он еще не объявлял войны советской власти, но, несомненно, его фантазия устремлялась дальше кладовых Купеческого клуба и ночных кутежей, когда во дворе Дома, стоя в окне, он говорил перед народом, и, вслед за его античным жестом, вниз, во двор, в толпу, летели штаны, сапоги, куски материи, бутылки с коньяком.
Этого человека, – мрачное, точно вылитое из бронзы, лицо, на котором страсти и шумно прожитая жизнь, как великий скульптор, отчеканили складки, морщины, решительные линии рта, подбородка и шеи, схваченной мягким грязным воротничком, – Даша увидала первого, когда вошла вместе с Жировым в кабинет «Метрополя».
Крышка рояля была поднята. Щуплый, бритый человечек в бархатной куртке, закинув голову, закусив папиросу, занавесив ресницами масленые глаза, брал погребальные аккорды. За столом, среди множества пустых бутылок, сидело несколько мировых знаменитостей. Один из них, курносый, подперев ладонью характерный подбородок, отчего мягкое лицо его сплющилось, пел тенорком за священника. Остальные – резонер, с кувшинным лицом; мрачный, с отвисшей губой, комик; герой, не бритый третьи сутки и с обострившимся носом; любовник, пьяный до мучения; великий премьер, с пламенным челом, глубоко перерезанным морщинами, и на вид совершенно трезвый, – вступали, когда нужно, хором.
Архидьякон от «Христа-спасителя», седеющий красавец в золотых, полтора фунта весом, очках, поднесенных ему московским купечеством, похаживал по ковру, помахивая рукавом подрясника, и подавал возгласы. От зверино-бархатного баса его дребезжал хрусталь на столе. Кабинет был затянут темно-красным шелком, с парчовыми портьерами и трехстворчатыми ширмочками у входной двери.
Облокотясь об эти ширмы, стоял Мамонт Дальский. В руке он держал колоду карт. На нем был полувоенный костюм – английский френч, клетчатые, с кожей на заду галифе и черные сапоги. Когда Даша вошла, он злобно усмехнулся, слушая панихиду.
– С ума сойти – какой красоты женщина! – проговорил человек у рояля.
Даша заробела. Остановилась. Все поглядели на нее, кроме Дальского. Архидьякон сказал:
– Чисто русская красота.
– Девушка, идите к нам, – бархатно проговорил премьер.
Жиров зашептал:
– Садитесь же, садитесь.
Даша села к столу. У нее стали целовать руки, с подходами и торжественными поклонами, как у Марии Стюарт, после чего пение продолжалось. Жиров подкладывал икорки, закусочек, заставил выпить чего-то сладкого, обжигающего. Было душно, дымно. После тягучего напитка Даша сбросила мех, положила голые руки на стол. Ее волновали эти мрачные аккорды, древние слова пения. Она не отрываясь глядела на Мамонта. Только что, по дороге, Жиров рассказывал о нем. Он продолжал стоять в стороне у ширмы и был не то взбешен, не то пьян до потери сознания.
– Так что же, господа, – сказал он басом, наполнившим комнату. – Никто не хочет?
– Никто, никто не хочет с тобой играть, и так нам весело, и отстань, успокойся, – скороговоркой, тенорком проговорил тот, у кого было сплющенное лицо. – Ну-ка, Яшенька, подмахни глас седьмый.
Яша у рояля, совсем закинув голову, зажмурясь, положил пальцы на клавиши. Мамонт сказал:
– Не на деньги… Плевал я на ваши деньги…
– Все равно не хотим, не подыгрывайся, Мамонт.