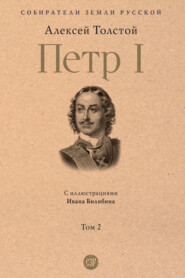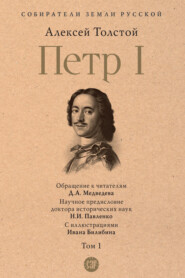По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хождение по мукам. Книга 2. Восемнадцатый год
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Несомненно, что приезд Махно произвел впечатление на тосковавших в московских кофейнях анархистов. Махно был человек дела, и притом решительный. Было надумано – ехать Нестору Ивановичу в Киев и перестрелять гетмана Скоропадского и его генералов.
Вдвоем с подручным анархистом Махно перешел в Беленихине украинскую границу, обманув бдительность сидевшего там на путях страшного комиссара Саенко. Переоделся офицером, но в Киев ехать раздумал: в нос ему ударил вольный ветер степей, и не по вкусу показалась конспиративная работа. Он махнул прямо в Гуляй-Поле.
В родном селе он собрал пятерку надежных ребят. С топорами, ножами и обрезами засел в овраге близ экономии помещика Резникова, ночью пробрался в дом и вырезал без особого шума помещика с тремя братьями, служившими в державной варте. Дом поджег. На этом деле он добыл семь винтовок, револьвер, лошадей, седла и несколько полицейских мундиров.
Не теряя теперь времени, хорошо вооруженный и на конях, он врывается со своей пятеркой на хутора, зажигает их с четырех концов. Он пополняет отряд. С бешеной страстью кидается из одного конца уезда в другой и очищает его от помещиков. Наконец он решается на одно дело, которое широко прославило его.
Было это на троицу. Степной магнат, помещик Миргородский, выдавал дочь за гетманского полковника. Ко дню свадьбы прибыли кое-кто из соседей, не испугавшихся в такое лихое время промчаться по степному шляху. Приехали гости и из губернии, и из Киева.
Усадьба Миргородских крепко охранялась стражниками. На чердаке барского дома был поставлен пулемет, да и сам жених прибыл с однополчанами – рослыми молодцами в широких синих шароварах с мотней, которая, по старинному обычаю, должна мести по земле, в свитках из алого сукна, в смушковых шапках с золотой кистью без малого не до пояса. У всех висели сбоку кривые сабли, бившие на ходу по козловым сапогам с загнутыми носками.
Невеста не так давно приехала из Англии, где кончала образование в закрытом пансионе, и уже неплохо говорила по-украински, носила вышитые рукава, бусы, ленты и красные сапожки. Пану-отцу прислали из Киева по особому заказу бархатный жупан, отороченный мехом, точь-в-точь как на известном портрете гетмана Мазепы. Свадьбу хотели справить по-стародавнему, и хотя столетние меды трудно было достать на пылающей Украине, но для широкого пира всего наготовили вдоволь.
После обедни невесту повели через парк в новую каменную церковь. Подружки, что шли с невестой и пели песни, были чудо хороши, а она – совсем как из казацкой думки. «Эге, – сказали дружки жениха, поджидавшие у ограды, – эге, видно, вернулись на Украину добрые времена…» После венца молодых осыпали на паперти овсом. Пан-отец, в мазепинском жупане, благословил их древней иконой из Межигорья. Выпили шампанского, крикнули: «Хай живе», разбили бокалы, молодые на автомобиле уехали на поезд, а гости остались пировать.
Сошла ночь на широкий двор усадьбы, где слуги и стражники выделывали ногами замысловатые кренделя. Все окна в доме весело сияли. Привезенный из Александровска еврейский оркестр пилил и дудел что было силы. Уже пан-отец отхватил чертовского гопака и пил содовую. Уже девицы и дамы искали прохлады в раскрытых окнах, а жениховы дружки – все куренные батьки, хорунжие и подполковники – вернулись к столам с закуской и, гремя саблями, грозились идти бить проклятых москалей, дойти до самой Москвы.
В это время среди пирующих появился маленького роста офицер в мундире гетманской варты. Ничего в том не было странного, что на усадьбу в такой день завернула полиция. Вошел он скромно, молча поклонился, молча покосился на музыкантов. Лишь кое-кто заметил, что мундир ему был как будто велик, да одна дама с тревогой вдруг сказала другой: «Кто этот? Какой страшный!..» Хотя неизвестный офицер и старался держать глаза опущенными, но, помимо воли, они у него горели, как у дьявола… Но мало ли какая ерунда может причудиться спьяна…
Музыканты после мазурок и вальсов заиграли танго. Два-три красных жупана, еще твердо стоявшие на ногах, подхватили дам. Кто-то велел потушить верхний свет. В полуосвещении, под расслабленные звуки, долетавшие, казалось, из глубины навек отжитых лет, пары пошли изламываться, изнемогать, изображая сладострастие смерти.
И тогда раздались выстрелы. Толпа гостей окаменела. Музыка оборвалась. Махно, одетый в форму вартового офицера, стоял позади закусочного стола у полуоткрытой двери и стрелял из двух револьверов по красным жупанам. Рослый багровый подполковник, друг жениха, раскинув руки, тяжело повалился на стол и опрокинул его. Пронзительно закричали женщины. Другой вытаскивал саблю и, так и не вытащив, ткнулся лицом в ковер… Еще трое с саблями кинулись на Махно, – двое сейчас же упали, третий выскочил в окно и там закричал, как заяц. В противоположных дверях появились двое, свирепых и чубастых, тоже в мундирах варты, и открыли стрельбу по гостям. Женщины метались. Падали. Пан-отец не мог подняться с кресла, и Махно, подойдя, вогнал ему пулю в рот. Раздавалась стрельба и на дворе, и в парке, где бегали выскочившие в окна гости. Немногим удалось спрятаться в кустах, в осоке на пруду. Перебиты были дворовая челядь и стражники. Махновские молодцы запрягли телеги и до рассвета грузили их добром и оружием. Солнце встало над пылающей усадьбой.
На Гуляй-Поле этот смелый налет произвел сильное впечатление. К тому времени крестьяне совсем уже приуныли под немцами, под сажеными помещиками, под скорой на расправу державной вартой. Не доверяя мужикам, помещики отказывались сдавать землю в аренду и требовали не только урожая нынешнего лета, но и возвращения зерном убытков прошлого года. Оставалось выть по-волчьи. Явился Махно и объявил террор. По деревням и селам полетел слух, что нашелся батько.
Мужики спохватились. Запылали усадьбы. Запылали в степях скирды пшеницы. Партизанские отряды дерзко нападали на пароходы и баржи с хлебом, вывозимым в Германию. Волнения перекидывались на правый берег Днепра. Австрийским и германским войскам отдан был приказ пресечь беспорядки. Сотни карательных отрядов рассыпались по стране. И тогда Махно первый, с небольшим, хорошо вооруженным отрядом, стал нападать на австрийские войска.
В то время армия батьки Махно была еще не велика. Постоянное – не разбегавшееся – ядро ее состояло из двух-трех сотен отчаянных голов. Здесь были и черноморские матросы, и фронтовики, кому по разным обстоятельствам нельзя было показаться на родной деревне, и мелкие батьки, со своими отрядами влившиеся к Махно, и люди без роду и племени, воевавшие ради удали и веселой жизни.
Тогда же к армии начали прибиваться и анархисты-одиночки, так называемые «боевики», прослышавшие про новую гайдаматчину, вольно гулявшую на конях. Приходя пешком в махновский стан, рваные и голодные, с бомбой в одном кармане и с томом Кропоткина в другом, анархисты говорили батьке:
– Слышали мы, будто ты гениальная личность. Гм! Посмотрим.
– Посмотрите, – отвечал батько.
– Что ж, – говорили они, – если ты действительно таков, попадешь ведь на страницы мировой истории. Черт тебя знает, а вдруг тебе суждено стать вторым Кропоткиным.
– Возможно, – отвечал батько.
Анархисты стали ездить за батькой в обозе, пить с батькой спирт, говорить ему удивительные слова, до которых он был страшный охотник, – про историю и про славу. И понемногу кое-кто из них начал проходить на ответственные и командные места. И уже за каждым потащилась тачанка с добычей, взятой в боях: ящик коньяку, бочонок с золотом, мешок с одеждой. Такими одиночками были – Чалдон, Скоропионов, Юголобов, Чередняк, Энгарец, Француз и много других. На длительных стоянках они раздобывали целыми публичными домами веселых девиц и устраивали афинские ночи, уверяя батьку, что такой подход к половому вопросу раскрепощает быт, что же касается сифилиса – то это мелочь и вздор, когда осуществляется абсолютная свобода. Махно называл своих анархистов ползучими гадами, не раз грозил их перестрелять, но все же терпел как людей книжных и хорошо понимающих, что такое мировая слава.
У армии не было постоянной ставки. По мере надобности она перебрасывалась из конца в конец губернии на конях и тачанках. Когда задумывался налет или предстоял бой, Махно слал гонцов по деревням и сам в людном месте говорил зажигательную речь, после чего его подручные кидали с тачанок в толпу штуки сукна и ситца. В один день ядро его армии обрастало мужиками-партизанами. Кончался бой, и добровольцы так же быстро разбредались по селам, прятали оружие и, – будто они не они, – стоя у ворот, лениво почесывались, когда мимо громыхала германская артиллерия в поисках врага. Австрийцы и германские отряды, преследуя Махно, всегда ударяли в пустоту, и всегда в тылу у них оказывался этот вездесущий дьявол. Партизаны, как древние кочевники, не принимали решительного боя, рассыпались с воем, свистом и пальбой на конях и тачанках и, собравшись снова там, где их не ждали, нападали невзначай.
Село опустело. Уехал вслед армии и Махно на тройке, в тележке, покрытой ковром. Был уже полдень. Толстая заплаканная девка, в высоко подогнутой юбке, мела хату полынным веником. Хозяин сидел у открытого окошечка и, поглядывая на холмы, куда ушли пешие и конные и где сейчас мирно вертелись две мельницы, тяжело вздыхал: видимо, его не успокоила давешняя беседа с Махно.
Катя ходила к колодцу, помылась, привела себя в порядок. Хозяин позвал ее завтракать, – она скушала две галушки, выпила молока. И теперь, окончательно не зная, что делать, чего ждать, – сидела у другого окна. Было знойно. На улице много кур бродило по свежему навозу. В палисадниках никли золотые шляпки подсолнухов, наливалась вишня. Плавали ястреба над селом. Хозяин кряхтел, вздыхал.
– Ты юбку еще на голову задери, бесстыдница, – сказал он заплаканной девке. – Эка штука – залапали… Не тебя первую.
Девка всхлипнула, бросила веник и опустила юбку на толстые белые икры. Хозяин некоторое время смотрел на веник.
– Кто именно? Ты скажи, не бойся, Александра…
– Да я ж его, проклятого, и не знаю, как звать… Не наш… В очках…
– Видишь ты, – быстро сказал хозяин, точно обрадовался. – В очках… Это кто-нибудь из них – анархист. – Он повернулся к Кате: – Племянница Александра… Послал ее на гумно за соломой… А гумно знаете где? Вернулась поутру вся ободранная. Тьфу!..
– Он пьяный. Револьвером грозил. Что же я могла? – Александра тихо завыла. Хозяин топнул на нее босой ногой:
– Уходи отсюда. Тут сам не знаешь, как жив останешься.
Девка выбежала. Он опять принялся кряхтеть, поглядывая на холмы.
– Ну, что ты сделаешь? Рады мы, что ли, этих разбойников кормить? Скажем, наряд – лошадей под тачанки. И ведь они скачут, дьяволы, по восемьдесят верст… Лошадь не машина, с ней надо любовно… У нас теперь весь скот калеченый… Эх, война!..
Задребезжал пузырь в лампе, висевшей над столом, тихо зазвенели оконные стекла. Горячий воздух будто вздохнул. По земле прокатился отдаленный гром. Хозяин живо высунулся в окно до половины туловища и долго глядел на холмы, где около мельниц маячил одинокий верховой. Затем, отчетливо прикладывая персты, перекрестился в угол на картинку.
– Германская артиллерия, по нашим кроют, – сказал он, и опять зачесалось у него под линялой рубашкой. – Эх, времечко! – Он поднял веник, бросил его в угол и пошел на двор, поджимая пальцы на босых ногах. Снова прокатился далекий грохот над селом. Катя не могла больше сидеть в избе и вышла на знойный, пахнувший навозом солнцепек.
По улице в это время шли встревоженной кучкой вчерашние пассажиры. Впереди шагал, глядя поверх пенсне, учитель физики Обручев; он был в резиновом плаще и калошах и казался предводителем, – в него верили.
– Присоединяйтесь к нам! – крикнул он Кате. Она подошла. У пассажиров был помятый вид, лица похудевшие; у двух пожилых женщин – потеки от слез. Переодетого спекулянта не было видно. – Один из нашей партии бесследно исчез – очевидно, расстрелян, – сказал Обручев бодрым голосом. – Нас всех ожидает его участь, господа, если мы не найдем в себе достаточного прилива энергии… Мы немедленно должны решить вопрос: ждать ли исхода сражения, или воспользоваться тем, что нас никто, видимо, не охраняет, и постараться пешком дойти до железной дороги… Оратора ограничиваю одной минутой.
Тогда заговорили все сразу. Одни указывали на то, что если разбойники нагонят их в открытой степи, то, безусловно, всех уничтожат. Другие – что в побеге есть все-таки доля спасения. Третьи, уверенные в победе немцев, настаивали – ждать конца сражения. Когда опять загрохотало за холмами, все примолкли и, мучительно морщась, глядели туда, где ничего не было видно, только лениво вертелись крылья мельниц. Обручев произнес четкую речь, в которой сгруппировал все противоречия. Обе дамы смотрели ему в рот как проповеднику. Ничего не решив, пассажиры продолжали стоять среди кур и воробьев на пустынной улице, где ни одна душа не задумается пожалеть своего же, русского… Какое там! Вон простоволосая баба выглянула в окошко, зевнула, отвернулась. Вышел из-за угла хаты сердитый мужик распояской, поглядел мимо, поднял кусок глины, изо всей силы бросил в чужого кабана. И так же равнодушно плавающие над селом коршуны поглядывали на ограбленных, никому здесь не нужных горожан.
За холмом поднялось облачко пыли. От мельниц поскакал и скрылся верховой. Кое-кто из пассажиров предложил вернуться назад в волостное управление, где все провели эту ночь. Обе дамы ушли первыми. Когда из-за холмов появились мчавшие во весь дух тройки, – ушли и остальные. На улице остались Катя и учитель физики, мужественно скрестивший руки под плащом.
Троек было всего четыре или пять. Они обогнули озеро и появились в селе. Везли раненых. Передняя остановилась у окон хаты. Правивший конями рослый партизан в расстегнутом кожухе крикнул:
– Надежда, твоего привезли.
Из хаты выбежала баба, срывая с себя фартук, заголосила низким голосом, припала к тачанке. С нее слез до зелени бледный парень, обхватил бабу за шею, уронив голову, сгибаясь поплелся в хату. Тройка подъехала к другому двору, откуда выскочили три пестро разодетые девки.
– Берите, лебеди, своего – легко раненный, – весело крикнул им возница. После этого он повернул тройку шагом, посматривая, куда бы завезти последнего раненого. В тачанке сидел с зажмуренными глазами Мишка Соломин, голова его была обвязана окровавленными лохмотьями рубашки, зубы стиснуты.
Вдруг возница остановил коней:
– Тпру… Батюшки, никак вы! Екатерина Дмитриевна?..
Этого Катя никак уж здесь не ждала. Задохнулась от волнения, побежала к тачанке. В ней стоял, – широко раздвинув ноги, уперев одну руку в бок, в другой держа ременные вожжи, – Алексей Красильников. На щеках его кудрявилась борода, светлые глаза глядели весело. На поясе – гранаты, пулеметная лента поверх кожуха, за плечами кавалерийская винтовка.
– Екатерина Дмитриевна… Как же вы к нам попали? Вы в чьей хате? Энтой? У Митрофана? – мой троюродный брат, тоже Красильников. Вот, глядите: Мишку жалко, – полголовы шрапнелью разворотило…
Катя шла рядом с тачанкой. Алексей был весь еще горячий, пьяный после боя. Блестел глазами, зубами, улыбкой.
– Германцев вчистую искрошили… Вот дурни… Три раза напарывались на наши пулеметы. Лежат, голубчики, по всему полю… Батьке теперь есть во что армию одеть… Тпр-рру… Митрофан! Вылезай из берлоги… Принимай раненого героя… А вы вот что, Екатерина Дмитриевна, от этого дома не отбивайтесь. У нас здесь нехорошо…
На колокольне ударил малиновый звон. Захлопали калитки по селу, раскрылись ставни, на улицу побежали женщины, вышли осторожные мужики, взялось непонятно откуда великое множество народа; с песнями и говором пошли на шлях – встречать победоносную махновскую армию.
Вдвоем с подручным анархистом Махно перешел в Беленихине украинскую границу, обманув бдительность сидевшего там на путях страшного комиссара Саенко. Переоделся офицером, но в Киев ехать раздумал: в нос ему ударил вольный ветер степей, и не по вкусу показалась конспиративная работа. Он махнул прямо в Гуляй-Поле.
В родном селе он собрал пятерку надежных ребят. С топорами, ножами и обрезами засел в овраге близ экономии помещика Резникова, ночью пробрался в дом и вырезал без особого шума помещика с тремя братьями, служившими в державной варте. Дом поджег. На этом деле он добыл семь винтовок, револьвер, лошадей, седла и несколько полицейских мундиров.
Не теряя теперь времени, хорошо вооруженный и на конях, он врывается со своей пятеркой на хутора, зажигает их с четырех концов. Он пополняет отряд. С бешеной страстью кидается из одного конца уезда в другой и очищает его от помещиков. Наконец он решается на одно дело, которое широко прославило его.
Было это на троицу. Степной магнат, помещик Миргородский, выдавал дочь за гетманского полковника. Ко дню свадьбы прибыли кое-кто из соседей, не испугавшихся в такое лихое время промчаться по степному шляху. Приехали гости и из губернии, и из Киева.
Усадьба Миргородских крепко охранялась стражниками. На чердаке барского дома был поставлен пулемет, да и сам жених прибыл с однополчанами – рослыми молодцами в широких синих шароварах с мотней, которая, по старинному обычаю, должна мести по земле, в свитках из алого сукна, в смушковых шапках с золотой кистью без малого не до пояса. У всех висели сбоку кривые сабли, бившие на ходу по козловым сапогам с загнутыми носками.
Невеста не так давно приехала из Англии, где кончала образование в закрытом пансионе, и уже неплохо говорила по-украински, носила вышитые рукава, бусы, ленты и красные сапожки. Пану-отцу прислали из Киева по особому заказу бархатный жупан, отороченный мехом, точь-в-точь как на известном портрете гетмана Мазепы. Свадьбу хотели справить по-стародавнему, и хотя столетние меды трудно было достать на пылающей Украине, но для широкого пира всего наготовили вдоволь.
После обедни невесту повели через парк в новую каменную церковь. Подружки, что шли с невестой и пели песни, были чудо хороши, а она – совсем как из казацкой думки. «Эге, – сказали дружки жениха, поджидавшие у ограды, – эге, видно, вернулись на Украину добрые времена…» После венца молодых осыпали на паперти овсом. Пан-отец, в мазепинском жупане, благословил их древней иконой из Межигорья. Выпили шампанского, крикнули: «Хай живе», разбили бокалы, молодые на автомобиле уехали на поезд, а гости остались пировать.
Сошла ночь на широкий двор усадьбы, где слуги и стражники выделывали ногами замысловатые кренделя. Все окна в доме весело сияли. Привезенный из Александровска еврейский оркестр пилил и дудел что было силы. Уже пан-отец отхватил чертовского гопака и пил содовую. Уже девицы и дамы искали прохлады в раскрытых окнах, а жениховы дружки – все куренные батьки, хорунжие и подполковники – вернулись к столам с закуской и, гремя саблями, грозились идти бить проклятых москалей, дойти до самой Москвы.
В это время среди пирующих появился маленького роста офицер в мундире гетманской варты. Ничего в том не было странного, что на усадьбу в такой день завернула полиция. Вошел он скромно, молча поклонился, молча покосился на музыкантов. Лишь кое-кто заметил, что мундир ему был как будто велик, да одна дама с тревогой вдруг сказала другой: «Кто этот? Какой страшный!..» Хотя неизвестный офицер и старался держать глаза опущенными, но, помимо воли, они у него горели, как у дьявола… Но мало ли какая ерунда может причудиться спьяна…
Музыканты после мазурок и вальсов заиграли танго. Два-три красных жупана, еще твердо стоявшие на ногах, подхватили дам. Кто-то велел потушить верхний свет. В полуосвещении, под расслабленные звуки, долетавшие, казалось, из глубины навек отжитых лет, пары пошли изламываться, изнемогать, изображая сладострастие смерти.
И тогда раздались выстрелы. Толпа гостей окаменела. Музыка оборвалась. Махно, одетый в форму вартового офицера, стоял позади закусочного стола у полуоткрытой двери и стрелял из двух револьверов по красным жупанам. Рослый багровый подполковник, друг жениха, раскинув руки, тяжело повалился на стол и опрокинул его. Пронзительно закричали женщины. Другой вытаскивал саблю и, так и не вытащив, ткнулся лицом в ковер… Еще трое с саблями кинулись на Махно, – двое сейчас же упали, третий выскочил в окно и там закричал, как заяц. В противоположных дверях появились двое, свирепых и чубастых, тоже в мундирах варты, и открыли стрельбу по гостям. Женщины метались. Падали. Пан-отец не мог подняться с кресла, и Махно, подойдя, вогнал ему пулю в рот. Раздавалась стрельба и на дворе, и в парке, где бегали выскочившие в окна гости. Немногим удалось спрятаться в кустах, в осоке на пруду. Перебиты были дворовая челядь и стражники. Махновские молодцы запрягли телеги и до рассвета грузили их добром и оружием. Солнце встало над пылающей усадьбой.
На Гуляй-Поле этот смелый налет произвел сильное впечатление. К тому времени крестьяне совсем уже приуныли под немцами, под сажеными помещиками, под скорой на расправу державной вартой. Не доверяя мужикам, помещики отказывались сдавать землю в аренду и требовали не только урожая нынешнего лета, но и возвращения зерном убытков прошлого года. Оставалось выть по-волчьи. Явился Махно и объявил террор. По деревням и селам полетел слух, что нашелся батько.
Мужики спохватились. Запылали усадьбы. Запылали в степях скирды пшеницы. Партизанские отряды дерзко нападали на пароходы и баржи с хлебом, вывозимым в Германию. Волнения перекидывались на правый берег Днепра. Австрийским и германским войскам отдан был приказ пресечь беспорядки. Сотни карательных отрядов рассыпались по стране. И тогда Махно первый, с небольшим, хорошо вооруженным отрядом, стал нападать на австрийские войска.
В то время армия батьки Махно была еще не велика. Постоянное – не разбегавшееся – ядро ее состояло из двух-трех сотен отчаянных голов. Здесь были и черноморские матросы, и фронтовики, кому по разным обстоятельствам нельзя было показаться на родной деревне, и мелкие батьки, со своими отрядами влившиеся к Махно, и люди без роду и племени, воевавшие ради удали и веселой жизни.
Тогда же к армии начали прибиваться и анархисты-одиночки, так называемые «боевики», прослышавшие про новую гайдаматчину, вольно гулявшую на конях. Приходя пешком в махновский стан, рваные и голодные, с бомбой в одном кармане и с томом Кропоткина в другом, анархисты говорили батьке:
– Слышали мы, будто ты гениальная личность. Гм! Посмотрим.
– Посмотрите, – отвечал батько.
– Что ж, – говорили они, – если ты действительно таков, попадешь ведь на страницы мировой истории. Черт тебя знает, а вдруг тебе суждено стать вторым Кропоткиным.
– Возможно, – отвечал батько.
Анархисты стали ездить за батькой в обозе, пить с батькой спирт, говорить ему удивительные слова, до которых он был страшный охотник, – про историю и про славу. И понемногу кое-кто из них начал проходить на ответственные и командные места. И уже за каждым потащилась тачанка с добычей, взятой в боях: ящик коньяку, бочонок с золотом, мешок с одеждой. Такими одиночками были – Чалдон, Скоропионов, Юголобов, Чередняк, Энгарец, Француз и много других. На длительных стоянках они раздобывали целыми публичными домами веселых девиц и устраивали афинские ночи, уверяя батьку, что такой подход к половому вопросу раскрепощает быт, что же касается сифилиса – то это мелочь и вздор, когда осуществляется абсолютная свобода. Махно называл своих анархистов ползучими гадами, не раз грозил их перестрелять, но все же терпел как людей книжных и хорошо понимающих, что такое мировая слава.
У армии не было постоянной ставки. По мере надобности она перебрасывалась из конца в конец губернии на конях и тачанках. Когда задумывался налет или предстоял бой, Махно слал гонцов по деревням и сам в людном месте говорил зажигательную речь, после чего его подручные кидали с тачанок в толпу штуки сукна и ситца. В один день ядро его армии обрастало мужиками-партизанами. Кончался бой, и добровольцы так же быстро разбредались по селам, прятали оружие и, – будто они не они, – стоя у ворот, лениво почесывались, когда мимо громыхала германская артиллерия в поисках врага. Австрийцы и германские отряды, преследуя Махно, всегда ударяли в пустоту, и всегда в тылу у них оказывался этот вездесущий дьявол. Партизаны, как древние кочевники, не принимали решительного боя, рассыпались с воем, свистом и пальбой на конях и тачанках и, собравшись снова там, где их не ждали, нападали невзначай.
Село опустело. Уехал вслед армии и Махно на тройке, в тележке, покрытой ковром. Был уже полдень. Толстая заплаканная девка, в высоко подогнутой юбке, мела хату полынным веником. Хозяин сидел у открытого окошечка и, поглядывая на холмы, куда ушли пешие и конные и где сейчас мирно вертелись две мельницы, тяжело вздыхал: видимо, его не успокоила давешняя беседа с Махно.
Катя ходила к колодцу, помылась, привела себя в порядок. Хозяин позвал ее завтракать, – она скушала две галушки, выпила молока. И теперь, окончательно не зная, что делать, чего ждать, – сидела у другого окна. Было знойно. На улице много кур бродило по свежему навозу. В палисадниках никли золотые шляпки подсолнухов, наливалась вишня. Плавали ястреба над селом. Хозяин кряхтел, вздыхал.
– Ты юбку еще на голову задери, бесстыдница, – сказал он заплаканной девке. – Эка штука – залапали… Не тебя первую.
Девка всхлипнула, бросила веник и опустила юбку на толстые белые икры. Хозяин некоторое время смотрел на веник.
– Кто именно? Ты скажи, не бойся, Александра…
– Да я ж его, проклятого, и не знаю, как звать… Не наш… В очках…
– Видишь ты, – быстро сказал хозяин, точно обрадовался. – В очках… Это кто-нибудь из них – анархист. – Он повернулся к Кате: – Племянница Александра… Послал ее на гумно за соломой… А гумно знаете где? Вернулась поутру вся ободранная. Тьфу!..
– Он пьяный. Револьвером грозил. Что же я могла? – Александра тихо завыла. Хозяин топнул на нее босой ногой:
– Уходи отсюда. Тут сам не знаешь, как жив останешься.
Девка выбежала. Он опять принялся кряхтеть, поглядывая на холмы.
– Ну, что ты сделаешь? Рады мы, что ли, этих разбойников кормить? Скажем, наряд – лошадей под тачанки. И ведь они скачут, дьяволы, по восемьдесят верст… Лошадь не машина, с ней надо любовно… У нас теперь весь скот калеченый… Эх, война!..
Задребезжал пузырь в лампе, висевшей над столом, тихо зазвенели оконные стекла. Горячий воздух будто вздохнул. По земле прокатился отдаленный гром. Хозяин живо высунулся в окно до половины туловища и долго глядел на холмы, где около мельниц маячил одинокий верховой. Затем, отчетливо прикладывая персты, перекрестился в угол на картинку.
– Германская артиллерия, по нашим кроют, – сказал он, и опять зачесалось у него под линялой рубашкой. – Эх, времечко! – Он поднял веник, бросил его в угол и пошел на двор, поджимая пальцы на босых ногах. Снова прокатился далекий грохот над селом. Катя не могла больше сидеть в избе и вышла на знойный, пахнувший навозом солнцепек.
По улице в это время шли встревоженной кучкой вчерашние пассажиры. Впереди шагал, глядя поверх пенсне, учитель физики Обручев; он был в резиновом плаще и калошах и казался предводителем, – в него верили.
– Присоединяйтесь к нам! – крикнул он Кате. Она подошла. У пассажиров был помятый вид, лица похудевшие; у двух пожилых женщин – потеки от слез. Переодетого спекулянта не было видно. – Один из нашей партии бесследно исчез – очевидно, расстрелян, – сказал Обручев бодрым голосом. – Нас всех ожидает его участь, господа, если мы не найдем в себе достаточного прилива энергии… Мы немедленно должны решить вопрос: ждать ли исхода сражения, или воспользоваться тем, что нас никто, видимо, не охраняет, и постараться пешком дойти до железной дороги… Оратора ограничиваю одной минутой.
Тогда заговорили все сразу. Одни указывали на то, что если разбойники нагонят их в открытой степи, то, безусловно, всех уничтожат. Другие – что в побеге есть все-таки доля спасения. Третьи, уверенные в победе немцев, настаивали – ждать конца сражения. Когда опять загрохотало за холмами, все примолкли и, мучительно морщась, глядели туда, где ничего не было видно, только лениво вертелись крылья мельниц. Обручев произнес четкую речь, в которой сгруппировал все противоречия. Обе дамы смотрели ему в рот как проповеднику. Ничего не решив, пассажиры продолжали стоять среди кур и воробьев на пустынной улице, где ни одна душа не задумается пожалеть своего же, русского… Какое там! Вон простоволосая баба выглянула в окошко, зевнула, отвернулась. Вышел из-за угла хаты сердитый мужик распояской, поглядел мимо, поднял кусок глины, изо всей силы бросил в чужого кабана. И так же равнодушно плавающие над селом коршуны поглядывали на ограбленных, никому здесь не нужных горожан.
За холмом поднялось облачко пыли. От мельниц поскакал и скрылся верховой. Кое-кто из пассажиров предложил вернуться назад в волостное управление, где все провели эту ночь. Обе дамы ушли первыми. Когда из-за холмов появились мчавшие во весь дух тройки, – ушли и остальные. На улице остались Катя и учитель физики, мужественно скрестивший руки под плащом.
Троек было всего четыре или пять. Они обогнули озеро и появились в селе. Везли раненых. Передняя остановилась у окон хаты. Правивший конями рослый партизан в расстегнутом кожухе крикнул:
– Надежда, твоего привезли.
Из хаты выбежала баба, срывая с себя фартук, заголосила низким голосом, припала к тачанке. С нее слез до зелени бледный парень, обхватил бабу за шею, уронив голову, сгибаясь поплелся в хату. Тройка подъехала к другому двору, откуда выскочили три пестро разодетые девки.
– Берите, лебеди, своего – легко раненный, – весело крикнул им возница. После этого он повернул тройку шагом, посматривая, куда бы завезти последнего раненого. В тачанке сидел с зажмуренными глазами Мишка Соломин, голова его была обвязана окровавленными лохмотьями рубашки, зубы стиснуты.
Вдруг возница остановил коней:
– Тпру… Батюшки, никак вы! Екатерина Дмитриевна?..
Этого Катя никак уж здесь не ждала. Задохнулась от волнения, побежала к тачанке. В ней стоял, – широко раздвинув ноги, уперев одну руку в бок, в другой держа ременные вожжи, – Алексей Красильников. На щеках его кудрявилась борода, светлые глаза глядели весело. На поясе – гранаты, пулеметная лента поверх кожуха, за плечами кавалерийская винтовка.
– Екатерина Дмитриевна… Как же вы к нам попали? Вы в чьей хате? Энтой? У Митрофана? – мой троюродный брат, тоже Красильников. Вот, глядите: Мишку жалко, – полголовы шрапнелью разворотило…
Катя шла рядом с тачанкой. Алексей был весь еще горячий, пьяный после боя. Блестел глазами, зубами, улыбкой.
– Германцев вчистую искрошили… Вот дурни… Три раза напарывались на наши пулеметы. Лежат, голубчики, по всему полю… Батьке теперь есть во что армию одеть… Тпр-рру… Митрофан! Вылезай из берлоги… Принимай раненого героя… А вы вот что, Екатерина Дмитриевна, от этого дома не отбивайтесь. У нас здесь нехорошо…
На колокольне ударил малиновый звон. Захлопали калитки по селу, раскрылись ставни, на улицу побежали женщины, вышли осторожные мужики, взялось непонятно откуда великое множество народа; с песнями и говором пошли на шлях – встречать победоносную махновскую армию.