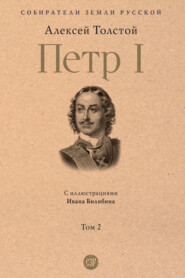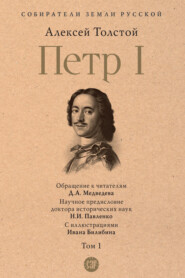По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Хождение по мукам. Книга 2. Восемнадцатый год
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– С ним – Зинка.
– Хорошо. Ступайте.
Беляков прошел в отделение службы связи. Просмотрел телефонограммы. Подписал четко мелким почерком несколько бумаг и в коридоре у крайней двери задержался на секунду. За дверью слышался тихий звон гитарных струн. Начштаба вынул платок, отер крепкую красную шею, постучал и, не дожидаясь ответа, вошел.
Посреди комнаты у стола, покрытого развернутыми газетами и уставленного грязной посудой и рюмками, сидел Сорокин, отмахнув широкие рукава черкески. Красивое лицо его было все так же мрачно. Прядь темных волос падала на мокрый лоб. Расширенными зрачками он уставился на Белякова. Сбоку у него на табуретке сидела Зинка, положив ногу на ногу, так что видны были подвязки и кружева, и перебирала струны гитары. Это была молоденькая женщина с яркой окраской синих глаз и влажных губ, с тоненьким и решительным носиком, со спутанными, высоко поднятыми русыми волосами, и только больные складочки у рта, правда – едва приметные, придавали ее нежному лицу выражение зверька, умеющего кусаться. По документам она была откуда-то из Омска, дочь железнодорожного рабочего, чему, конечно, никто не верил, не верили и в то, что ей 18 лет, ни в ее фамилию – Канавина, ни в имя – Зинаида. Но она отлично писала на пишмашине, пила водку, играла на гитаре и пела увлекательные романсы. Сорокин обещался собственноручно застрелить ее при первой попытке разводить в штабе белогвардейскую гниль и плесень. На том и успокоились.
– Хорош, нечего сказать, – проговорил Беляков, качая головой и на всякий случай держась около двери. – В какое ты меня ставишь положение? Являются два явных цекиста, грозят митингами, и ты немедленно перекидываешься на их сторону… Чего проще, иди к аппарату, телеграфируй в Екатеринодар, – немедленно тебе пришлют еврейчика, он тебе сформирует штаб, он с тобой в постели будет спать, ходить с тобой в сортир, все мысли твои возьмет под учет. Действительно ужас! У главкома Сорокина уклон к диктатуре! Ну и ступай под контроль… А меня уволь… Расстрелять меня ты можешь… Но в присутствии подчиненных грозить револьвером я не позволю… Какая же после этого дисциплина!.. Черт тебя возьми, в самом деле.
Продолжая глядеть на начштаба, Сорокин протянул руку, большую и сильную, и, промахнувшись, сжал воздух вместо горлышка бутылки. Короткая судорога свела его рот, усы взъерошились. Он все же взял бутылку и налил две стопки:
– Садись пей.
Беляков покосился на кружево Зинкиных панталон, подошел к столу. Сорокин сказал:
– Не будь ты умен – быть бы тебе в расходе… Дисциплина… Моя дисциплина – бой. Ну-ка, поди кто из вас, – подними массы… А я поведу, и дай срок, – никто не может, один я раздавлю белогвардейскую сволочь… Мир содрогнется…
Ноздри его захватили воздух, багровые жилы запульсировали на висках.
– Без цекистов и Кубань вычищу, и Дон, и Терек… Мастера они петь в Екатеринодаре, комитетчики… Сволочи, трусы… Ну, так что же, – я на коне, в бою, я – диктатор… Я веду армию!
Он протянул руку к стакану со спиртом, но Беляков быстро опрокинул его стакан:
– Довольно пить…
– Ага. Приказываешь?
– Прошу, как друга…
Сорокин откинулся на стуле, несколько раз коротко вздохнул, начал оглядываться, покуда зрачки его не уставились на Зинку. Она провела ноготком по струнам.
– «Дышала ночь…» – запела она, лениво подняв брови.
Сорокин слушал, и жилы сильнее пульсировали на висках. Поднялся, запрокинул Зинкину голову и жадно стал целовать в рот. Она перебирала струны, затем гитара соскользнула с ее колен.
– Вот это другое дело, – добродушно сказал Беляков. – Эх, Сорокин, люблю я тебя, сам не знаю за что – люблю.
Зинка наконец освободилась и, вся красная, низко нагнулась, поднимая гитару. Яркие глаза ее блеснули из-под спутанных волос. Кончиком языка облизнула припухшие губы:
– Фу, больно сделал…
– А знаете что, друзья? У меня припасена заветная бутылочка…
Беляков оборвал, подавившись словом. Рука с растопыренными пальцами повисла в воздухе. За окном хлопнул выстрел, загудели голоса. Зинка, с гитарой, точно на нее дунули, вылетела из комнаты. Сорокин нахмурился, пошел к окну…
– Не ходи, я раньше узнаю, в чем дело, – торопливо проговорил начштаба.
Скандалы и стрельба в расположении ставки главкома были обычным явлением. В состав сорокинской армии входили две основные группы: кубанская – казачья, ядро которой было сформировано Сорокиным еще в прошлом году, и другая – украинская, собранная из остатков отступивших под давлением немцев украинских красных армий… Между кубанцами и украинцами шла затяжная вражда. Украинцы плохо держали фронт на чужой им земле и мало стеснялись насчет фуража и продовольствия, когда случалось проходить через станицы.
Драки и скандалы происходили ежедневно. Но то, что началось сегодня, оказалось более серьезным. С криками мчались конные казаки. От заборов и садов перебегали испуганные кучки красноармейцев. В направлении вокзала слышалась отчаянная стрельба. На площади перед окнами штаба дико кричал, ползая по пыли и крутясь, раненый казак.
В штабе начался переполох. Еще с утра сегодня телеграфная линия не отвечала, а сейчас оттуда посыпался ворох сумасшедших донесений. Можно было разобрать только, что белые, быстро двигаясь в направлении Сосыка – Уманская, гонят перед собой спасающиеся в панике эшелоны красных.
Передние из них, докатившись до ставки, начали грабеж на станции и в станице. Кубанцы открыли стрельбу. Завязался бой.
Сорокин вылетел за ворота на рыжей, рослой, злой кобыле. За ним – полсотни конвоя в черкесках, с вьющимися за спиной башлыками, с кривыми саблями. Сорокин сидел как влитый в седле. Шапки на нем не было, чтобы его сразу узнали в лицо. Красивая голова откинута, ветер рвал волосы, рукава и полы черкески. Он был все еще пьян, решителен, бледен. Глаза глядели пронзительно, взор их был страшен. Пыль тучей поднималась за скачущими конями.
Близ вокзала из-за живой изгороди раздались выстрелы. Несколько конвойцев громко вскрикнули, один покатился с коня, но Сорокин даже не обернулся. Он глядел туда, где между товарными составами кричала, кишела и перебегала серая масса бойцов.
Его узнали издали. Многие полезли на крыши вагонов. В толпе махали винтовками, орали. Сорокин, не уменьшая хода, перемахнул через забор вокзального садика и вылетел на пути, в самую гущу бойцов. Коня его схватили под уздцы. Он поднял над головой руки и крикнул:
– Товарищи, соратники, бойцы! Что случилось? Что за стрельба? Почему паника? Кто вам головы крутит? Какая сволочь?
– Нас предали! – провыл панический голос.
– Командиры нас продали! Сняли фронт! – закричали голоса… И вся многотысячная толпа на путях, на поле, в вагонах заревела:
– Продали нас… Армия вся разбита… Долой командующего! Бей командующего!
Раздался свист, вой, точно налетел дьявольский ветер. Завизжали, поднимаясь на дыбы, лошади конвойных. К Сорокину уже протискивались искаженные лица, черные руки. И он закричал так, что сильная шея его раздулась:
– Молчать! Вы не революционная армия… Стадо бандитов и сволочей… Выдать мне шкурников и паникеров… Выдать мне белогвардейских провокаторов!
Он вдруг толкнул кобылу, и она, махнув передом, врезалась глубже в толпу. Сорокин, перегнувшись с седла, указал пальцем:
– Вот он!
Невольно толпа повернулась к тому, на кого он указал. Это был высокий, с большим носом, худой человек. Он побледнел, растопырил локти, пятясь. Знал ли его действительно Сорокин или жертвовал им как первым попавшимся, спасая положение, – неизвестно… Толпе нужна была кровь. Сорокин выхватил кривую шашку и, наотмашь свистнув ею, ударил высокого человека по длинной шее. Кровь сильной струей брызнула в морду лошади.
– Так революционная армия расправляется с врагами народа.
Сорокин опять толкнул кобылу и, помахивая окровавленной шашкой, страшный и бледный, вертелся в толпе, ругаясь, грозя, успокаивая:
– Никакого разгрома нет… Разведчики и белые агенты нарочно раздувают панику… Это они толкают вас на грабеж, срывают дисциплину… Кто сказал, что нас разбили? Кто видел, как нас били? Ты, что ли, мерзавец, видел? Товарищи, я водил вас в бой, вы меня знаете… У меня самого двадцать шесть ран! Требую немедленно прекратить грабеж! Все по эшелонам! Сегодня я поведу вас в наступление… А трусов и шкурников ждет расправа народного гнева…
Толпа слушала. Дивились, лезли на плечи, чтобы взглянуть на своего главкома. Еще рычали голоса, но уже сердца разгорались. То тут, то там слышалось: «А что ж, он правду говорит… И пусть ведет. И пойдем…» Появились попрятавшиеся было ротные командиры, и понемногу части стали отходить к своим эшелонам. Черкеска на груди Сорокина была разорвана, он отдирал ее, показывал старые раны… Лицо его было исступленно бледно… Паника утихла, навстречу подходившим эшелонам были выдвинуты пулеметные заставы. По всей линии летели телеграммы самого решительного содержания.
Все же нельзя было избежать отступления армии. Только через несколько дней, в районе станции Тимашевской, удалось привести войска в порядок и начать встречное наступление. Красные двинулись двумя колоннами на Выселки в Кореневку. Где только колебался бой, всюду красноармейцы видели мчавшегося Сорокина на рыжем коне. Казалось, одной своей страстной волей он поворачивал судьбу войны, спасая Черноморье. ЦИКу Северокавказской республики оставалось только официально признать за ним главенство в военных операциях.
6
В те же дни конца мая, когда деникинская армия выступила во «второй кубанский поход», – над Российской Советской Республикой собралась новая гроза. Три чешские дивизии, продвигаясь с украинского фронта на восток, взбунтовались почти одновременно во всех эшелонах от Пензы до Омска.
Этот бунт был первым заранее подготовленным ударом интервенции по Советскому Союзу. Чешские дивизии, начавшие формироваться еще с четырнадцатого года из живших в России чехов, затем из военнопленных, – оказались после Октября чужеродным телом внутри страны и вооруженно вмешались во внутренние дела.
Склонить их на вооруженное выступление против русской революции было делом не простым. У чехов еще жило отношение к России как будущей освободительнице чешского народа от австрийской имперской власти. Чешские крестьяне, откармливая гусей к рождеству, по старой традиции говорили: «Еднего гуса для руса». Чешские дивизии, уходя с боями от наступающих на Украину немцев, готовились к переброске во Францию, чтобы на фронте демонстрировать перед всем миром за свободу Чехии, за участие ее в победе над австро-германцами.
Навстречу чешским эшелонам, направлявшимся во Владивосток, двигались военнопленные немцы и особенно ненавистные венгры. На остановках, где сталкивались два встречных потока, бушевали страсти. Белогвардейские агенты нашептывали чехам о коварных замыслах большевиков, о их намерении будто бы разоружить и выдать немцам чешские эшелоны.
– Хорошо. Ступайте.
Беляков прошел в отделение службы связи. Просмотрел телефонограммы. Подписал четко мелким почерком несколько бумаг и в коридоре у крайней двери задержался на секунду. За дверью слышался тихий звон гитарных струн. Начштаба вынул платок, отер крепкую красную шею, постучал и, не дожидаясь ответа, вошел.
Посреди комнаты у стола, покрытого развернутыми газетами и уставленного грязной посудой и рюмками, сидел Сорокин, отмахнув широкие рукава черкески. Красивое лицо его было все так же мрачно. Прядь темных волос падала на мокрый лоб. Расширенными зрачками он уставился на Белякова. Сбоку у него на табуретке сидела Зинка, положив ногу на ногу, так что видны были подвязки и кружева, и перебирала струны гитары. Это была молоденькая женщина с яркой окраской синих глаз и влажных губ, с тоненьким и решительным носиком, со спутанными, высоко поднятыми русыми волосами, и только больные складочки у рта, правда – едва приметные, придавали ее нежному лицу выражение зверька, умеющего кусаться. По документам она была откуда-то из Омска, дочь железнодорожного рабочего, чему, конечно, никто не верил, не верили и в то, что ей 18 лет, ни в ее фамилию – Канавина, ни в имя – Зинаида. Но она отлично писала на пишмашине, пила водку, играла на гитаре и пела увлекательные романсы. Сорокин обещался собственноручно застрелить ее при первой попытке разводить в штабе белогвардейскую гниль и плесень. На том и успокоились.
– Хорош, нечего сказать, – проговорил Беляков, качая головой и на всякий случай держась около двери. – В какое ты меня ставишь положение? Являются два явных цекиста, грозят митингами, и ты немедленно перекидываешься на их сторону… Чего проще, иди к аппарату, телеграфируй в Екатеринодар, – немедленно тебе пришлют еврейчика, он тебе сформирует штаб, он с тобой в постели будет спать, ходить с тобой в сортир, все мысли твои возьмет под учет. Действительно ужас! У главкома Сорокина уклон к диктатуре! Ну и ступай под контроль… А меня уволь… Расстрелять меня ты можешь… Но в присутствии подчиненных грозить револьвером я не позволю… Какая же после этого дисциплина!.. Черт тебя возьми, в самом деле.
Продолжая глядеть на начштаба, Сорокин протянул руку, большую и сильную, и, промахнувшись, сжал воздух вместо горлышка бутылки. Короткая судорога свела его рот, усы взъерошились. Он все же взял бутылку и налил две стопки:
– Садись пей.
Беляков покосился на кружево Зинкиных панталон, подошел к столу. Сорокин сказал:
– Не будь ты умен – быть бы тебе в расходе… Дисциплина… Моя дисциплина – бой. Ну-ка, поди кто из вас, – подними массы… А я поведу, и дай срок, – никто не может, один я раздавлю белогвардейскую сволочь… Мир содрогнется…
Ноздри его захватили воздух, багровые жилы запульсировали на висках.
– Без цекистов и Кубань вычищу, и Дон, и Терек… Мастера они петь в Екатеринодаре, комитетчики… Сволочи, трусы… Ну, так что же, – я на коне, в бою, я – диктатор… Я веду армию!
Он протянул руку к стакану со спиртом, но Беляков быстро опрокинул его стакан:
– Довольно пить…
– Ага. Приказываешь?
– Прошу, как друга…
Сорокин откинулся на стуле, несколько раз коротко вздохнул, начал оглядываться, покуда зрачки его не уставились на Зинку. Она провела ноготком по струнам.
– «Дышала ночь…» – запела она, лениво подняв брови.
Сорокин слушал, и жилы сильнее пульсировали на висках. Поднялся, запрокинул Зинкину голову и жадно стал целовать в рот. Она перебирала струны, затем гитара соскользнула с ее колен.
– Вот это другое дело, – добродушно сказал Беляков. – Эх, Сорокин, люблю я тебя, сам не знаю за что – люблю.
Зинка наконец освободилась и, вся красная, низко нагнулась, поднимая гитару. Яркие глаза ее блеснули из-под спутанных волос. Кончиком языка облизнула припухшие губы:
– Фу, больно сделал…
– А знаете что, друзья? У меня припасена заветная бутылочка…
Беляков оборвал, подавившись словом. Рука с растопыренными пальцами повисла в воздухе. За окном хлопнул выстрел, загудели голоса. Зинка, с гитарой, точно на нее дунули, вылетела из комнаты. Сорокин нахмурился, пошел к окну…
– Не ходи, я раньше узнаю, в чем дело, – торопливо проговорил начштаба.
Скандалы и стрельба в расположении ставки главкома были обычным явлением. В состав сорокинской армии входили две основные группы: кубанская – казачья, ядро которой было сформировано Сорокиным еще в прошлом году, и другая – украинская, собранная из остатков отступивших под давлением немцев украинских красных армий… Между кубанцами и украинцами шла затяжная вражда. Украинцы плохо держали фронт на чужой им земле и мало стеснялись насчет фуража и продовольствия, когда случалось проходить через станицы.
Драки и скандалы происходили ежедневно. Но то, что началось сегодня, оказалось более серьезным. С криками мчались конные казаки. От заборов и садов перебегали испуганные кучки красноармейцев. В направлении вокзала слышалась отчаянная стрельба. На площади перед окнами штаба дико кричал, ползая по пыли и крутясь, раненый казак.
В штабе начался переполох. Еще с утра сегодня телеграфная линия не отвечала, а сейчас оттуда посыпался ворох сумасшедших донесений. Можно было разобрать только, что белые, быстро двигаясь в направлении Сосыка – Уманская, гонят перед собой спасающиеся в панике эшелоны красных.
Передние из них, докатившись до ставки, начали грабеж на станции и в станице. Кубанцы открыли стрельбу. Завязался бой.
Сорокин вылетел за ворота на рыжей, рослой, злой кобыле. За ним – полсотни конвоя в черкесках, с вьющимися за спиной башлыками, с кривыми саблями. Сорокин сидел как влитый в седле. Шапки на нем не было, чтобы его сразу узнали в лицо. Красивая голова откинута, ветер рвал волосы, рукава и полы черкески. Он был все еще пьян, решителен, бледен. Глаза глядели пронзительно, взор их был страшен. Пыль тучей поднималась за скачущими конями.
Близ вокзала из-за живой изгороди раздались выстрелы. Несколько конвойцев громко вскрикнули, один покатился с коня, но Сорокин даже не обернулся. Он глядел туда, где между товарными составами кричала, кишела и перебегала серая масса бойцов.
Его узнали издали. Многие полезли на крыши вагонов. В толпе махали винтовками, орали. Сорокин, не уменьшая хода, перемахнул через забор вокзального садика и вылетел на пути, в самую гущу бойцов. Коня его схватили под уздцы. Он поднял над головой руки и крикнул:
– Товарищи, соратники, бойцы! Что случилось? Что за стрельба? Почему паника? Кто вам головы крутит? Какая сволочь?
– Нас предали! – провыл панический голос.
– Командиры нас продали! Сняли фронт! – закричали голоса… И вся многотысячная толпа на путях, на поле, в вагонах заревела:
– Продали нас… Армия вся разбита… Долой командующего! Бей командующего!
Раздался свист, вой, точно налетел дьявольский ветер. Завизжали, поднимаясь на дыбы, лошади конвойных. К Сорокину уже протискивались искаженные лица, черные руки. И он закричал так, что сильная шея его раздулась:
– Молчать! Вы не революционная армия… Стадо бандитов и сволочей… Выдать мне шкурников и паникеров… Выдать мне белогвардейских провокаторов!
Он вдруг толкнул кобылу, и она, махнув передом, врезалась глубже в толпу. Сорокин, перегнувшись с седла, указал пальцем:
– Вот он!
Невольно толпа повернулась к тому, на кого он указал. Это был высокий, с большим носом, худой человек. Он побледнел, растопырил локти, пятясь. Знал ли его действительно Сорокин или жертвовал им как первым попавшимся, спасая положение, – неизвестно… Толпе нужна была кровь. Сорокин выхватил кривую шашку и, наотмашь свистнув ею, ударил высокого человека по длинной шее. Кровь сильной струей брызнула в морду лошади.
– Так революционная армия расправляется с врагами народа.
Сорокин опять толкнул кобылу и, помахивая окровавленной шашкой, страшный и бледный, вертелся в толпе, ругаясь, грозя, успокаивая:
– Никакого разгрома нет… Разведчики и белые агенты нарочно раздувают панику… Это они толкают вас на грабеж, срывают дисциплину… Кто сказал, что нас разбили? Кто видел, как нас били? Ты, что ли, мерзавец, видел? Товарищи, я водил вас в бой, вы меня знаете… У меня самого двадцать шесть ран! Требую немедленно прекратить грабеж! Все по эшелонам! Сегодня я поведу вас в наступление… А трусов и шкурников ждет расправа народного гнева…
Толпа слушала. Дивились, лезли на плечи, чтобы взглянуть на своего главкома. Еще рычали голоса, но уже сердца разгорались. То тут, то там слышалось: «А что ж, он правду говорит… И пусть ведет. И пойдем…» Появились попрятавшиеся было ротные командиры, и понемногу части стали отходить к своим эшелонам. Черкеска на груди Сорокина была разорвана, он отдирал ее, показывал старые раны… Лицо его было исступленно бледно… Паника утихла, навстречу подходившим эшелонам были выдвинуты пулеметные заставы. По всей линии летели телеграммы самого решительного содержания.
Все же нельзя было избежать отступления армии. Только через несколько дней, в районе станции Тимашевской, удалось привести войска в порядок и начать встречное наступление. Красные двинулись двумя колоннами на Выселки в Кореневку. Где только колебался бой, всюду красноармейцы видели мчавшегося Сорокина на рыжем коне. Казалось, одной своей страстной волей он поворачивал судьбу войны, спасая Черноморье. ЦИКу Северокавказской республики оставалось только официально признать за ним главенство в военных операциях.
6
В те же дни конца мая, когда деникинская армия выступила во «второй кубанский поход», – над Российской Советской Республикой собралась новая гроза. Три чешские дивизии, продвигаясь с украинского фронта на восток, взбунтовались почти одновременно во всех эшелонах от Пензы до Омска.
Этот бунт был первым заранее подготовленным ударом интервенции по Советскому Союзу. Чешские дивизии, начавшие формироваться еще с четырнадцатого года из живших в России чехов, затем из военнопленных, – оказались после Октября чужеродным телом внутри страны и вооруженно вмешались во внутренние дела.
Склонить их на вооруженное выступление против русской революции было делом не простым. У чехов еще жило отношение к России как будущей освободительнице чешского народа от австрийской имперской власти. Чешские крестьяне, откармливая гусей к рождеству, по старой традиции говорили: «Еднего гуса для руса». Чешские дивизии, уходя с боями от наступающих на Украину немцев, готовились к переброске во Францию, чтобы на фронте демонстрировать перед всем миром за свободу Чехии, за участие ее в победе над австро-германцами.
Навстречу чешским эшелонам, направлявшимся во Владивосток, двигались военнопленные немцы и особенно ненавистные венгры. На остановках, где сталкивались два встречных потока, бушевали страсти. Белогвардейские агенты нашептывали чехам о коварных замыслах большевиков, о их намерении будто бы разоружить и выдать немцам чешские эшелоны.