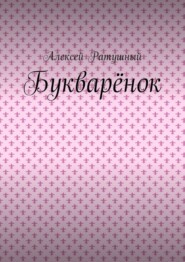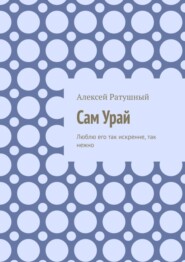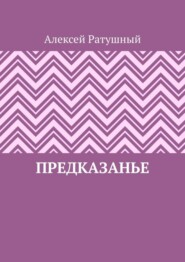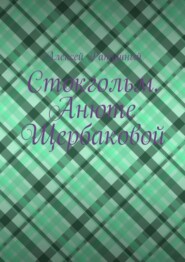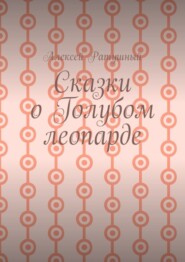По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Счастливые камни моего деда. Литературное наследие П. И. Ратушного
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я не хочу этого камня… – а потом повысили голосок и сказали:
– Он не сточил, а украл… Я знаю… Все гранильщики – воры!…
И вот в этот самый момент произошло крушение. Пашка стоял вот так – поодаль от прилавка. Пока они говорили тихо, Пашка не смотрел на них, а тут, как особа повысили голосок и откинули вуальку, – тут или Пашка понял, что попался в шмуке и что сия особа ему не простит сего, или уж я не знаю чего… Но как только Пашка услышал, что ихний милый голосок произнес сии ужасные слова, Пашка взглянул на особу и не побежал.
Остальное потрясение произошло молниеносно.
Пашка закричал: [68]
– Это тебе? Варька!..
Наша фирма имеет дело с честными покупателями, и посему на прилавке, на стойке у нас стоят различные ювелирные изделия. К несчастью господина Ненашева, или, вернее, благодаря его роковому заблуждению, тут стояли бронзовые тройные канделябры. Осмелюсь заметить – очень тяжелые. Как схватил Пашка их, мы могли наблюдать только глазами. Успеть ничего не могли. Не успел и даже слова крикнуть. Он трахнул её, не могу сказать об которое место, но прямо в голову. Тут особа упали и залились кровью…
Господин Ненашев вместо того, чтобы бежать, подскочили к сему озверелому Пашке… и упали. Как Пашка его стукнул, мы не наблюдали. Нет, не то, чтобы мы убежали, мы просто не успели увидать. Это было момент молнии…
И что, вы себе представьте, Пашка делает, этот зверь в образе человека? Он не убегает, а стоит и смотрит на неё. Вот тут такой он стал, ну, как вам описать… Невозможно. Действительно, русский поэт правильно сказали, что наш язык – несчастный банкрот. Только стоит Пашка, и хотя не полагается сего сказать, даже неприятно на него смотреть, жалко… И уже не зверь был…
Я вам описывал сие потрясение долго, но произошло оное в момент молнии, и наша фирма не могла тут ничего предпринять.
Что же касается шмука от камня-рубина, то полагаю, упомянутый в протоколе Пашка Белоглазов [69] такового не делал. Он был человек безобразный и ненормальный. Ценности самоцветов не понимал и жаждал от них какой-то красоты. Он не понимал их, как сбережение капитала и обеспечение жизни, а придерживался каких-то вольных мыслей, что сии самоцветы должны украшать, не касаясь их рыночной стоимости. Такой абсурдный взгляд Пашки был толчком всех его несчастий.
Даже Варька бросила его тогда из-за таких вольных мыслей. Она правильно понимала, что без обеспечения жизни прожить нельзя. И тут купец Седёлкин преподнесли им хорошенькие серёжки, стоимостью в восемьсот рублей. Дело ясное: ей думать было нечего, и она оставила этого несчастного Пашку: пусть сам любуется он камушками, которые не являются обеспечением жизни!..
И если Луиза Каторс была действительно нашей Варькой, – остальное должно быть понято господами судьями, как предумышленное убийство из-за ревности.
Больше добавить к делу не могу ничего. Потомственный почётный гражданин Ксенофонтий Ипполитович Корольков.
Павел Белоглазов от каких бы то ни было показаний отказался. Безучастно сидел он на скамье подсудимых, словно судили не его.
И никто не понял, что причиной было его искусство, которое обернулось против мастера. [70]
ГРАНИЛЬЩИКИ И КАМНЕРЕЗЫ
I
Хребты гор выложены темно-коричневыми яшмами. Светлой зеленью амазонского шпата лежат долины. У берегов морей прозрачен голубой ляпис-лазурь, но там, где морская глубина измеряется десятками и сотнями метров, он темно-синий.
Это – карта нашего Союза, которую изготовили к Парижской выставке мастера гранильного и камнерезного дела.
Карту – в начале этого века – делали из самоцветов екатеринбургские гранильщики при царе. Нищая, порабощенная Россия почти не имела своей промышленности, хвастать на карте России было нечем, и поэтому на выставку царское правительство вместо карты Россия послало карту Франции. [5]
А теперь на «карте индустриализации» главное место занимает показ отраслей социалистическое промышленности нашего Союза.
Дымчатым золотом топазов пролегают нефтепроводы. Аквамаринами течёт Беломорканал. Таинственным светом альмандинов горят электростанции. Сверкает немеркнущими рубинами металлургия. Теплой зеленью изумрудов цветут деревообделочные заводы. Бархатом аметистов лежит текстиль. И светло-голубыми топазами мерцает бумажная промышленность.
Это – не карта, а праздник красок, порыв творческой радости.
Яшмодел Семёнов. Он ходил по улицам. Собирал камни всюду, где мог. Встречал возчиков и спрашивал: «Камень везете?.. А, ну, покажите, какой есть, у вас…» И даже среди щебня ухитрялся найти гальку то орской, то шалимовской, то калканской яшмы.
Карманы Семёнова всегда были полны камней. Он приносил камни домой, выгружал их на столы и любовался. Как скупой рыцарь Пушкина дрожал над золотом, так дрожал над камнями Семёнов. Его квартира была складом самых разнообразных пород яшмы. Жена часто, грозила Семёнову: «Выкину я всё это твоё добро». Семёнов морщился и говорил: «Но, но, поосторожнее с камнями!»
Семёнов над картой работал до самозабвения. Такого количества сортов яшмы даже Семенов [6] не видел. Есть где разгуляться самому ненасытному порыву.
Гранильщик и гравёр Подкорытов. Когда-то он верил, что есть камни счастливые и есть несчастливые. Он верил в камни – талисманы. Он видел когда-то в камнях чуть ли не живые существа. Подкорытов любит камни особенной проникновенной любовью. Под руками его обычный типографский камень превращается в прекрасную камею. В последнее время у него появилось желание, чтобы каждый камень, побывавший в руках гранильщика и камнереза, агитировал за социализм. В работе над «картой индустриализации» он увидел воплощение своего желания.
Камнерезы братья Татауровы. Чуть ли не полсотни лет они выделывали из камня прихотливые, узорные, изящные вещички и, сделав их, теряли их потом из виду. Вещи шли в далёкий Петербург, ко двору. У Татауровых – не было раньше для себя даже запонок из камня. Теперь Татауровы знают, что «карта индустриализации» – это не частная собственность, а общественное достояние.
Двадцать свердловских гранильщиков и камнерезов поехали в Ленинград заканчивать карту. Двадцать свердловских гранильщиков и камнерезов находили в работе над картой каждый то, что он искал раньше и не находил.
– Это потому, что теперь мы – хозяева, – говорит Подкорытов. [7]
II
На воротах Свердловской гранильной фабрики значится год основания 1765.
Однако лет за пятнадцать до этого года в описаниях путешествий Фалька – около 1750 года – сообщается, что на Екатеринбургской фабрике занимаются 48 шлифовальщиков.
А из «Материалов для географии и статистики России, собранных офицерами генерального штаба» (изд. в Петербурге в 1864 г.) видно, что русский механик Бахирев, сменивший иностранного «специалиста» Рейнера, ввёл в обработке камней водяное действие в 1747 году.
Иностранный специалист – «каменных дел мастер» Рейнер – приехал из берг-директориума в Екатеринбург в 1738 году и с того же года приступил «к обучению людей каменному искусству».
Но и 1738 год нельзя считать годом начала на Урале камнерезного и гранильного дела. Оно началось ещё раньше.
В архивных материалах есть указания на то, что еще в 1726 году в Екатеринбурге было организовано нечто вроде гранильной мастерской. Организовал ее шведский поручик Реф. Рефа завербовал на Урал берг-советник Татищев, находившийся тогда в заграничной командировке.
А известный краевед-уралец Н. Чупин, оставивший после себя богатейший, ещё не разобранный архив, сообщает, что у него есть сведения о двух [8] русских, которых обучил камнерезному и гранильному делу поручик шведской короны господин Реф. Однако фамилий этих «двух русских» Чупин не упоминает, – он сообщает об этом вскользь.
Возможно, что позже будут найдены документы, которые расскажут о гранильщиках и камнерезах, умевших обрабатывать камень и делать из него художественные вещи в годы, более ранние, чем начало XVIII века. Это тем более возможно, что находки из Шигирского торфяника (на Урале) показывают, с каким искусством человек ещё каменного. века создавал на Урале орудия из камня. Среди находок, хранящихся в Свердловском музее, есть и такие «орудия», назначение которых совсем не ясно, и которые могут быть отнесены к вещам, украшающим быт. Есть находки, на которых с неподражаемым мастерством вырезаны головки лося, головки белки или помещены вставки из другого камня и т. д.
Что мастерство работы над камнями стояло тогда выше, чем обычный примитив, – свидетельствует находка на Калмацком броду. Там найден резец из твёрдого камня. Резцом наносили на изделия орнамент. Нельзя же предположить, что свое мастерство люди на Урале после каменного века забыли. Живя среди камней, люди не могли забыть этого мастерства. А что оно не было известно в высших, так сказать, сферах, в кругах правительственных и не было широко распространено среди местных жителей – это вполне вероятно. [9]
Конечно, это искусство на первых порах развития было несколько засекречено. Оно засекречено было даже в более позднее время – в средине XIX века. Об этом времени – о 1854 годе – П Н. Зверев в своей книжечке «Гранильный промысел на Урале» (изд. 1887 г.) пишет:
«… искусство гранить камни хранилось в тайне. Мастера не только никого (постороннего) не обучали, но даже не работали при посторонних…»
Значит, вопрос о начале гранильного и камнерезного искусства на Урале пока остается нерешённым.
Что же касается гранильной фабрики, то дата её основания -1765 год – происходит вот откуда:
15 марта 1765 года генерал-поручик, действительный камергер, попечитель, кавалер и т. д. и т. п. Иван Иванович Бецкой подал в Петербурге доклад царю.
«Кавалер» Бецкой предлагал царю «разведывать и сыскивать каменья разных видов» в Екатеринбургском горном округе и «разрезку, шлифовку и полировку камня» производить на «прежде работающих шлифовальных мельницах», а также «где для пользы впредь усмотрится вновь завести фабрику».
На этом докладе в тот же день царь написал: «Быть по сему».
Одновременно царь ассигновал и деньги на содержание новой фабрики. Конечно, золота царь не дал на эту затею, а повелел существовать фабрике [10], так сказать, на местном бюджете. На докладе Бецкого царь написал: «Деньги выдавать 20 тысяч рублей из Екатеринбургских медных денег…»
Так «на медные деньги» была заложена Екатеринбургская (ныне Свердловская) гранильная фабрика.