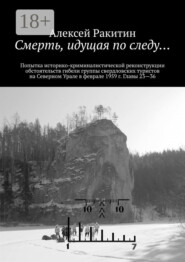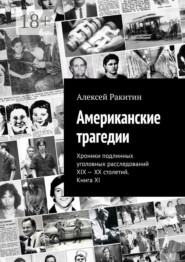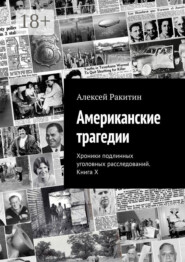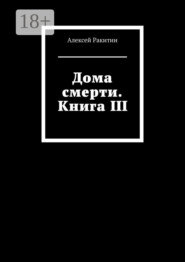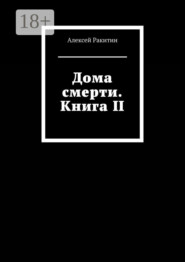По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Смерть, идущая по следу… Попытка историко-криминалистической реконструкции обстоятельств гибели группы свердловских туристов на Северном Урале в феврале 1959 г. Главы 1—23
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
До середины марта (точная дата неизвестна) был осуществлен перенос лагеря поисковиков из долины р. Ауспия в долину р. Лозьвы. Другими словами, лагерь приблизили к району поисковых работ. Сделано это было для того, чтобы экономить силы и время людей, вынужденных каждый день проходить на лыжах вверх и вниз по склонам лишние километры. Перенос планировался еще в феврале, но тогда ему помешало обнаружение первых тел.
Похороны погибших туристов были проведены властями в два приема. Сначала были похоронены Юрий Дорошенко, Игорь Дятлов, Зина Колмогорова и Георгий Кривонишенко. На следующий день был предан земле Рустем Слободин. Четверо погибших нашли успокоение на Михайловском кладбище, а один – Георгий Кривонишенко – был похоронен на Ивановском, хотя его родители не возражали против того, чтобы сына похоронили вместе с остальными. Вокруг этих похорон власти напустили много тумана и недомолвок, сильно омрачивших и без того малоприятное событие. Сначала обком КПСС пытался склонить родственников погибших к тому, чтобы найденные тела захоронить в Ивделе быстро и тихо, причем родителям – членам партии напоминали о «партийной сознательности» и недвусмысленно грозили оргвыводами за неуступчивость. Когда стало ясно, что все попытки добиться согласия не дают желаемого результата, партийные бонзы отступили и разрешили похороны в Свердловске. Однако достойно организовать и провести траурные мероприятия коммунистические вожаки так и не сумели. По приказу руководителя парткома «Политеха» Касухина с информационного стенда дважды срывались плакаты, уведомлявшие о месте и времени гражданской панихиды. Проделано это было, видимо, с целью ограничить число лиц, пришедших на прощание с погибшими. Тем не менее в десятом корпусе «Политеха», где были выставлены гробы, и вокруг него 9 марта 1959 г. собралась многотысячная толпа. На территорию Михайловского кладбища траурная процессия была запущена не обычным порядком через ворота, а почему-то с прилегающей улицы, для чего пришлось разобрать забор. Источником разнообразных сплетен послужило и то, что Георгия Кривонищенко – единственного из пятерых погибших – хоронили в запаянном цинковом гробу. Перед преданием земле гроб с телом Г еоргия по настоянию матери на 10 минут поставили в кладбищенской церкви, которую для этого специально открыли. Отпевание не проводилось, да и сам храм пребывал в запустении уже более 20 лет, но властям во избежание скандала пришлось уступить категорическому требованию матери.
Тому, что Советская власть повела себя с людьми столь беспардонно и неуважительно, удивляться не следует. Как известно, в Советском Союзе не тонули корабли, не падали самолеты и не взрывались ракеты, а имели место лишь трудовые свершения, успехи и подвиги. Ну разве что кое-где еще чуть-чуть сохранялись пережитки прошлого (совсем чуть-чуть!). Поэтому все разговоры о катастрофах, общественных беспорядках и случаях массовой гибели людей расценивались правительственной верхушкой как «идеологическая диверсия» и пресекались максимально быстро и жестко. Советская власть патологически боялась любой негативной информации, способной хотя бы косвенно бросить на нее тень и заставить сомневаться в том, что она – лучшая в мире. Отсюда проистекала прямо-таки иррациональная боязнь сказать или позволить лишнее; этот страх определял логику многих действий партийного и советского руководства на всех уровнях партийной и чиновничьей иерархии в СССР. Гибель группы Игоря Дятлова вроде бы никоим образом не могла дискредитировать КПСС и Советскую власть, однако сама власть так не считала и постаралась организовать мартовские похороны так, чтобы о них меньше говорили в городе. Получилось бестолково (как почти всегда в СССР), поскольку о погибших студентах в Свердловске все равно говорили много, но, кроме того, у людей осталось еще и чувство обиды на несправедливое отношение власть имущих к трагедии.
Рядом с членами группы Дятлова на Михайловском кладбище в скором времени был похоронен еще один студент свердловского «Политеха» по фамилии Никитин, умерший от двусторонней пневмонии. Он учился на первом курсе института, туризмом не увлекался и, скорее всего, даже не был знаком с членами группы Дятлова. Никитин был деревенским пареньком из очень бедной семьи; его родные не смогли оплатить транспортировку тела на родину, а потому было решено предать его земле в Свердловске. К истории гибели туристов на перевале смерть Никитина не имеет ни малейшего отношения.
13 марта Свердловский облисполком утвердил план поисковых работ в долине Лозьвы. Согласно этому документу основной состав поисковой группы (20 чел.) формировался из студентов УПИ. Для ее усиления была подключена группа саперов Уральского военного округа (10 чел.). Областное УВД также направляло на розыски группу из 10 чел. и принимало на себя обязанности по материальному снабжению участников поисковой операции. Транспортное обеспечение поручалось военным, для чего за поисковиками закреплялись два вертолета Ми-4, базировавшиеся в Ивделе. Организация связи с поисковой группой на перевале была поручена Северной экспедиции Уральского геологического управления.
В пятницу, 27 марта 1959 г. Бюро обкома КПСС провело специальное заседание, посвященное ходу поисковой операции. Подробности его неизвестны.
10. Новая версия следствия: Ахтунг! Ахтунг! Огненные шары в небе!
31 марта произошло весьма примечательное событие – все члены поисковой группы, находившиеся в лагере в долине Лозь- вы, увидели НЛО. Валентин Якименко, участник тех событий, в своих воспоминаниях весьма емко описал случившееся: «Рано утром было еще темно. Дневальный Виктор Мещеряков вышел из палатки и увидел движущийся по небу светящийся шар. Разбудил всех. Минут 20 наблюдали движение шара (или диска), пока он не скрылся за склоном горы. Увидели его на юго-востоке от палатки. Двигался он в северном направлении. Явление это взбудоражило всех. Мы были уверены, что гибель дятловцев как-то связана с ним». Об увиденном было сообщено в штаб поисковой операции, находившийся в Ивделе. Появление в деле НЛО придало расследованию неожиданное направление. Кто-то вспомнил, что «огненные шары» наблюдались примерно в этом же районе и раньше. Причем следствие об этом, несомненно, знало, но на такого рода сообщения до поры до времени закрывало глаза. Теперь же вектор расследования резко отвернул от бедолаг-манси, которые никак не хотели ни в чем сознаваться, и повел следователей совершенно в другую сторону.
7 апреля 1959 г. прокурор города Ивделя Василий Иванович Темпалов допросил группу военнослужащих внутренних войск о странном атмосферном явлении, наблюдавшемся ими 17 февраля 1959 г. Показания четверых свидетелей он запротоколировал и приобщил к делу. Однако не совсем понятно, чем именно они приглянулись младшему советнику юстиции, поскольку все эти тексты написаны почти под копирку и не содержат какой-либо познавательной информации. В качестве примера процитируем один из этих примечательных документов, написанный собственноручно офицером Савкиным Александром Дмитриевичем, самым старшим по возрасту из числа допрошенных: «17 февраля 1959 г. в 6 часов 40 минут утра, находясь при исполнении служебных обязанностей, (наблюдал, как. – А. Р.) с южной стороны (небосклона. – А. Р.) показался шар ярко-белого света, который периодически окутывался белым густым туманом. Внутри этого облака находилась ярко светящаяся точка размером со звездочку. Двигаясь в сторону северного направления, шар был виден в течение 8—10 минут». Как видим, содержательную часть этого не совсем грамотного текста можно свести к одному предложению: в 06:40 17 февраля на небе что-то светилось примерно 8—10 минут и двигалось в северном направлении. Надо сказать, что названная Савкиным продолжительность свечения таинственного объекта оказалось минимальной. Остальные военнослужащие указали интервалы несколько большей продолжительности (максимальная – 15 мин.). В этом, собственно, состоит единственное заметное различие между запротоколированными показаниями. Какой смысл заключался в том, чтобы приобщать к уголовному делу маловразумительные свидетельства четверых военнослужащих, на первый взгляд не совсем понятно, но все становится на свои места, когда узнаешь, что еще через неделю – 14 апреля – в Свердловске был допрошен отец погибшего Георгия Кривонищенко. Впрочем, допросом это назвать довольно сложно, поскольку допрос подразумевает активное взаимодействие следователя с допрашиваемым, в данном же случае перед нами нечто похожее на школьное сочинение или служебную записку – текст в произвольной форме, не являющийся ответами на вопросы (поскольку ни одного вопроса его автору не было задано).
Показания Алексея Константиновича Кривонищенко заслуживают того, чтобы самую существенную их часть процитировать без сокращений. Итак, отец погибшего утверждал: «После погребения моего сына, 9 марта 1959 года, у меня на квартире были на обеде студенты, участники розысков девяти туристов. Среди них были и те туристы, которые в конце января – начале февраля были в походе на севере, несколько южнее горы Отортен. Таких групп было, по-видимому, не менее двух, по крайней мере участники двух групп рассказывали, что они наблюдали 1 февраля 1959 г. вечером поразившее их световое явление к северу от расположения этих групп: чрезвычайно яркое свечение какой-то ракеты или снаряда. Свечение было настолько сильным, что одна из групп, будучи уже в палатке и приготавливаясь спать, была встревожена этим свечением, вышла из палатки и наблюдала это явление. Через некоторое время они услышали звуковой эффект, подобный сильному грому издалека».
Так в деле возникла привязка некоего оптического и акустического явления к району горы Отортен и первому февраля 1959 г. – дню, который следствие считало датой гибели группы Игоря Дятлова. Очень интересен следующий момент – Алексей Константинович Кривонищенко был далеко не рядовым человеком в местной свердловской иерархии, начинал он свою карьеру в Спецстрое, возводившем важнейшие объекты государственного управления, имел воинское звание генерал-майор-инженер, о чем не знали в то время даже ближайшие друзья семьи. В 1959 г. Кривонищенко возглавлял крупное хозяйственное подразделение – «Уралэнергостроймеханизация», занимавшееся возведением объектов электроснабжения всего Уральского региона. Известно, что Алексей Константинович с 1941 г. был лично знаком с Сергеем Никифоровичем Кругловым, ближайшим сподвижником Хрущева в деле свержения «банды Берия» летом 1953 г. Круглове июня 1953 г. по январь 1956 г. был Министром внутренних дел СССР, а до этого на протяжении 12 лет служил в центральном аппарате МВД и занимал должность Первого заместителя Министра. Да и помимо Круглова отец погибшего хорошо знал многих высокопоставленных работников этого ведомства. Связано это было с тем, что на стройках, которыми руководил Алексей Константинович, массово трудились узники ГУЛАГа. Так что отношения деловые, и не только, были им налажены с «силовиками» давно.
Алексей Константинович Кривонищенко (на крайней левой фотографии) был человеком очень непростым и по мнению автора его роль в событиях, связанных с группой Дятлова, во многом до сих пор не выяснена. Он имел серьёзные связи в руководстве тогдашнего «силового блока», если использовать сегодняшнюю терминологию. Ещё в 1940 г. Кривонищенко напрямую обращался к Лаврению Берия (на фотографии в центре), тогдашнему всемогущему главе НКВД, с жалобой на действия сотрудников этого ведомства. Имеется информация о его многолетних теплых отношениях с Сергеем Кругловым (на фотографии справа вместе с Берия), преемником Берия на посту руководителя МВД. По мнению автора, Алексей Кривонищенко пытался самостоятельно разобраться в причинах гибели группы Дятлова и обращался для этого к некоторым из знакомых. Обращения эти возымели совсем не те последствия, на которые рассчитывал Кривонищенко – он был моментально переведен из Свердловска на стройку в Казахстане за 1700 км., а люди, которые пытались ему помочь, получили серьёзные дисциплинарные взыскания. Об этих событиях будет ещё сказано подробнее в своём месте…
Понятно, что, узнав 9 марта о некоем взрыве в районе Ото- ртена, Кривонищенко не держал эту тайну под сердцем на протяжении месяца. Несомненно, он обращался со своим рассказом к следователю или лицам, способным повлиять на следствие, но на протяжении длительного времени это не вызывало никакого ответного интереса. Понадобилось пять недель, чтобы следственный работник допросил Кривонищенко! То есть, возможно, какие-то разговоры с Алексеем Константиновичем велись и ранее, но ничего из сказанного им в дело не попало. Очень интересная деталь – обратим на нее внимание.
На следующий день после допроса Кривонищенко – 15 апреля 1959 г. – в здание областной прокуратуры пригласили Владислава Георгиевича Карелина, одного из участников февральской поисковой операции в районе Холат-Сяхыл и заместителя председателя Свердловского клуба туристов. Поговорить с Карелиным следовало по целому ряду причин: во-первых, он помогал Рустему Слободину получить по месту работы отпуск без содержания (что было довольно проблематично в то время для оборонного предприятия, на котором работал Рустем), во-вторых, знал лично многих членов группы Игоря Дятлова (самого Дятлова, Колмогорову, Колеватова и пр.), а в-третьих, сам ходил в многодневный туристский поход примерно в то же время и в те же места, что и дятловцы. Если быть совсем точным, группа Владислава Карелина отправилась в поход позже дятлов- ской (9 февраля) и основной ее маршрут пролегал километров на шестьдесят южнее, но в одной точке – на горе Ойка-Чакур – он пересекал маршрут группы Игоря Дятлова (после восхождения на Отортен дятловцы должны были взойти и на эту гору и уже затем забирать вещи из лабаза и выходить на «Большую Землю»). В общем, с Карелиным поговорить стоило.
То ли с подсказки следователя Романова, то ли руководствуясь собственными соображениями, Карелин заговорил об «огненных шарах», и выяснилось, что он и его группа стали свидетелями инцидента 17 февраля 1959 г. Слово очевидцу: «В связи с гибелью группы Дятлова следует рассказать о необычном небесном явлении, которое мы наблюдали в своем походе 17 февраля 1959 г. на водораздельных увалах рек сев. Тошемки и Вижаем. Около 07:30 утра свердловского времени меня разбудил крик дежурных, готовивших завтрак: „Ребята! Смотрите, смотрите. Какое странное явление!“ Я выскочил из спального мешка и из палатки без ботинок, в одних шерстяных носках и, стоя на ветках, увидел (в небе. – А. Р.) большое светлое пятно. Оно разрасталось. В центре его появилась маленькая звезда, которая также начала увеличиваться. Все это пятно двигалось с северо-востока на юго-запад и падало на землю. Затем оно скрылось за увалом и лесом, оставив на небосклоне светлую полосу. <…> Все это явление происходило в течение чуть больше минуты».
Надо сказать, что о пролете таинственного НЛО 17 февраля 1959 г. в газете «Тагильский рабочий» была даже публикация, разумеется, без ссылок на конвоиров ивдельской ИТК и туристов. Кто-то сообщил об этом следователям, и в деле появилась вырезка из газеты, конечно, без всякого пояснения и вне логической связи с предыдущими и последующими показаниями. Можно подумать, что прокуроры Иванов или Романов, сидючи в здании областной прокуратуры, развлекались с ножничками и приобщили к делу первую приглянувшуюся им статейку. На самом деле это, разумеется, не так, и наличие в уголовном деле газетной вырезки ясно указывает на то, что следствие пыталось осуществлять сбор информации в этом направлении, но при этом никаких серьезных следов своей работы следователь Иванов не оставил. Почему – мы объясним чуть позже, покаже вернемся к изложению фактической стороны дела.
Следователь Иванов не поленился раздобыть номер газеты «Тагильский рабочий» от 18 февраля 1959 г., которая – минуточку! – не продавалась в Свердловске и вырезал из него заметку о необычном небесном явлении. Никаких пояснений своим манипуляциям следователь в деле не оставил, предоставив тем самым заинтересованным лицам самостоятельно ломать голову над скрытой логикой своего поведения.
Как видим, описание странного небесного объекта, данное Владиславом Карелиным, заметно отличается от его описания конвоирами ивдельской ИТК. Но мы пока не будем углубляться в предметный анализ сообщений свидетелей, а, соблюдая хронологическую последовательность, перейдем к показаниям следующего лица, давшего следствию информацию о чудесах в небе Северного Урала.
Этим человеком оказался отец Людмилы Дубининой – Александр Николаевич. Его показания возникают в деле – словно бы сами собой – 18 апреля, т. е. через три дня после допроса Карелина. По своей форме этот документ чем-то напоминает допрос Кривонищенко – если это и «допрос», то весьма условный. Скорее, это очень эмоциональный призыв расследовать бездействие и халатность городского спорткомитета и турклуба УПИ, допустивших гибель в полном составе целой группы спортсменов. Уже самое начало этого документа настолько нетипично для юридических норм того времени, что просто диву даешься, как прокурор смирился с подобным выпадом, который звучал воистину как антисоветский! Процитируем этот фрагмент – он того стоит: «До сих пор не могу свыкнуться с мыслью, как у нас в Советском Союзе, в большом промышленном, культурном центре страны могло иметь место такое преступное, наплевательское отношение к сохранению жизни целой группы людей». Вот уж завернул так завернул! Думается, прокурор Романов, пригласивший Дубинина на допрос, прочитав такое, аж зубами заскрипел, ведь это ж в чистом виде антисоветская пропаганда!
Впрочем, нас в данном случае интересуют не обличительные эскапады Александра Дубинина, хотя они и выглядят вполне обоснованными, а оптические эффекты в небесах северного Урала, которым он посвятил некоторую часть собственноручно написанных показаний. Причем он написал о том же самом явлении, которое зафиксировано в протоколе допроса Кривонищенко. Итак, цитируем дословно: «вынужденное внезапное бегство из палатки произошло вследствие разрыва снаряда и излучения вблизи горы 1079 (т. е. Холат-Сяхыл. – А. Р.), „начинка“ которого вынудила (а там были (студенты. – А. Р.) изфиз.-техн. ф-та) бежать от нее дальше и, надо полагать, повлияла на жизнедеятельность людей и, в частности, на зрение. Полет снаряда 2/11 около семи часов утра видели в г. Серове. Наблюдала его, по рассказам студентов УПИ, вторая группа туристов, пребывавшая в то время в походе до горы Чистоп».
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: