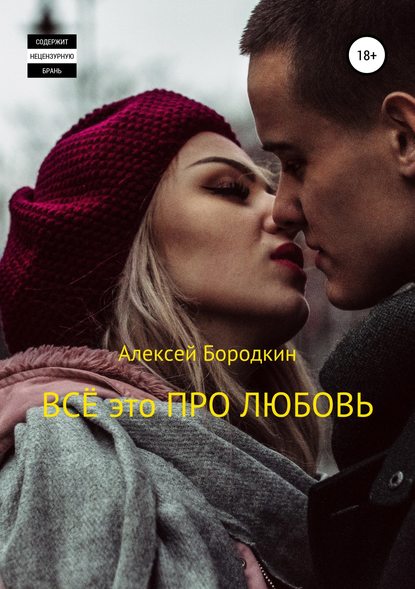По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Всё это про любовь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Название красивое.
– Зачем же вы её хотите? – искренно удивляется следователь. Бровки вздымаются домиком.
– Есть мнение, что это коктейль… Вкусный…
Шутка не прошла – это очевидно, – и нужно вернуться на исходную позицию, в точку, где всё доступно для понимания:
– Давайте начнём сначала. Я журналист. Приехала по заданию редакции. У вас произошло изнасилование. Мне необходимо, – акцент плюс пауза, – написать об этом статью.
– Пишите, – простецки соглашается он.
Подвигает мне ручку и бумагу.
"О-о-о!" – Смотрю недоумённо: "Разыгрывает? Или вправду дурак? Емелюшка-дурачок. Щука… прорубь… туда-сюда… но где печь?"
Печи в комнате не было. Только умывальник.
– Мне нужны материалы.
– Понимаю… хотите ознакомиться… понимаю…
За левой створкой шкафа расположился сейф (академический, из листового металла, с подвижной "висючкой" над скважиной). Из сейфа следователь выудил папку на тряпичных завязках, сунул мне: "Здесь всё. Можете прочесть".
В моём животе зародилась злость. Маленький агрессивный лепесток. Что-то (вернее, всё!) в этом разговоре шло не так, как я хотела. И следователь Емеля вёл себя нетипично.
Папку я накрыла ладонью, произнесла:
– Материалы прочту. Обязательно. Однако будет лучше и быстрее, если вы введёте меня в курс дела своими словами.
Емеля оказался не такой уж Емеля. Понял, что от меня не отделаться, пошел поставить чайник. Развернул бумажный пакет, вынул бутерброды, яблоко и несколько печенюшек. Печеньки потрескались и покрыли яблоко бархатной нежной крошкой.
"Решил пообедать, чтобы время зря не пропадало, – сообразила я. – Практичный. Точно не дурак".
Следователь проговорил:
– Рассказывать особо нечего. Молодые…
Он произнёс это слово, как оправданье. Точно бы заступаясь. Я подумала, что возраст, как раз, отягчающее обстоятельство. У молодого преступника вся жизнь впереди, а значит, он может натворить много бед в будущем. Это обстоятельство необходимо учитывать.
– Выходные были, – продолжил следователь. – Поехали на речку. Выпили, закусили… Быть может плохо закусили или лишку выпили. Полезли купаться. Разделись. Юные красивые тела, жаркий вечер… Тут до греха – рукой подать.
Жестом он предложил мне бутерброд, я взяла яблоко. Вытерла платком. Хрустнула.
Постучала карандашиком:
– Так-так…
Следователь вопросительно скосился.
– Для начала, давайте познакомимся. Как меня зовут, вы знаете. А ваше имя-отчество?
– Рудня Олег Сергеевич.
– По званию?
– Это зачем? Допустим капитан.
Я так и записала в блокноте: "Допустим-капитан".
– Как фамилия насильника?
– В протоколе всё написано. – Следователь говорил сухо, уперевшись взглядом в столешницу: – Потерпевшая Светлана Насонова. Двадцать четыре года. Незамужняя. Подозреваемый Плотников Александр Фёдорович. Тридцать восемь лет, разведён. Детей нет. Что-то ещё?
"Ещё? – мысленно повторила я. – Ещё много чего!"
Попросила:
– Одну минуту. Я запишу.
От окна к двери прожужжала муха. У парадного остановилась машина (скрипнули тормоза). Где-то за стеной звякнула о тарелку ложка.
Следователь Рудня (наконец-то!) посмотрел мне в глаза. Прямо. Открыто. Зрачки в зрачки.
"Ничерта ты не понимаешь, девочка!" – прочла я в его зеницах снисходительное "послание".
Прочла и обиделась: "Неправда ваша, товарищ допустим-капитан! Кое-что я понимаю лучше тебя, Емеля Сергеевич Рудня!"
Нужно было поставить его на место. Зарвался, провинциальный следователь.
– Как мне поговорить с подозреваемым Плотниковым? – тон ледяной, взгляд колючий. – Он в камере предварительного заключения? Выпишите пропуск.
– Почему в камере? Зачем такие крайности?
Рудня оторвал от настольного календаря листок, что-то на нём написал. Протянул мне: – Вот адрес. Только сейчас он… – следователь посмотрел на часы, – …сейчас он занят. Сегодня вообще-то неприёмный день. Вы неудачно зашли.
Сева Усольцев (редакционный хохмач, отец шестерых мальчишек и дважды дед Советского Союза) говорит в таких случаях "Оп-па!" Приседает и хлопает над головой в ладоши, демонстрируя крайнюю степень удивления.
"Что здесь, чёрт возьми, происходит? При чём здесь неприёмный день? Кого Плотников собирается принимать? Или это он записался?" – вопросы грудились и наползали друг на друга, напоминая льдины в ледоход.
Сохраняя на лице высокомерную мину, я выбралась на улицу. Выбралась, надо сказать, несколько ошарашенная. Вздохнула полной грудью.
Солнце стояло в беспощадном зените, мелькнула сорока, небеса казались выстиранными с отбеливателем.
"Какое небо голубое, – напевал хрипатым шепотом репродуктор. Обещал: – мы не сторонники разбоя…"
Приблизился старшина, нейтрально осведомился, как дела. Я ответила, что всё в норме. Нестрашно улыбнулась. Старшина смутился, потоптался на месте (перевалился с ноги на ногу, точно свежеподкованный конь). Попросил на него не давить.
Чувства мои были далеки от порядка, и я переспросила: