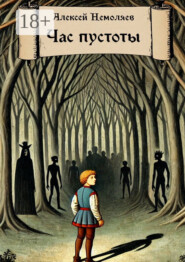По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Когда овцы станут волками
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Можно в Брукхайн, где работала Лиза. Заодно, может, что-то разузнаем о…
Хотя, думает Фролов, какой в этом толк? Нужно в хранилище, к пульсару, к запертой в нем памяти Лизы… оставшейся, остывшей памяти, затерянной в эфире, замкнутой в потоковом пространстве. Можно восстановить рассыпающиеся осколки ее жизни, найти зацепки… тонкую нить, ведущую к убийце. Быстро и безошибочно.
– Еда там нормальная?
– Такой же живой белок, как везде, – Фролов понимает, что в горло ничего не залезет. Поэтому ему все равно. – Не знаю. Давно там не был.
Лишь бы отсрочить неизбежное. Час-другой провести в туманном неведении. Ему просто нужна цель. Когда убийца будет найден, придется встретиться с пустотой. Так или иначе, придется…
Садятся в машину, Денисов поручает лобовому стеклу высветить маршрут до Брукхайна. Пару минут ручного вождения, и автопилот дает знать о себе легкой вибрацией рулевого колеса. Но Денисов отклоняет предложение, продолжая удерживать баранку. Выходит на прямую, окантованную порослью вечнозеленых кипарисов, выжимает педаль газа, чувствует в крови крохотный прилив свежести. Дорога полупуста. Мощь машины вдавливает следователя в мягкое сидение. Прочь из центра.
Направляются в кафе Брукхайн. Хоть там можно, наконец, поесть. Последний раз жрал вчера в семь вечера: говяжий стейк под сливочным соусом, шампиньоны… больше похожи на клейковину… три фужера красного полусладкого…
Спустя пару поворотов, развилок, стоп-линий, заполняющих все лобовое стекло, машина въезжает в серебристый туннель. Электромобиль погружается в подземное пространство мелькающих огней, бликов, впечатанных в вездесущие вывески.
– Поставь что-нибудь из старого, – говорит Денисов. – Тридцать лет назад. Давай так.
Плексиглас быстро отзывается, преображает картинку. Уничтоженный Гражданской войной город: вывернутый наизнанку, пропущенный через чудовищную мясорубку. Искореженные здания… щербатые фасады грезят о счастливом прошлом, кривая арматура упирается в свинцовое небо. Тихий безлюдный ад, осаждаемый ядовитым ливнем.
– Тебе же не нравится вспоминать, – говорит Фролов.
Денисов молча кивает. Память возвращает его снова, снова – к самому себе, а это самое неприятное. Убежать невозможно.
– Мы искали обломки московского беспилотника. Такое было задание. Разведка что-то там разузнала, и поэтому… А в нем, ведь, ценные детали… Вошли в нейрогазовую пустошь. Нацепили противогазы, а у меня… мало у кого такие были, а у меня был скафандр. Очень им гордился… Но нас поджидали. Натравили радио-роботов, огромные махины. А потом еще подорвали залежи нейрогаза. Противогазы были такими старыми, что… Чудом спасся тогда. Надо было валить с войны. Но я хотел отомстить. И через неделю нас отправили на бойню… Чертова мясорубка… Давай, я тебе покажу. Что это такое было.
– Ты научился записывать память в поток? Не думал, что ты…
– Хоть раз ложился в капсулу? – Денисов усмехается. – Представь себе. Было пару раз. Хотелось попробовать. Записывал все, что есть в голове. Думал, может, хоть так станет полегче…
Все же, дает автопилоту приступить к работе. Двигатель сбавляет обороты, успокаивается. Фролов поправляет очки, дужка давит на переносицу.
Мертвенный город растворяется. Ядовито-зеленое небо исторгает блестящие молнии. Голова поднята, виден только этот бесконечный беспробудный серый свод. В уши бьет свист приближающейся бомбы… кажется, нейрогаз… медленно, медленно наседает… дает прочувствовать ужас, а еще…
Снизу (Фролову не хочется опускать взгляд) плещутся звуки сражения: оружейные выстрелы, грохот мелких бомб, истошные вопли потерянных солдат… боль в каждом звуке… стремительное стаккато, терзающее мозг.
Но взгляд неминуемо сползает на землю. Перекошенные лица, крохотные, грязные, с горящими глазами… по прерывистой команде натягивают старые противогазы, дряхлая резина натужно скрипит, обволакивая бритые черепа. Движения рук рваные, фальшивые… На горизонте высится громадина многорукого робота. Приближается. Исторгает из пасти свинцовый огонь.
На левом запястье сходят с ума яркие часы. Светятся красным, предупреждая о высоком уровне газа. Те, кто не успел натянуть защиту, падают в ядовитую грязь, распарывают воздух истошным воплем, который перерастает в болезненное рычание. Из последних сил пытаются нацепить резиновую маску. Тщетно. Пальцы не слушаются.
Фролов переводит трясущийся взгляд на павшего в трех метрах от него солдата… половина лица снесена крупным калибром (кашица мозга стекает по расколотому лбу). Несколько секунд… истинная вечность… и солдат резко вскакивает. Застопоренный глаз мертвеца, один-единственный, фокусируется на следователе. С хриплым криком набрасывается на Фролова. Стучит остатками зубов, пытаясь дотянуться до сонной артерии…
Фролова пронзает ужас, и…
Все обрывается. В кабину снова вливается тусклый отсвет разрушенного города.
– Вот такая у меня была жизнь, – говорит Денисов. – И я бы многое отдал, чтобы… знаешь, все это забыть. Но пока, остаётся только прокручивать все в башке, раз за разом… иначе схожу с ума…
Фролов чувствует облегчение. Не знает, почему.
Туннель выплевывает машину на поверхность. Дополненная реальность вспыхивает солнечным светом. Далекая звезда где-то там, прячется за толстым слоем дождевых туч.
– Так почему ты не сведешь эту татуировку?
– Знаешь, – говорит Денисов. – Это вполне могли быть ребята с подполья. Старик прав. Может, она, подрабатывала на производстве…
– Наркотиков?
– Да… что думаешь?
– Это на нее не похоже… Нет… она была совсем не такой.
Глава 5. Газовая болезнь
Третье ноября 2099 года.
В маленькой комнате №1320 дома 21Б по третьей линии Кировского района, на седьмом этаже поверхности, вдыхают тревожное утро два забытых, брошенных человека – двадцативосьмилетняя Женя и ее семилетний сын, Иван.
Воздух густой, горячий, над низким потолком гудит круглая таблетка очистителя. Движения впалой девичьей груди коротки. Тонкие руки, обернутые в темные шерстяные рукава, застыли на голых коленях.
Беспокойный сон маленького Вани превратился час назад в поверхностное забытье. Веки его едва заметно подрагивают, в такт неровному сердцебиению… воспаленные лимфоузлы пульсируют густым жаром. Вязкая боль смягчена дорогими лекарствами… но они уже почти не помогают… и теперь нужно глотать пилюли горстями, чтобы…
Время застывает в зацикленном гипнотическом пространстве. Девушка сидит за обрубком кухонного стола. Спина напряжена. Каменная статуя, вместо крови – песок. На расстоянии вытянутой руки дымится призрак умершей матушки. На ее морщинистом полупрозрачном лице задеревенела пренебрежительная ухмылка.
Женя охвачена смутной тревогой. Мать пришла не просто так. Что-то замышляет… Девушка боится смотреть в ее пустые глаза. На секунду жмурится, пытаясь прогнать наваждение. Заледеневшее приведение, сотканное из мучительных тревог и бессонных ночей, дрожит в разгоряченном воздухе, прошитое неяркими лучами уличной рекламы, а потом медленно растворяется.
За окном ширится блеклое утро. Из небоскреба напротив вскрикивает реклама:
– Сто участников, – Женя вздрагивает. – Десять испытаний. Победитель получает все…
Одиночество накатывает на нее. Его нечем утолить. Жизнь – бесплодная пустыня, а Женя как Моисей, которому не суждено узреть обетованную землю… Но сдаваться никак нельзя. Иначе, зачем все это?
Женя осторожно поднимается (заледеневшие мышцы почти не слушаются), натыкается на отполированное зеркальце, подвешенное над белоснежной раковиной, встречается взглядом с поникшим лицом, впалыми щеками… Глаза отливают зеленоватой серостью. На плечах покоится древний шелковый платок, который достался ей от бабушки, переехавшей давным-давно в Петербург из провинциального Саратова.
Девушка красива, хоть и не признает это. Никто никогда ей этого не говорил, кроме… нет, о нем вспоминать не хочется…
Большие глаза блестят на гладком полотне лица. Губы тонкие, рот аккуратный, полустертый.
Похожа на мать, но только внешне. Боится, что со временем тоже заразится этим безумием. Болезненная любовь к богу выжигает все вокруг. Любые чувства превращаются в мертвенную пустыню…
Однажды Женя разбила коленку по дороге на воскресную службу. Окровавленная кожа пылала, детские губки усердно обдували рану. Когда наткнулась глазами на каменное лицо матушки, увидела ее перекошенное от омерзения лицо.
– Не хнычь! Не позорь меня! Вставай! Сейчас же!
Жестокая, деспотичная стерва. Женя смотрела на ее мерзкую родинку… черную горошину, прилипшую к нижней губе. Боролась с желанием вцепиться в нее зубами и оторвать от морщинистого лица…
Мать умерла. Но Женя все еще чувствует: она рядом. Почему не уходит? Почему продолжает мучать?
Девушка касается лба. Холодная влажность. Обычно собирает курчавые волосы в пучок, но сейчас космы распущены, излиты на плечи. Руки застыли, внутри – переплетение холодных вен, реки боли, мертвенная синева. На ладонях красуются глубокие ожоги, выжженные попытками не-умереть. На шее теплится небольшая родинка в форме жирафовой головы. Такая же была у ее отца, которого она почти не помнит… только смутную тактильность: мягкие касания широких ладоней на детских плечах, поцелуй в макушку от далекого призрака…