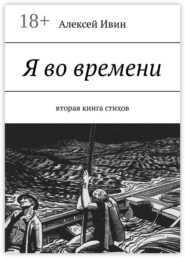По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Студенческие рассказы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да, феминизируются, то есть замещают женщин по хозяйству, а женщины мускулани..
– Манускуланизируются.
– Вот именно, мускулизируются. то есть ездят на машинах, курят табак и убивают мамонтов. А вы еще живете по старинке: яичницу – и ту не умеете приготовить как следует… А ты уже уезжаешь? – вдруг обратилась она к Федосову.
Федосов, польщенный, что им заинтересовались, заломался:
– Да вот, солнечную Молдавию решил навестить…
– У него там пассия, – бесцеремонно пояснил Викентьев, чтобы отбить у Елены всякую охоту интимничать с человеком, у которого есть девушка.
– Вот как! – удивилась она и оделила Федосова таким продолжительным и многозначительным взглядом, что Викентьев заревновал. Он понял, что лишь разрекламировал своего друга, что тот – в глазах Елены – подскочил в цене, возвысился, приобрел вес: ехать двое суток в поездах, издержать уйму денег, толкаться в очередях за билетами, недосыпать – и все это для того, чтобы увидеть любимую? – о, на такое способен только рыцарь и поэт. Викентьев впал в уныние; его раздражало, что Елена, видя, как он ходит из угла в угол с сигаретой в зубах, не спросит, что с ним стряслось. Она болтала с Федосовым, лишь изредка обращалась к Викентьеву и, хотя он неприветливо рычал. удовлетворялась ответами… Он понимал, что смешно обижаться, старался присоединиться к их беседе, но мнительность одерживала верх.. Федосов – в этом волоподобном человеке он не предполагал такой проницательности, – заметил его мучения и попытался сознательно стушеваться, но эта-то чуткая жалостливость к нему, к поверженному, бесила Викентьева еще сильнее. Он сел на кровать, заложил за спину подушку и, притворившись, будто читает, жадно прислушивался к их разговору, – так напроказивший наказанный мальчик прислушивается, прекратив плакать, что скажут о нем родители.
Федосов (в желчном восприятии Викентьева) распинался так, словно очаровывал пуританку. Солидные и умные слова, подкрепленные неторопливой жестикуляцией, казалось, восторгали Елену, а Викентьева злили: он-то знал, что Федосов способен часами молотить языком, умасляя собеседника и набивая себе цену, – тщеславный человек, герой если не для миллионов, то хоть для одного, если не навсегда, то хотя бы на час…
– Ты что же это, Викентий? – пропел серебряный голосок Елены, и ее ласковая рука легко взъерошила волосы Викентьева. – Невежливо читать книгу при даме, нетактично. Некрасиво…
– Во-первых, я не Викентий, – ответил он, почувствовав на сердце теплоту и нежность. – У меня другое имя, и зовут меня Олегом…
– О-ле-гом… – повторила она по-детски и рассмеялась. – Теперь запомню. – И ему показалось, что ее руки шевельнулись на коленях, чтобы снова обласкать его, но не посмели. Он вдруг совершенно осчастливел бог весть отчего. Он хохотал, рассказывал смешные байки и, сам того не замечая, принудил словоохотливого Федосова замолчать на целых полчаса: такая с ним произошла перемена от двух-трех ласковых дамских слов.
Федосов, скучая, еще раз перерыл содержимое портфеля и объявил, что пора идти. Викентьев и Елена решили проводить его до вокзала, и он принял эту услугу. Они вышли. Возбужденный, Викентьев запер комнату, положил ключ в карман, сбежал по лестнице и догнал их уже на улице. Решено было идти пешком.
Прошел дождь. По мокрому асфальту, в котором отражались уличные фонари, скользили, словно черные призраки, автомобили с притушенными фарами; редкие прохожие обозначались из мрака, располосованного, испятнанного бликами света, обозначались и таяли, оставив по себе, как память, обрывок разговора или огонек сигареты, шляпу, затенявшую лицо, или очки, блеснувшие, как глаз циклопа. Тополиные ветви, наклоненные над тротуаром, еще обрызгивали дождем, Викентьев притворно сердился и поругивался, Елена смеялась, забегала вперед, била по веткам зонтиком, вымокала сама и радовалась, если удавалось вымочить Викентьева.
Показалось длинное кирпичное здание вокзала, изукрашенное башенками, нишами и галереями. Сновали носильщики, толкая тележки, пассажиры толпились на перроне, скучающе прогуливались.
– Постойте! – вскрикнул вдруг Федосов испуганно. – Я, кажется, забыл билет…
Он остановился и сунул руку вначале в один карман, потом в другой, потом в третий. Он озабоченно вывернул наизнанку все тринадцать карманов, но ничего, кроме пуговицы, горсти табаку, ломаных спичек и колоды карт, в них не оказалось.
– Сколько времени? – спросил он отрывисто и, узнав, что до отхода поезда двадцать минут, по-старушечьи всплеснул руками. – Не успеть! – возопил он и бросился к ближайшему такси. Видно было, как он длинно объясняется с таксистом, а тот, поигрывая ключиком, односложно отвечает точно брезгливый властелин на мольбы докучного попрошайки. То же повторилось и у других такси.
Словно избитый, едва волоча ноги, Федосов потащился на вокзал – к дежурному. Вскоре он оттуда вернулся с удрученным лицом.
– Перевешать всех таксистов! – буркнул он и сел на асфальт.
Викентьев и Елена напряженно следили за его действиями.
– Ты бы им накинул рублишко, – сказала Елена.
– А если у меня, Леночка, в кармане блоха на аркане, тогда что? – ядовито спросил Федосов.
– И ты в такую даль без денег поедешь?.. Давай – мы с Олегом скинемся?..
– Да есть у меня деньги, есть! Унижаться не хочется перед ними. Раньше, при царе еще, ваньку нанял, треснул ему по затылку – вперед, а эти… Они же поезда поджидают, заразы, и дальних пассажиров. Я лучше сбегаю, – сказал он, расшнуровывая ботинок, снимая его и засовывая в портфель.
– Ты что, серьезно?
– Серьезно. Билет можно перекомпостировать на двухчасовой поезд. Берегите мой портфель, как зеницу ока.
Он засучил штанины, обнажив крепкие волосатые ноги, поправил ситцевую кепчонку с обломанным светозащитным козырьком и посмотрел на Елену печально и томно, как умирающий конь. И нехотя затрусил по шоссе.
Посмеиваясь, Викентьев и Елена пересекли привокзальную площадь и остановились под старыми тополями. Викентьев взял Елену за руку.
– Это, наверное, жутковатое зрелище: растрепанный, длинноволосый, босой, в одной рубашке… О нечистой силе вспоминается, – сказал он только для того, чтобы Елена забыла, что ее рука в его руке, чтобы она не почувствовала, что ее губы, близкие, нежные, как крылья красивой бабочки, искушают его. Он опять возбудился и нес околесицу, которая его опьяняла, представляясь изящным острословием. В девятиэтажном доме напротив горел свет в окне, и странно желтело посреди серой громадины только одно освещенное окно.
– «Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят», – сентиментально продекламировал Викентьев.
– Окно-то окном, но твоя рука…
– Леночка, пусть правая рука не ведает, что творит левая, – отпарировал он шутливо. – Я люблю тебя, Лена, ты веришь мне или нет?..
– Не верю, – кокетливо прошептала она, взъерошила его волосы быстрыми руками и задумчиво спросила: – Разве можно тебе не верить? Эти глаза не обманут, а этот носик, этот, можно сказать, рубильник – сама честность… – Она потрогала его нос. – Эх ты, Дон-Жуан! Поцелуй меня…
Викентьев поцеловал. Они веселились, как дети, смеялись и поминутно целовались. Викентьев позабыл о Федосове, о том, что сегодня утром, которое уже брезжило на холодном востоке, он и сам уезжает.
Он сунул руку в карман, чтобы достать сигареты, и застыл пораженный:
– Лена, а ключ-то от комнаты у меня… – сказал он и глупо рассмеялся. В восторге, что так обернулось дело, Елена запрыгала, захлопала в ладоши и залилась смехом.
– Однако, – сказал он, – как же Федосов попадет в комнату?
– Ну и пусть! Это будет урок разине…
Федосов бежал «быстрее лани». Влажный мокрый асфальт ласкал ступни ног, ночной воздух наполнял грудь, сердце билось мощно и ровно, гоняя кровь. Редкие встречные прохожие сторонились, а когда он пробегал мимо, оглядывались на него, недоумевая, откуда взялся этот слегка помешанный человек в таком виде и в такой час. Чтобы укрыться от любопытствующих взоров, Федосов перебегал с одной стороны улицы на другую, увеличивал скорость, завидев темный спасительный сквер, и ругался. «У, мещане! – думал он. – Увидят слегка раздетого человека – и уже бог знает что о нем думают. Разве я виноват, что человечество охраняет все житейские предрассудки. Не бегай босиком в городе, носи обувь, застегивайся на все пуговицы и не возбуждай толков поведением своим». На углу улиц Гоголя и Пушкина он заметил большую компанию; сворачивать было поздно, и он устремился вперед. Его встретили в гробовом молчании; были слышны только его босоногие шлепки и дыхание. «Лови его, ребята! Он из дурдома!» – вдруг крикнул кто-то, пронзительно засвистел и заулюлюкал. Но, обернувшись на бегу, он увидел, что ловить его никто не собирается. «Наверно, действительно похож на психа, – подумал он о себе. – До чего мы все закомплексованные! Вон в Америке студенты целыми гарнизонами бегают по улице в чем мать родила, да и то ничего: форма протеста. Кому какое до меня дело? Все мнительность проклятая! Может, сбавить темп? Нет, надо бежать, иначе не успею».
Показалось общежитие, погруженное в сон; только на первом этаже в фойе еще горел свет. Переведя дыхание, Федосов постучал в дверь, потом, подождав немного, – в окно. Заскрипели пружины старого дивана, на котором дремала вахтерша.
– Ну, кого там до сих пор леший носит? – спросил усталый старушечий голос, и дверь открылась. Федосов смело ступил через порог.
– Ах ты, батюшки! Да ты никак босой?
– Босой, тетя Паша, босой… Дайте-ка мне ключ: на поезд опаздываю, а билет в комнате забыл.
– Да как же это ты… – Тетя Паша с сокрушением рассматривала его ноги, забрызганные грязью, и грязные следы на полу.
– Ключ, говорю, дайте! – прорычал Федосов.
– Да ведь нету ключа-то, родимый.
– Как нету? А разве Викентьев не оставлял?
– Не оставлял. Сам посмотри – нету ключа.
– Да, правда, – хмуро согласился Федосов. – Неужели этот стервец его с собой унес? Ох, горе мне! Нет ли хоть какого-нибудь гвоздика, а?
Тетя Паша развела руками. Федосов молча устремился вверх по лестнице, подбежал к комнате, толкнул дверь. Но убедился, что она заперта. Гвоздик удалось вытащить, сняв стенгазету. Четверть часа возился Федосов возле двери, неоднократно пытался ее взломать, но только нашумел и разбудил соседей, которые, заспанные и недовольные, высовывались из комнат, просили прекратить это безобразие. Наконец дверь открылась, и, схватив с тумбочки злополучный билет, Федосов опрометью выбежал на улицу: времени оставалось в обрез.
– Манускуланизируются.
– Вот именно, мускулизируются. то есть ездят на машинах, курят табак и убивают мамонтов. А вы еще живете по старинке: яичницу – и ту не умеете приготовить как следует… А ты уже уезжаешь? – вдруг обратилась она к Федосову.
Федосов, польщенный, что им заинтересовались, заломался:
– Да вот, солнечную Молдавию решил навестить…
– У него там пассия, – бесцеремонно пояснил Викентьев, чтобы отбить у Елены всякую охоту интимничать с человеком, у которого есть девушка.
– Вот как! – удивилась она и оделила Федосова таким продолжительным и многозначительным взглядом, что Викентьев заревновал. Он понял, что лишь разрекламировал своего друга, что тот – в глазах Елены – подскочил в цене, возвысился, приобрел вес: ехать двое суток в поездах, издержать уйму денег, толкаться в очередях за билетами, недосыпать – и все это для того, чтобы увидеть любимую? – о, на такое способен только рыцарь и поэт. Викентьев впал в уныние; его раздражало, что Елена, видя, как он ходит из угла в угол с сигаретой в зубах, не спросит, что с ним стряслось. Она болтала с Федосовым, лишь изредка обращалась к Викентьеву и, хотя он неприветливо рычал. удовлетворялась ответами… Он понимал, что смешно обижаться, старался присоединиться к их беседе, но мнительность одерживала верх.. Федосов – в этом волоподобном человеке он не предполагал такой проницательности, – заметил его мучения и попытался сознательно стушеваться, но эта-то чуткая жалостливость к нему, к поверженному, бесила Викентьева еще сильнее. Он сел на кровать, заложил за спину подушку и, притворившись, будто читает, жадно прислушивался к их разговору, – так напроказивший наказанный мальчик прислушивается, прекратив плакать, что скажут о нем родители.
Федосов (в желчном восприятии Викентьева) распинался так, словно очаровывал пуританку. Солидные и умные слова, подкрепленные неторопливой жестикуляцией, казалось, восторгали Елену, а Викентьева злили: он-то знал, что Федосов способен часами молотить языком, умасляя собеседника и набивая себе цену, – тщеславный человек, герой если не для миллионов, то хоть для одного, если не навсегда, то хотя бы на час…
– Ты что же это, Викентий? – пропел серебряный голосок Елены, и ее ласковая рука легко взъерошила волосы Викентьева. – Невежливо читать книгу при даме, нетактично. Некрасиво…
– Во-первых, я не Викентий, – ответил он, почувствовав на сердце теплоту и нежность. – У меня другое имя, и зовут меня Олегом…
– О-ле-гом… – повторила она по-детски и рассмеялась. – Теперь запомню. – И ему показалось, что ее руки шевельнулись на коленях, чтобы снова обласкать его, но не посмели. Он вдруг совершенно осчастливел бог весть отчего. Он хохотал, рассказывал смешные байки и, сам того не замечая, принудил словоохотливого Федосова замолчать на целых полчаса: такая с ним произошла перемена от двух-трех ласковых дамских слов.
Федосов, скучая, еще раз перерыл содержимое портфеля и объявил, что пора идти. Викентьев и Елена решили проводить его до вокзала, и он принял эту услугу. Они вышли. Возбужденный, Викентьев запер комнату, положил ключ в карман, сбежал по лестнице и догнал их уже на улице. Решено было идти пешком.
Прошел дождь. По мокрому асфальту, в котором отражались уличные фонари, скользили, словно черные призраки, автомобили с притушенными фарами; редкие прохожие обозначались из мрака, располосованного, испятнанного бликами света, обозначались и таяли, оставив по себе, как память, обрывок разговора или огонек сигареты, шляпу, затенявшую лицо, или очки, блеснувшие, как глаз циклопа. Тополиные ветви, наклоненные над тротуаром, еще обрызгивали дождем, Викентьев притворно сердился и поругивался, Елена смеялась, забегала вперед, била по веткам зонтиком, вымокала сама и радовалась, если удавалось вымочить Викентьева.
Показалось длинное кирпичное здание вокзала, изукрашенное башенками, нишами и галереями. Сновали носильщики, толкая тележки, пассажиры толпились на перроне, скучающе прогуливались.
– Постойте! – вскрикнул вдруг Федосов испуганно. – Я, кажется, забыл билет…
Он остановился и сунул руку вначале в один карман, потом в другой, потом в третий. Он озабоченно вывернул наизнанку все тринадцать карманов, но ничего, кроме пуговицы, горсти табаку, ломаных спичек и колоды карт, в них не оказалось.
– Сколько времени? – спросил он отрывисто и, узнав, что до отхода поезда двадцать минут, по-старушечьи всплеснул руками. – Не успеть! – возопил он и бросился к ближайшему такси. Видно было, как он длинно объясняется с таксистом, а тот, поигрывая ключиком, односложно отвечает точно брезгливый властелин на мольбы докучного попрошайки. То же повторилось и у других такси.
Словно избитый, едва волоча ноги, Федосов потащился на вокзал – к дежурному. Вскоре он оттуда вернулся с удрученным лицом.
– Перевешать всех таксистов! – буркнул он и сел на асфальт.
Викентьев и Елена напряженно следили за его действиями.
– Ты бы им накинул рублишко, – сказала Елена.
– А если у меня, Леночка, в кармане блоха на аркане, тогда что? – ядовито спросил Федосов.
– И ты в такую даль без денег поедешь?.. Давай – мы с Олегом скинемся?..
– Да есть у меня деньги, есть! Унижаться не хочется перед ними. Раньше, при царе еще, ваньку нанял, треснул ему по затылку – вперед, а эти… Они же поезда поджидают, заразы, и дальних пассажиров. Я лучше сбегаю, – сказал он, расшнуровывая ботинок, снимая его и засовывая в портфель.
– Ты что, серьезно?
– Серьезно. Билет можно перекомпостировать на двухчасовой поезд. Берегите мой портфель, как зеницу ока.
Он засучил штанины, обнажив крепкие волосатые ноги, поправил ситцевую кепчонку с обломанным светозащитным козырьком и посмотрел на Елену печально и томно, как умирающий конь. И нехотя затрусил по шоссе.
Посмеиваясь, Викентьев и Елена пересекли привокзальную площадь и остановились под старыми тополями. Викентьев взял Елену за руку.
– Это, наверное, жутковатое зрелище: растрепанный, длинноволосый, босой, в одной рубашке… О нечистой силе вспоминается, – сказал он только для того, чтобы Елена забыла, что ее рука в его руке, чтобы она не почувствовала, что ее губы, близкие, нежные, как крылья красивой бабочки, искушают его. Он опять возбудился и нес околесицу, которая его опьяняла, представляясь изящным острословием. В девятиэтажном доме напротив горел свет в окне, и странно желтело посреди серой громадины только одно освещенное окно.
– «Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят», – сентиментально продекламировал Викентьев.
– Окно-то окном, но твоя рука…
– Леночка, пусть правая рука не ведает, что творит левая, – отпарировал он шутливо. – Я люблю тебя, Лена, ты веришь мне или нет?..
– Не верю, – кокетливо прошептала она, взъерошила его волосы быстрыми руками и задумчиво спросила: – Разве можно тебе не верить? Эти глаза не обманут, а этот носик, этот, можно сказать, рубильник – сама честность… – Она потрогала его нос. – Эх ты, Дон-Жуан! Поцелуй меня…
Викентьев поцеловал. Они веселились, как дети, смеялись и поминутно целовались. Викентьев позабыл о Федосове, о том, что сегодня утром, которое уже брезжило на холодном востоке, он и сам уезжает.
Он сунул руку в карман, чтобы достать сигареты, и застыл пораженный:
– Лена, а ключ-то от комнаты у меня… – сказал он и глупо рассмеялся. В восторге, что так обернулось дело, Елена запрыгала, захлопала в ладоши и залилась смехом.
– Однако, – сказал он, – как же Федосов попадет в комнату?
– Ну и пусть! Это будет урок разине…
Федосов бежал «быстрее лани». Влажный мокрый асфальт ласкал ступни ног, ночной воздух наполнял грудь, сердце билось мощно и ровно, гоняя кровь. Редкие встречные прохожие сторонились, а когда он пробегал мимо, оглядывались на него, недоумевая, откуда взялся этот слегка помешанный человек в таком виде и в такой час. Чтобы укрыться от любопытствующих взоров, Федосов перебегал с одной стороны улицы на другую, увеличивал скорость, завидев темный спасительный сквер, и ругался. «У, мещане! – думал он. – Увидят слегка раздетого человека – и уже бог знает что о нем думают. Разве я виноват, что человечество охраняет все житейские предрассудки. Не бегай босиком в городе, носи обувь, застегивайся на все пуговицы и не возбуждай толков поведением своим». На углу улиц Гоголя и Пушкина он заметил большую компанию; сворачивать было поздно, и он устремился вперед. Его встретили в гробовом молчании; были слышны только его босоногие шлепки и дыхание. «Лови его, ребята! Он из дурдома!» – вдруг крикнул кто-то, пронзительно засвистел и заулюлюкал. Но, обернувшись на бегу, он увидел, что ловить его никто не собирается. «Наверно, действительно похож на психа, – подумал он о себе. – До чего мы все закомплексованные! Вон в Америке студенты целыми гарнизонами бегают по улице в чем мать родила, да и то ничего: форма протеста. Кому какое до меня дело? Все мнительность проклятая! Может, сбавить темп? Нет, надо бежать, иначе не успею».
Показалось общежитие, погруженное в сон; только на первом этаже в фойе еще горел свет. Переведя дыхание, Федосов постучал в дверь, потом, подождав немного, – в окно. Заскрипели пружины старого дивана, на котором дремала вахтерша.
– Ну, кого там до сих пор леший носит? – спросил усталый старушечий голос, и дверь открылась. Федосов смело ступил через порог.
– Ах ты, батюшки! Да ты никак босой?
– Босой, тетя Паша, босой… Дайте-ка мне ключ: на поезд опаздываю, а билет в комнате забыл.
– Да как же это ты… – Тетя Паша с сокрушением рассматривала его ноги, забрызганные грязью, и грязные следы на полу.
– Ключ, говорю, дайте! – прорычал Федосов.
– Да ведь нету ключа-то, родимый.
– Как нету? А разве Викентьев не оставлял?
– Не оставлял. Сам посмотри – нету ключа.
– Да, правда, – хмуро согласился Федосов. – Неужели этот стервец его с собой унес? Ох, горе мне! Нет ли хоть какого-нибудь гвоздика, а?
Тетя Паша развела руками. Федосов молча устремился вверх по лестнице, подбежал к комнате, толкнул дверь. Но убедился, что она заперта. Гвоздик удалось вытащить, сняв стенгазету. Четверть часа возился Федосов возле двери, неоднократно пытался ее взломать, но только нашумел и разбудил соседей, которые, заспанные и недовольные, высовывались из комнат, просили прекратить это безобразие. Наконец дверь открылась, и, схватив с тумбочки злополучный билет, Федосов опрометью выбежал на улицу: времени оставалось в обрез.