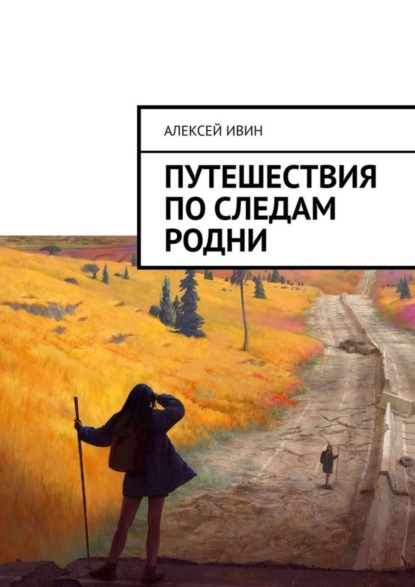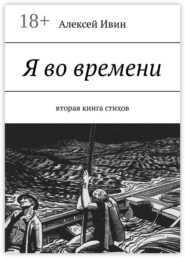По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путешествия по следам родни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Путешествия по следам родни
Алексей Ивин
Это не путеводитель по местностям, а этносоциокультурный срез частной жизни россиян, расселенных на северо-западе европейской части страны, в самом конце ХХ века. Для любителей интеллектуального чтения. Книга пользовалась большой популярностью в свободном доступе. Книга содержит нецензурную брань.
Путешествия по следам родни
Алексей Ивин
© Алексей Ивин, 2019
ISBN 978-5-4496-8452-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
©, Алексей ИВИН, автор, 1999 г.
©, Журнал литературной критики и словесности, Сетевая словесность, Русский пионер, ЛИТМИР и др.
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СЛЕДАМ РОДНИ
Л.Р.Илюхиной и прихожанам Никольской церкви в городе Киржач
– Чего бы ты хотел? – Господи, чтобы мне оказаться в местах, где за целый день не встретишь человека.
Георг Андрес Лихтола
ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ
Непостижимо, как вообще осуществляется замысел: замысел автора относительно произведения, замысел родителей относительно ребенка, – у исполнителя часто сохраняется возможность увильнуть от прямого воплощения. Есть знания, которые из чувства самосохранения лучше не разглашать. Но так как в опубликованной статье «Прочь от цивилизации» я уже заявил об этих путевых очерках как о написанных, то вынужден исполнять обещание. И все же мотивы моих путешествий летами 1994—1997 годов, которые относятся скорее к области тайноведения и парапсихологии, чем логики и целесообразности, таковы, что я предпочел бы о них умолчать: как-нибудь в другой раз…
Большинство людей, и женщин в особенности, как выяснилось, не интересуются прекрасным миром. Большинство людей интересуются помещениями, поэтому они изобрели различные повозки, автомобили, поезда, самолеты, суда, ракеты и прочие помещения. Ну, а мы с вами попробуем посмотреть на мир иначе.
Я назвал бы эту книгу «В поисках утраченного места», если бы уже известный автор не выглядывал из такого названия. А перепевать кого бы то ни было меньше всего хотелось бы.
МОНИНО, ФРЯЗИНО, ИВАНТЕЕВКА, КАЛИНИНГРАД
Гольяновский пруд на границе парка Лосиный остров
1
Уже в конце п е р е с т р о й к и я очутился в нелепейшей ситуации: треть моих сверстников и людей помоложе королями восседала среди развалов экзотических фруктов (желто-зеленые бананы, лиловые баклажаны, ярко-оранжевые апельсины – всё это было е д о й, и они из нее выглядывали), другая, в белоснежных рубашках, галстуках, вишневых и малиновых пиджаках ажитированно сновала туда-сюда в офисах банков, коммерческих контор среди прилежно склоненных за компьютерами, отглаженных и плиссированных городских девочек, и из мраморных подъездов с деловым видом и полнейшим самодовольством на уже круглых мордасонах отъезжала на «мерседесах» и «ауди», а я по-прежнему был о т т у д а, из деревни, от этих изможденных морлоков, беззубых, тощих, прокуренных и промасленных. Я только чувствовал, что постоянно голоден, никому не нужен среди этих двух третей, занятых первоначальным накоплением. Те, от имени которых я представительствовал, служили объектом насмешек со стороны евреев-остроумцев, деятелей разговорного жанра: они потешались над народом-дураком и принимали его обожание. И чем больше было выглядывавших из киосков и восседавших за прилавками, чем зеркальнее блестели витрины супермаркетов, тем энергичнее меня в ы г о н я л и из жизни.
Развязавшись к тому времени с парой-тройкой шлюх, изображавших из себя интеллектуалок, я особенно четко стал понимать, что все это – наносное, пена, а настоящее по-прежнему коренится в природе. Природу не заботит, как обменять коммуналку в Гольянове на двухкомнатную квартиру в Яхроме. Поскольку 99% моего окружения знали и могли совершить такой обмен, а я – нет, я и поехал на природу. И почему-то нравился именно такой маршрут пригородной электрички: половина на Рыбинск, на север, половина на Владимир, на восток. Выталкиваясь на первой понравившейся станции, в тишину, наступавшую сразу после гула ушедшей электрички, ныряя по тропе под кроны разреженного леса, я с горечью убеждался, что живу не в своем ареале. Как та лесная рысь, которую занесло в южные дубравы. Не желудями же ей питаться, Господи прости. Точно больной, я ходил по этому гадкому подлеску, среди пустых молочных пакетов и пивных банок, срывал желтый первоцвет и лиловую медуницу, припорошенные, словно пеплом, сухими осадками ТЭЦ (давненько не мочили дожди), и чувствовал, что как бы теряю пол, меняюсь на женский. Хотя первоначальное-то стремление заключалось как раз в обратном: избавиться от этих грязных ляжек, титек, уст, денежных разговоров, радио- и телепроституции, прорваться сквозь них к тому нормальному, что чует даже рыба, когда ищет стремнину почище. Пока же я был худ, бледен, немочен, как эти припорошенные осадками ТЭЦ блеклые весенние подмосковные цветочки. Всё внутри и вокруг казалось грязным и запущенным, как внутренности дома, обреченного на снос: рваные обои, штукатурка, затхлый запах развороченной кирпичной печи, собачьи экскременты по углам. Многие тысячи родов, безвыездно живущих по вологодским и смоленским деревням, растущие так же, как трава и деревья, и так же не склонные к перемещениям, их опыт убеждали меня, что здоровье и красота, конечно, в том, чтобы босиком с веником и тазом под мышкой каждую субботу по росистой траве ходить в баню. Я все еще был здоровый и органичный, объект насмешек для деятелей массовой эстрады, и, в свою очередь, сам считал чокнутыми тех, кто способен сутками ковыряться в моторе или программировать новые картинки на компьютере вместо надоевших.
Но на платформе Осеевская или на берегу опрятной речки Учи не находилось исцеления в полноте. По большому счету, если уж так потянуло к земле, следовало накопить денег и купить дачу и участок. Но в том-то и дело, что в сорок с хвостиком я был голый, гонимее жида, завоеванного ассирийцем, не в ладу с общепринятым московским образом жизни (квартира в городе и дачный участок за городом). Более того, меня не интересовало вписываться в их инфраструктуру, меня интересовало – выпадать. Перемены были не столь уж кардинальны, первопрестольная по-прежнему спала, купчиха в расписных своих теремах, но я-то был м у ж ч и н о й и е в р о п е й ц е м. В простоте душевной я, выгоняемый, питал иллюзии, что, может, и здесь удастся остаться мужчиной, а не стриженым цивилизованным пуделем в бархатном комбинезоне на шелковом поводе… И эту иллюзию тотчас решил претворить, поймав щуку хоть в той же Уче. Четыре часа я забрасывал лесу в ее кувшинки и даже выудил нескольких больных бледных окуней и уклеек (когда потом вспарывал брюхо, убедился, что они и впрямь больны: глисты и какие-то белые пятна по телу), но испытал только досаду: я н е л ю б и л эту реку и эту местность. И этот город. И весь этот водораздел вплоть до Каспийского моря и Тегерана. Всё это было не мое, чужое, чуждое.
Неужели же должен был жить там, где родился?
Я вспоминал иных друзей и приятелей, персон и мелких служащих, прикидывал так и этак: получалось, что от места рождения успех не зависит. Борис Ельцин был с сибирского водораздела, а сидел на Москве-реке – и ничего. А одна дама была местная уроженка – и тем не менее дура. Принадлежность к волжскому бассейну не добавила ей ни капли мозгов. Напротив того, Е., который по месту рождения должен был стекать чуть ли не в Южно-Китайское море, меня уже пятую квартиру – и все в пределах Садового кольца. Следовательно, хотя от корней оторван и с родственниками не живу, не я же один такой, и далеко не всем оторванным такая невезуха. Другое дело, что, будучи оторванным и не в своей тарелке, не в своем ареале, не в своем городе, я все-таки хочу укрепиться, укорениться. Кто же меня достает, выгоняет на эти лесопарковые дорожки, в эти электрифицированные местности, от которых так и веет скукой исхоженности? Очевидно, мыслил я с прилежностью параноика, раз в П о д- московье, то те, кто собираются быть хозяевами в Москве. И конечно, не Ельцин, которому не долго царствовать, а люди помоложе, в малиновых пиджаках. Я для них дурак, старообрядец, отживший элемент – в Подмосковье на даче ему место. И это несмотря на то, что по милости их дешевой новизны я до сих пор не проявлен и не блещу. Вот блещет эта всероссийская ведьма, заместительница Емельяна, а я не блещу.
Ибо тяжел в общении.
Итак, после нескольких поездок до меня дошло, что я пытаюсь утешиться театральной бутафорией. А душа требует подлинной природы, действительной народной жизни, а главное, включенности в процесс. Насчет включенности – об этом я подумал позднее, когда нашел работу; больше того, я тогда понял, что у нас в стране только включенный – заключенный и свободен. Но и об этом – после.
А пока, как только я понял, что лесные просеки под Ивантеевкой меня не спасут, но что амплитуда моих кросс-поездок должна быть шире и богаче, как только прикинул, что если обзавестись удостоверением инвалида, то даже при безденежье можно выскакивать за пределы области, не входя в большие финансовые расходы; как только понял, что если, правда, не двигаться, то ребята в малиновых пиджаках и согласная с ними моя дочь, о которой ни слуху ни духу вот уже несколько лет, запросто отправят меня на кладбище, это меня-то, которому только сорок с хвостиком, как только до меня дошли эти закономерности взаимоотношений отцов и детей в стране России, где тот не велик, кто своих детей не поубивает, и тот из молодежи не силен, кто своих предков на погост не спровадит, – словом, кое-что обмозговав, я решил стать совсем европейцем и путешествовать методом автостопа. О том, чтобы купить машину, мне с моими и н ы м и задачами можно только мечтать, но пёхом и на попутках я могу объездить и весь свой милый Север, и столь притягательный, любимый Запад – до границ Белоруссии (а также Юг, который не люблю, но хотя бы до Тулы, и Восток).
Поверите ли, я, голодный, отчаявшийся человек, ощутил впервые предпосылки душевного спокойствия.
Черта лысого вы заставите меня сдохнуть, когда я еще не реализовал себя!
Разумеется, поведи я себя таким образом, будучи жителем наркоманного Копенгагена, или Берлина, или Парижа, меня бы поняли: там пренебрежение ценностями цивилизации уже вроде как признак хорошего тона и аристократичности. Но я-то живу в самом сердце Азии и очень хорошо понимаю, что первые же проявления такого рода свободы ставят меня на один уровень с кочующим цыганом или бомжем, у которого, к тому же, сифилис. Наши азиатские ценности как-то так поставлены, что переночевать на открытом воздухе – значит в глазах общественного мнения и оценщиков от цивилизации вываляться в грязи. У нас самый цивилизованный – это самый недоступный гражданин (преимущественно в Кремле). И еще он должен быть наглым и злобным, как кабан. Вот тут уж наше вам почтение – все двери перед ним открываются. Действовать по принципу «раздражитель – рефлекс» и значит быть сильным. Я же таковым становился лишь в естественных условиях – в лесу, в поле, в маленьком городе. В Москве от прямых реакций не было толку – я хочу сказать, от прямых, естественно человеческих. Сидящий за рулем и воспринимался как стальной, железный, автоматический; у меня и желания-то никогда не возникало подойти к такому. Другое дело, если б мне самому удалось облечь себя железом: средство-то передвижения, что ни говори, мне нравилось, для моих целей годилось, вот только накопить достаточную сумму мне вряд ли бы удалось. Для меня, голого моллюска, это было больно: иерархия ценностей в городе была иной; некоторые из этих «железных» с их телохранителями, замками, сейфами, цифровыми кодами, секретами находились от меня, идущего пешком по улице, бесконечно далеко. Их охраняли, а обо мне заботился лишь Божественный Промысел, причем я не всегда правильно оценивал Его разъяснения.
Но в определенную минуту Он твердо сказал: «Не хлебом единым жив человек» – и я поехал смотреть, насколько прекрасен и гармоничен мир.
11
Но первые опыты такого исследования прекрасного божьего мира были и неудачливы, и бессознательны. Помню, сколько раз наобум и бессознательно заезжал в район Ивантеевки, не доезжая реки Учи, выходил в Валентиновке или на платформе 5-го километра и шел в дачной местности с километр на берег мелкого пруда. Это был дрянной пруд, вырытый, очевидно, на месте песчаного карьера. Смех ситуации состоял в том, что в трехстах метрах от квартиры, где жил, был точно такой же даже в очертаниях мелкий пруд, но ивантеевский понравился отчего-то больше: должно быть, тем, что можно было пройти дальше в лес, и там все дорожки были усыпаны белым мелкоцветием земляники, по берегам же моего гольяновского пруда ничего не цвело. Я понимал, что езжу врачевать душу, за тишиной. Я обходил пруд несколько раз по окружности. На его берегах купались, удили ершей, из распахнутых, точно разобранные постели, дверец автомобилей неслась музыка, и раздетые жирные домохозяйки подкреплялись куриными окорочками, жир стекал по пальцам. Отчего-то на этом пруде было постоянно ветрено, а по берегам – глина и грязно, так что я ни разу не рискнул искупаться. Я еще боялся всего натурального, не доверял ему, считал «грязным»; даже бледно-желтые первые земляничины, когда заглатывал их вместе с завялыми чашелистиками, были не вкуснее соленого арахиса к пиву. Разложить в лесу костер я не решался, а просто кружил по его тропам, стараясь ориентироваться на гул проходящей электрички. Почему я зачастил в Ивантеевку, было непонятно. Я этимологизировал, и получалось так, что Валентиновка – это от Валентина, а Валентин – от здоровья; Ивантеевка же с моей фамилией вполне вязалась, и даже было там что-то от деуса: Иван+Деус. В общем, что-то там Ваня делал. Учил меня, тем более что рядом протекала река Уча. И вот я с тупой готовностью и хмурыми сумерками в душе учился у него действию. Всё очень просто: мы в сфере знаковости.
Значения названия вползали в разум, вкрадывались в сознание, но отнюдь не будоражили его. Я еще даже не интересовался прекрасным внешним миром, а просто, как выздоравливающий больной, из палаты наконец-то выбрел в больничный сквер. Грусть была несусветная, а бодрости, оживления, возбуждения – никакого. И почему я постоянно в эту местность ездил, было непонятно. Это было городское турбулентное движение, очень четко разделенное; так же, например, с электрички народ разливается тремя основными потоками: самый большой – в подземку, в воротную вену городского кровотока, поменьше – в прилегающую улицу и частью в вокзал, на другие поезда. Меня как бы все время прибивало волной, прибоем, как палый лист. Тем более что ветвь железнодорожного сообщения была тупиковая, электричка вскоре утыкалась в Фрязино и далее не шла. И на маршруте были еще Подлипки, которые я производил от слова «подлость», и Болшево – от слова «большой». И вот, проезжая через Большую Подлость, я выходил в Иван-Боге и отдыхал на этом пруде. И вероятно, это повторялось с ранней весны, когда еще только сошел снег, потому что берега пруда могли быть глинисты только в эту пору, и до сенокоса, потому что помнится случай, когда я сошел не на 9-ом километре, а проехал до платформы «Детская» (со страхом, надо признать, проехал, как, например, больной, который из больничного сквера выглядывает за больничную ограду на улицу: не дерзнуть ли пройти до магазина?). И там, выпроставшись из пустой электрички и немного пройдя худым березовым перелеском (дело было сильно вечером, когда после жаркого дня уже встает молочный туман), на широкой поляне увидел такую картину: высокий старик в белой рубахе навыпуск, простоволосый, седой, заботливо, спокойно, важно, с удовольствием тюкал коротковатой своей косой высокую, до подмышек, здешнюю траву. Одна приземистая копёшка, накрытая от росы полиэтиленовой пленкой, у него была уже сложена, и вот он по вечернему холодку подкашивал траву назавтра, чтобы было что сушить, так как день, скорее всего, опять будет жаркий. И вот этот старик, носатый куркуль, в глубокой тишине безлюдного вечера, наступившей, как только вдали прогрохотала электричка, тюкал и тюкал косой толстый пырей с таким задумчивым и углубленным видом, что я на него залюбовался, прислоняясь к последней от перелеска березе. Ни козодой не блеял, ни птички не порхали, ни комары не толклись, только на всей этой великоватой поляне среди мелколесья свистела, как змея в сухих листьях, его планомерная коса. Я так и понял, что он сейчас думает о своей пестрой удойной корове с заботой и любовию, как она станет это ароматное сено, немножечко с железнодорожной пылью, аппетитно жвачить.
И мне вдруг подумалось, что вот это и есть правда. Последняя правда крестьянского трудолюбия вопреки всякому окружающему сатанинскому беспокойству. Туман опускался теплый и еще не мокрый, как бы конденсат летнего полдня. Мне было не очень приятно видеть здесь отца моей несостоявшейся жены, потому что я понимал, что если в Москве отважусь пойти к нему, он меня не впустит. «Ты приезжий». – со злобой сказала его дочь. Я знал, что я приезжий, но ведь и он был чертежником, а вовсе не крестьянином, и этот, хоть и косил на корову, не был моим отцом. Носатый сухопарый старик, земледелец, хуторянин, из тех, которые забили хуй на все, кроме личного подворья. Поэтому, помимо мирной картины сельского трудолюбия, я ощутил и определенное раздражение так г р у б о поставленной проблемой: там, у чертежника, не твой отец, и его дочь – не твоя сестра, а вот чем, скорее всего, занимается сейчас в вологодской деревне твой настоящий отец.
Упрек я воспринял, вечерней идиллией умилился, но к отцу ехать не захотел, несмотря на яркую иллюстративность явленной правды. И даже испытал недоверие, такое же, как от лепестков цветущей земляники.
Следовательно, я ездил сюда всю весну и пока не вымахала трава. И однажды, Бог весть почему, захотел заночевать: первая попытка улизнуть в прошлое, вновь прикоснуться к тому образу жизни, который вставал в романтических воспоминаниях о деревне. Я потому и заехал сюда уже ночью, на последней электричке. И тут же, в сухой лощине, под насыпью, решил зажечь костер и у костра заночевать. Это и исполнил, натаскав сухих, мелких батогов сирени и рябины. В душе вздымалась просто паническая тревога, себе я казался святотатцем. Мотив же поступка был тот, что, может быть, таким образом я исцелюсь от своей несчастной любви к этой сильно верующей, распутной, красивой и очень желанной женщине (вдвоем с отцом они занимали большую квартиру неподалеку от универмага «Таганский»). Я к тому времени до того измаялся со своим чувством, что любое решение проблемы меня устраивало. (Странно тоже, почему Ивантеевка? Ведь в области вполне нашлось бы село, совпадающее с ее простой русской фамилией. Там бы вроде и заночевать…). В ароматной ночи костер бликовал так ярко и приманчиво, что я боялся, что кто-нибудь нарушит мое сосредоточенное одиночество. И правда, вскоре пожаловал щеголевато одетый гражданин, потом бомж со своей сильно пьяной подругой (эти двое даже пособляли таскать хворост с той домовитостью, что становилось ясно: они сами часто проводили ночи подобным образом). Я чего-то панически боялся и потому – от страха – много шутил и ерничал. Я боялся, что меня в эту ночь просто прирежут, беззащитно, растерянно смеялся, а когда появился, наконец, милиционер, даже обрадовался ему. Бомжи исчезли воровато, тихо, профессионально, точно их отнесло движением воздуха. Я показал проверщику порядка удостоверение, свидетельствующее о моем значительном общественном положении, объяснил, что опоздал на электричку. И хотя он молча вернул его и молча отвалил, после его ухода разбросал костер и пошел в город.
Я брел среди ночных стандартных многоэтажек, заходил в подъезды, грелся у батарей вместе с кошками (еще топили), слушал, как шуршит мусор в трубе, поднимался на любой этаж. Был бездомный среди чужой жизни. Я именно боялся всего – взгляда любой бабы, проходящей по лестнице, любой крупной собаки, а подвыпивших парней – панически, только что не дергаясь в истерике. Ночь все длилась и длилась, фонари светились как целлулоидные – мертво, матово. Я не мог бы здесь жить. Это было как зверинец: клетки, замки, решетки, сторожа, рев позднего телесериала из квартир. Как они могли здесь не только существовать, но и любить? Я только что грелся у костра, и огонь был живой. Всё же это цементное крошево было изначально мертво.
Я обошел многие подъезды, выслушал не один упрек, но во дворе было так холодно, что я торчал у теплых батарей, пока дозволяла совесть. Пройдя в один конец микрорайона, возвращался обратно, дрожа и борясь с ознобом. Это было невыносимо, и я решил лучше уж привыкнуть к холоду, чем кочевать (почему-то не хотелось располагаться на лестничной площадке возле мусора, кошек и чужих постелей). И перед каждым встречным гулякой я изображал почему-то запозднившегося горожанина. Я чего-то искал.
Из земли в час вечерний, тревожный
Вырос рыбий горбатый плавник.
Только нету здесь моря.
Я понимал, что нелепо – располагая жильем, ночевать на скамейке, но не на полу же возле мусоропровода! И я пошел ее искать. И забрел в парк, слабо, только у входа, освещенный несколькими фонарями; и там, на узкой аллее – двоим не разминуться – обнаружил сразу несколько. Я сел, нахохлился в воротник, освобождено вытянул ноги. Дальше, в глубь парка, идти не рискнул, а эта скамья была хороша тем, что еще и подсвечивалась прожектором из-за ограды какого-то завода (эта женщина, связь с которой была бурная и бестолковая, работала на заводе). Я чувствовал себя глубоко несчастным, отвергнутым, и не только ею: отвергнутостью общей, бесприютностью томился я. За ночь мимо протопали только двое бесстрашных и трезвых парней, у одного из них я спросил, что там дальше, за лесом. Там была станция Клязьма и город Пушкин. Мне – хоть это наивно прозвучит, – стало отчего-то ободрительно, что тут в округе оказались Лесные Поляны, Зеленый Бор и вот поэт Пушкин.
Сна не было ни в одном глазу, и не было всю ночь. И как только чуть посветлело и в мертвых окнах кое-где зажглись мертвые же утренние огни, где собирались на работу те, кому с ранья, я вернулся на платформу и до первой электрички опять обогревался возле того же костра. Была весна, и вокруг было столько банок, пакетов, бутылок, коробок, бумажек, окурков, фантиков, сучков, жухлой травы, шелухи орехов и семечек, целлофановых мешков, презервативов, фольги из-под таблеток, отпавших почек, пуговиц, ломаных расчесок и авторучек, стоптанной обуви, автопокрышек, что не на чем взгляд остановить.
111
В тот год я не то чтобы не работал, а – не был постоянно занят. Казалось, все высыпали на улицы торговать, и все по мелочи. Идешь утром в семь часов – стоит какая-нибудь бледно-голубая старуха, предлагает бутылку водки и пачку сигарет, возвращаешься в семь вечера – стоит она же с тем же предложением. А у выходов метро и возле Щелковского автовокзала таких старух стояли длинные шеренги. От праздности и неприкаянности (потому что на работу никуда не брали) я, поскалывав утречком лед или сдав ночную вахту напарнику, повадился, лишь завернув домой перехватить супцу, уходить в парк Лосиный остров. В Х1Х веке там еще стрелялись на дуэлях и охотились на кабанов, но и в конце ХХ было на удивление безлюдно (как-то раз, заметив время, я за сорок минут не встретил ни человека). Кольцевая автодорога расширялась и с обеих сторон лесопарка, который она рассекала, была огорожена от любопытных двухметровым забором, но я находил привычный пролом и углублялся в лес. Впечатление от природы было самое болезненное, мучительное, как от какого-нибудь Анри де Ренье. Это была не природа, а бледная немочь. Даже лосиные какашки не впечатляли, даже курлыканье ворона не влекло (жила там пара на просеках возле живописного хутора в тылах деревни Абрамцево). Углубляясь метров на триста за дорогу, я обычно останавливался и слушал. Вот так же бы утробно гудел, наращивая децибелы, атомный реактор, начавший взрываться, так же бы пламенел и ухал железнодорожный состав с бутаном, пропаном и сырой нефтью, ежели бы взорвался внутри километрового туннеля этак на его середине, так же бы испускал дух уже на земле реактивный бомбардировщик на одной низкой ноте, как эта автодорога: у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Точно это был какой-то издыхающий дракон, и потому даже в полукилометре от него каждый тополь мертв. Это чудовище с крикливым самоназванием мегаполис было больно, и возвращаться туда не тянуло. Но и лес был ненатуральный, ветхий, гнилостный, как если бы ушла заплесневелая вода из Гольяновского пруда и обнажила грязное дно: нечем тут было любоваться. А эти полоумные москвичи еще ходят сюда собирать какие-то грибы – рядовки (отродясь не слыхал такого названия! Рядовки – это, должно быть, потому, что выстраиваются в ряд, как дома вдоль улицы или солдаты по команде?).
Я ходил к этому хутору еще с весны, по насту; его многочисленные собаки уже начали меня узнавать, облаивая вполне добродушно, однако пройти далее долго не решался – не по отсутствию интереса, а от усталости, по безразличию: и эти-то вылазки казались большой дерзостью. Про таких говорят: пыльным мешком из-за угла пристукнутый. Я именно как бы не располагал сведениями о своих возможностях и покорно через час-полтора возвращался в пасть дракона, чтобы поискать объедков у него меж зубов или в пищеводе. Но с каждой прогулкой просыпался, расширял пройденные ходы, как точильщик. Безучастно лирическое настроение потом оформилось следующим допущением: наверное, у этого лесопарка есть свое хозяйство, службы, контора. Хорошо бы поступить туда на работу. В Сокольниках, и правда, оказалась контора со множеством клерков и даже газетенка со зловредным евреем Вайсманом во главе, но ни в контору, ни в газету меня не взяли, а отправили в лесничество. В лесничество я по душам поговорил с борзыми, деловыми и румяными парнями и, так как в работе они мне тоже отказали, украл книжку Ги де Мопассана в мягкой обложке: все равно она там у них была единственная художественная на их скудной полке. Я именно отчетливо понял тогда, что никому не нужен, везде буду выслушивать участливое «извините», ото всех этих з а н я т ы х и озабоченных людей скупать их жалобы на загруженность работой, низкие расценки, сверхукомплектованность штатов, карданный вал, который полетел, порубки, которые не сделаны. Я был Иисус, священник, исповедник, писатель; я приходил чего-нибудь заработать, а они мне исповедовались в том, как трудно им живется. Получалось, что эти отказывают, основываясь на том, что я писатель и зачем мне не своим делом заниматься, в редакциях же, не спрашивая о номинациях, сразу же возвращали рукопись: «У нас теперь капитализм, литературным заработком не проживешь».
А я еще даже не догадывался, что ни те, ни другие не виноваты, а лишь прокламируют отношение к моей персоне моего же рода. Это Ивины издевались: если ты писатель, отчего тебя не печатают? Если ты рабочий, отчего не принимают на работу?
1У
Алексей Ивин
Это не путеводитель по местностям, а этносоциокультурный срез частной жизни россиян, расселенных на северо-западе европейской части страны, в самом конце ХХ века. Для любителей интеллектуального чтения. Книга пользовалась большой популярностью в свободном доступе. Книга содержит нецензурную брань.
Путешествия по следам родни
Алексей Ивин
© Алексей Ивин, 2019
ISBN 978-5-4496-8452-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
©, Алексей ИВИН, автор, 1999 г.
©, Журнал литературной критики и словесности, Сетевая словесность, Русский пионер, ЛИТМИР и др.
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СЛЕДАМ РОДНИ
Л.Р.Илюхиной и прихожанам Никольской церкви в городе Киржач
– Чего бы ты хотел? – Господи, чтобы мне оказаться в местах, где за целый день не встретишь человека.
Георг Андрес Лихтола
ПРЕКРАСНЫЕ ДНИ
Непостижимо, как вообще осуществляется замысел: замысел автора относительно произведения, замысел родителей относительно ребенка, – у исполнителя часто сохраняется возможность увильнуть от прямого воплощения. Есть знания, которые из чувства самосохранения лучше не разглашать. Но так как в опубликованной статье «Прочь от цивилизации» я уже заявил об этих путевых очерках как о написанных, то вынужден исполнять обещание. И все же мотивы моих путешествий летами 1994—1997 годов, которые относятся скорее к области тайноведения и парапсихологии, чем логики и целесообразности, таковы, что я предпочел бы о них умолчать: как-нибудь в другой раз…
Большинство людей, и женщин в особенности, как выяснилось, не интересуются прекрасным миром. Большинство людей интересуются помещениями, поэтому они изобрели различные повозки, автомобили, поезда, самолеты, суда, ракеты и прочие помещения. Ну, а мы с вами попробуем посмотреть на мир иначе.
Я назвал бы эту книгу «В поисках утраченного места», если бы уже известный автор не выглядывал из такого названия. А перепевать кого бы то ни было меньше всего хотелось бы.
МОНИНО, ФРЯЗИНО, ИВАНТЕЕВКА, КАЛИНИНГРАД
Гольяновский пруд на границе парка Лосиный остров
1
Уже в конце п е р е с т р о й к и я очутился в нелепейшей ситуации: треть моих сверстников и людей помоложе королями восседала среди развалов экзотических фруктов (желто-зеленые бананы, лиловые баклажаны, ярко-оранжевые апельсины – всё это было е д о й, и они из нее выглядывали), другая, в белоснежных рубашках, галстуках, вишневых и малиновых пиджаках ажитированно сновала туда-сюда в офисах банков, коммерческих контор среди прилежно склоненных за компьютерами, отглаженных и плиссированных городских девочек, и из мраморных подъездов с деловым видом и полнейшим самодовольством на уже круглых мордасонах отъезжала на «мерседесах» и «ауди», а я по-прежнему был о т т у д а, из деревни, от этих изможденных морлоков, беззубых, тощих, прокуренных и промасленных. Я только чувствовал, что постоянно голоден, никому не нужен среди этих двух третей, занятых первоначальным накоплением. Те, от имени которых я представительствовал, служили объектом насмешек со стороны евреев-остроумцев, деятелей разговорного жанра: они потешались над народом-дураком и принимали его обожание. И чем больше было выглядывавших из киосков и восседавших за прилавками, чем зеркальнее блестели витрины супермаркетов, тем энергичнее меня в ы г о н я л и из жизни.
Развязавшись к тому времени с парой-тройкой шлюх, изображавших из себя интеллектуалок, я особенно четко стал понимать, что все это – наносное, пена, а настоящее по-прежнему коренится в природе. Природу не заботит, как обменять коммуналку в Гольянове на двухкомнатную квартиру в Яхроме. Поскольку 99% моего окружения знали и могли совершить такой обмен, а я – нет, я и поехал на природу. И почему-то нравился именно такой маршрут пригородной электрички: половина на Рыбинск, на север, половина на Владимир, на восток. Выталкиваясь на первой понравившейся станции, в тишину, наступавшую сразу после гула ушедшей электрички, ныряя по тропе под кроны разреженного леса, я с горечью убеждался, что живу не в своем ареале. Как та лесная рысь, которую занесло в южные дубравы. Не желудями же ей питаться, Господи прости. Точно больной, я ходил по этому гадкому подлеску, среди пустых молочных пакетов и пивных банок, срывал желтый первоцвет и лиловую медуницу, припорошенные, словно пеплом, сухими осадками ТЭЦ (давненько не мочили дожди), и чувствовал, что как бы теряю пол, меняюсь на женский. Хотя первоначальное-то стремление заключалось как раз в обратном: избавиться от этих грязных ляжек, титек, уст, денежных разговоров, радио- и телепроституции, прорваться сквозь них к тому нормальному, что чует даже рыба, когда ищет стремнину почище. Пока же я был худ, бледен, немочен, как эти припорошенные осадками ТЭЦ блеклые весенние подмосковные цветочки. Всё внутри и вокруг казалось грязным и запущенным, как внутренности дома, обреченного на снос: рваные обои, штукатурка, затхлый запах развороченной кирпичной печи, собачьи экскременты по углам. Многие тысячи родов, безвыездно живущих по вологодским и смоленским деревням, растущие так же, как трава и деревья, и так же не склонные к перемещениям, их опыт убеждали меня, что здоровье и красота, конечно, в том, чтобы босиком с веником и тазом под мышкой каждую субботу по росистой траве ходить в баню. Я все еще был здоровый и органичный, объект насмешек для деятелей массовой эстрады, и, в свою очередь, сам считал чокнутыми тех, кто способен сутками ковыряться в моторе или программировать новые картинки на компьютере вместо надоевших.
Но на платформе Осеевская или на берегу опрятной речки Учи не находилось исцеления в полноте. По большому счету, если уж так потянуло к земле, следовало накопить денег и купить дачу и участок. Но в том-то и дело, что в сорок с хвостиком я был голый, гонимее жида, завоеванного ассирийцем, не в ладу с общепринятым московским образом жизни (квартира в городе и дачный участок за городом). Более того, меня не интересовало вписываться в их инфраструктуру, меня интересовало – выпадать. Перемены были не столь уж кардинальны, первопрестольная по-прежнему спала, купчиха в расписных своих теремах, но я-то был м у ж ч и н о й и е в р о п е й ц е м. В простоте душевной я, выгоняемый, питал иллюзии, что, может, и здесь удастся остаться мужчиной, а не стриженым цивилизованным пуделем в бархатном комбинезоне на шелковом поводе… И эту иллюзию тотчас решил претворить, поймав щуку хоть в той же Уче. Четыре часа я забрасывал лесу в ее кувшинки и даже выудил нескольких больных бледных окуней и уклеек (когда потом вспарывал брюхо, убедился, что они и впрямь больны: глисты и какие-то белые пятна по телу), но испытал только досаду: я н е л ю б и л эту реку и эту местность. И этот город. И весь этот водораздел вплоть до Каспийского моря и Тегерана. Всё это было не мое, чужое, чуждое.
Неужели же должен был жить там, где родился?
Я вспоминал иных друзей и приятелей, персон и мелких служащих, прикидывал так и этак: получалось, что от места рождения успех не зависит. Борис Ельцин был с сибирского водораздела, а сидел на Москве-реке – и ничего. А одна дама была местная уроженка – и тем не менее дура. Принадлежность к волжскому бассейну не добавила ей ни капли мозгов. Напротив того, Е., который по месту рождения должен был стекать чуть ли не в Южно-Китайское море, меня уже пятую квартиру – и все в пределах Садового кольца. Следовательно, хотя от корней оторван и с родственниками не живу, не я же один такой, и далеко не всем оторванным такая невезуха. Другое дело, что, будучи оторванным и не в своей тарелке, не в своем ареале, не в своем городе, я все-таки хочу укрепиться, укорениться. Кто же меня достает, выгоняет на эти лесопарковые дорожки, в эти электрифицированные местности, от которых так и веет скукой исхоженности? Очевидно, мыслил я с прилежностью параноика, раз в П о д- московье, то те, кто собираются быть хозяевами в Москве. И конечно, не Ельцин, которому не долго царствовать, а люди помоложе, в малиновых пиджаках. Я для них дурак, старообрядец, отживший элемент – в Подмосковье на даче ему место. И это несмотря на то, что по милости их дешевой новизны я до сих пор не проявлен и не блещу. Вот блещет эта всероссийская ведьма, заместительница Емельяна, а я не блещу.
Ибо тяжел в общении.
Итак, после нескольких поездок до меня дошло, что я пытаюсь утешиться театральной бутафорией. А душа требует подлинной природы, действительной народной жизни, а главное, включенности в процесс. Насчет включенности – об этом я подумал позднее, когда нашел работу; больше того, я тогда понял, что у нас в стране только включенный – заключенный и свободен. Но и об этом – после.
А пока, как только я понял, что лесные просеки под Ивантеевкой меня не спасут, но что амплитуда моих кросс-поездок должна быть шире и богаче, как только прикинул, что если обзавестись удостоверением инвалида, то даже при безденежье можно выскакивать за пределы области, не входя в большие финансовые расходы; как только понял, что если, правда, не двигаться, то ребята в малиновых пиджаках и согласная с ними моя дочь, о которой ни слуху ни духу вот уже несколько лет, запросто отправят меня на кладбище, это меня-то, которому только сорок с хвостиком, как только до меня дошли эти закономерности взаимоотношений отцов и детей в стране России, где тот не велик, кто своих детей не поубивает, и тот из молодежи не силен, кто своих предков на погост не спровадит, – словом, кое-что обмозговав, я решил стать совсем европейцем и путешествовать методом автостопа. О том, чтобы купить машину, мне с моими и н ы м и задачами можно только мечтать, но пёхом и на попутках я могу объездить и весь свой милый Север, и столь притягательный, любимый Запад – до границ Белоруссии (а также Юг, который не люблю, но хотя бы до Тулы, и Восток).
Поверите ли, я, голодный, отчаявшийся человек, ощутил впервые предпосылки душевного спокойствия.
Черта лысого вы заставите меня сдохнуть, когда я еще не реализовал себя!
Разумеется, поведи я себя таким образом, будучи жителем наркоманного Копенгагена, или Берлина, или Парижа, меня бы поняли: там пренебрежение ценностями цивилизации уже вроде как признак хорошего тона и аристократичности. Но я-то живу в самом сердце Азии и очень хорошо понимаю, что первые же проявления такого рода свободы ставят меня на один уровень с кочующим цыганом или бомжем, у которого, к тому же, сифилис. Наши азиатские ценности как-то так поставлены, что переночевать на открытом воздухе – значит в глазах общественного мнения и оценщиков от цивилизации вываляться в грязи. У нас самый цивилизованный – это самый недоступный гражданин (преимущественно в Кремле). И еще он должен быть наглым и злобным, как кабан. Вот тут уж наше вам почтение – все двери перед ним открываются. Действовать по принципу «раздражитель – рефлекс» и значит быть сильным. Я же таковым становился лишь в естественных условиях – в лесу, в поле, в маленьком городе. В Москве от прямых реакций не было толку – я хочу сказать, от прямых, естественно человеческих. Сидящий за рулем и воспринимался как стальной, железный, автоматический; у меня и желания-то никогда не возникало подойти к такому. Другое дело, если б мне самому удалось облечь себя железом: средство-то передвижения, что ни говори, мне нравилось, для моих целей годилось, вот только накопить достаточную сумму мне вряд ли бы удалось. Для меня, голого моллюска, это было больно: иерархия ценностей в городе была иной; некоторые из этих «железных» с их телохранителями, замками, сейфами, цифровыми кодами, секретами находились от меня, идущего пешком по улице, бесконечно далеко. Их охраняли, а обо мне заботился лишь Божественный Промысел, причем я не всегда правильно оценивал Его разъяснения.
Но в определенную минуту Он твердо сказал: «Не хлебом единым жив человек» – и я поехал смотреть, насколько прекрасен и гармоничен мир.
11
Но первые опыты такого исследования прекрасного божьего мира были и неудачливы, и бессознательны. Помню, сколько раз наобум и бессознательно заезжал в район Ивантеевки, не доезжая реки Учи, выходил в Валентиновке или на платформе 5-го километра и шел в дачной местности с километр на берег мелкого пруда. Это был дрянной пруд, вырытый, очевидно, на месте песчаного карьера. Смех ситуации состоял в том, что в трехстах метрах от квартиры, где жил, был точно такой же даже в очертаниях мелкий пруд, но ивантеевский понравился отчего-то больше: должно быть, тем, что можно было пройти дальше в лес, и там все дорожки были усыпаны белым мелкоцветием земляники, по берегам же моего гольяновского пруда ничего не цвело. Я понимал, что езжу врачевать душу, за тишиной. Я обходил пруд несколько раз по окружности. На его берегах купались, удили ершей, из распахнутых, точно разобранные постели, дверец автомобилей неслась музыка, и раздетые жирные домохозяйки подкреплялись куриными окорочками, жир стекал по пальцам. Отчего-то на этом пруде было постоянно ветрено, а по берегам – глина и грязно, так что я ни разу не рискнул искупаться. Я еще боялся всего натурального, не доверял ему, считал «грязным»; даже бледно-желтые первые земляничины, когда заглатывал их вместе с завялыми чашелистиками, были не вкуснее соленого арахиса к пиву. Разложить в лесу костер я не решался, а просто кружил по его тропам, стараясь ориентироваться на гул проходящей электрички. Почему я зачастил в Ивантеевку, было непонятно. Я этимологизировал, и получалось так, что Валентиновка – это от Валентина, а Валентин – от здоровья; Ивантеевка же с моей фамилией вполне вязалась, и даже было там что-то от деуса: Иван+Деус. В общем, что-то там Ваня делал. Учил меня, тем более что рядом протекала река Уча. И вот я с тупой готовностью и хмурыми сумерками в душе учился у него действию. Всё очень просто: мы в сфере знаковости.
Значения названия вползали в разум, вкрадывались в сознание, но отнюдь не будоражили его. Я еще даже не интересовался прекрасным внешним миром, а просто, как выздоравливающий больной, из палаты наконец-то выбрел в больничный сквер. Грусть была несусветная, а бодрости, оживления, возбуждения – никакого. И почему я постоянно в эту местность ездил, было непонятно. Это было городское турбулентное движение, очень четко разделенное; так же, например, с электрички народ разливается тремя основными потоками: самый большой – в подземку, в воротную вену городского кровотока, поменьше – в прилегающую улицу и частью в вокзал, на другие поезда. Меня как бы все время прибивало волной, прибоем, как палый лист. Тем более что ветвь железнодорожного сообщения была тупиковая, электричка вскоре утыкалась в Фрязино и далее не шла. И на маршруте были еще Подлипки, которые я производил от слова «подлость», и Болшево – от слова «большой». И вот, проезжая через Большую Подлость, я выходил в Иван-Боге и отдыхал на этом пруде. И вероятно, это повторялось с ранней весны, когда еще только сошел снег, потому что берега пруда могли быть глинисты только в эту пору, и до сенокоса, потому что помнится случай, когда я сошел не на 9-ом километре, а проехал до платформы «Детская» (со страхом, надо признать, проехал, как, например, больной, который из больничного сквера выглядывает за больничную ограду на улицу: не дерзнуть ли пройти до магазина?). И там, выпроставшись из пустой электрички и немного пройдя худым березовым перелеском (дело было сильно вечером, когда после жаркого дня уже встает молочный туман), на широкой поляне увидел такую картину: высокий старик в белой рубахе навыпуск, простоволосый, седой, заботливо, спокойно, важно, с удовольствием тюкал коротковатой своей косой высокую, до подмышек, здешнюю траву. Одна приземистая копёшка, накрытая от росы полиэтиленовой пленкой, у него была уже сложена, и вот он по вечернему холодку подкашивал траву назавтра, чтобы было что сушить, так как день, скорее всего, опять будет жаркий. И вот этот старик, носатый куркуль, в глубокой тишине безлюдного вечера, наступившей, как только вдали прогрохотала электричка, тюкал и тюкал косой толстый пырей с таким задумчивым и углубленным видом, что я на него залюбовался, прислоняясь к последней от перелеска березе. Ни козодой не блеял, ни птички не порхали, ни комары не толклись, только на всей этой великоватой поляне среди мелколесья свистела, как змея в сухих листьях, его планомерная коса. Я так и понял, что он сейчас думает о своей пестрой удойной корове с заботой и любовию, как она станет это ароматное сено, немножечко с железнодорожной пылью, аппетитно жвачить.
И мне вдруг подумалось, что вот это и есть правда. Последняя правда крестьянского трудолюбия вопреки всякому окружающему сатанинскому беспокойству. Туман опускался теплый и еще не мокрый, как бы конденсат летнего полдня. Мне было не очень приятно видеть здесь отца моей несостоявшейся жены, потому что я понимал, что если в Москве отважусь пойти к нему, он меня не впустит. «Ты приезжий». – со злобой сказала его дочь. Я знал, что я приезжий, но ведь и он был чертежником, а вовсе не крестьянином, и этот, хоть и косил на корову, не был моим отцом. Носатый сухопарый старик, земледелец, хуторянин, из тех, которые забили хуй на все, кроме личного подворья. Поэтому, помимо мирной картины сельского трудолюбия, я ощутил и определенное раздражение так г р у б о поставленной проблемой: там, у чертежника, не твой отец, и его дочь – не твоя сестра, а вот чем, скорее всего, занимается сейчас в вологодской деревне твой настоящий отец.
Упрек я воспринял, вечерней идиллией умилился, но к отцу ехать не захотел, несмотря на яркую иллюстративность явленной правды. И даже испытал недоверие, такое же, как от лепестков цветущей земляники.
Следовательно, я ездил сюда всю весну и пока не вымахала трава. И однажды, Бог весть почему, захотел заночевать: первая попытка улизнуть в прошлое, вновь прикоснуться к тому образу жизни, который вставал в романтических воспоминаниях о деревне. Я потому и заехал сюда уже ночью, на последней электричке. И тут же, в сухой лощине, под насыпью, решил зажечь костер и у костра заночевать. Это и исполнил, натаскав сухих, мелких батогов сирени и рябины. В душе вздымалась просто паническая тревога, себе я казался святотатцем. Мотив же поступка был тот, что, может быть, таким образом я исцелюсь от своей несчастной любви к этой сильно верующей, распутной, красивой и очень желанной женщине (вдвоем с отцом они занимали большую квартиру неподалеку от универмага «Таганский»). Я к тому времени до того измаялся со своим чувством, что любое решение проблемы меня устраивало. (Странно тоже, почему Ивантеевка? Ведь в области вполне нашлось бы село, совпадающее с ее простой русской фамилией. Там бы вроде и заночевать…). В ароматной ночи костер бликовал так ярко и приманчиво, что я боялся, что кто-нибудь нарушит мое сосредоточенное одиночество. И правда, вскоре пожаловал щеголевато одетый гражданин, потом бомж со своей сильно пьяной подругой (эти двое даже пособляли таскать хворост с той домовитостью, что становилось ясно: они сами часто проводили ночи подобным образом). Я чего-то панически боялся и потому – от страха – много шутил и ерничал. Я боялся, что меня в эту ночь просто прирежут, беззащитно, растерянно смеялся, а когда появился, наконец, милиционер, даже обрадовался ему. Бомжи исчезли воровато, тихо, профессионально, точно их отнесло движением воздуха. Я показал проверщику порядка удостоверение, свидетельствующее о моем значительном общественном положении, объяснил, что опоздал на электричку. И хотя он молча вернул его и молча отвалил, после его ухода разбросал костер и пошел в город.
Я брел среди ночных стандартных многоэтажек, заходил в подъезды, грелся у батарей вместе с кошками (еще топили), слушал, как шуршит мусор в трубе, поднимался на любой этаж. Был бездомный среди чужой жизни. Я именно боялся всего – взгляда любой бабы, проходящей по лестнице, любой крупной собаки, а подвыпивших парней – панически, только что не дергаясь в истерике. Ночь все длилась и длилась, фонари светились как целлулоидные – мертво, матово. Я не мог бы здесь жить. Это было как зверинец: клетки, замки, решетки, сторожа, рев позднего телесериала из квартир. Как они могли здесь не только существовать, но и любить? Я только что грелся у костра, и огонь был живой. Всё же это цементное крошево было изначально мертво.
Я обошел многие подъезды, выслушал не один упрек, но во дворе было так холодно, что я торчал у теплых батарей, пока дозволяла совесть. Пройдя в один конец микрорайона, возвращался обратно, дрожа и борясь с ознобом. Это было невыносимо, и я решил лучше уж привыкнуть к холоду, чем кочевать (почему-то не хотелось располагаться на лестничной площадке возле мусора, кошек и чужих постелей). И перед каждым встречным гулякой я изображал почему-то запозднившегося горожанина. Я чего-то искал.
Из земли в час вечерний, тревожный
Вырос рыбий горбатый плавник.
Только нету здесь моря.
Я понимал, что нелепо – располагая жильем, ночевать на скамейке, но не на полу же возле мусоропровода! И я пошел ее искать. И забрел в парк, слабо, только у входа, освещенный несколькими фонарями; и там, на узкой аллее – двоим не разминуться – обнаружил сразу несколько. Я сел, нахохлился в воротник, освобождено вытянул ноги. Дальше, в глубь парка, идти не рискнул, а эта скамья была хороша тем, что еще и подсвечивалась прожектором из-за ограды какого-то завода (эта женщина, связь с которой была бурная и бестолковая, работала на заводе). Я чувствовал себя глубоко несчастным, отвергнутым, и не только ею: отвергнутостью общей, бесприютностью томился я. За ночь мимо протопали только двое бесстрашных и трезвых парней, у одного из них я спросил, что там дальше, за лесом. Там была станция Клязьма и город Пушкин. Мне – хоть это наивно прозвучит, – стало отчего-то ободрительно, что тут в округе оказались Лесные Поляны, Зеленый Бор и вот поэт Пушкин.
Сна не было ни в одном глазу, и не было всю ночь. И как только чуть посветлело и в мертвых окнах кое-где зажглись мертвые же утренние огни, где собирались на работу те, кому с ранья, я вернулся на платформу и до первой электрички опять обогревался возле того же костра. Была весна, и вокруг было столько банок, пакетов, бутылок, коробок, бумажек, окурков, фантиков, сучков, жухлой травы, шелухи орехов и семечек, целлофановых мешков, презервативов, фольги из-под таблеток, отпавших почек, пуговиц, ломаных расчесок и авторучек, стоптанной обуви, автопокрышек, что не на чем взгляд остановить.
111
В тот год я не то чтобы не работал, а – не был постоянно занят. Казалось, все высыпали на улицы торговать, и все по мелочи. Идешь утром в семь часов – стоит какая-нибудь бледно-голубая старуха, предлагает бутылку водки и пачку сигарет, возвращаешься в семь вечера – стоит она же с тем же предложением. А у выходов метро и возле Щелковского автовокзала таких старух стояли длинные шеренги. От праздности и неприкаянности (потому что на работу никуда не брали) я, поскалывав утречком лед или сдав ночную вахту напарнику, повадился, лишь завернув домой перехватить супцу, уходить в парк Лосиный остров. В Х1Х веке там еще стрелялись на дуэлях и охотились на кабанов, но и в конце ХХ было на удивление безлюдно (как-то раз, заметив время, я за сорок минут не встретил ни человека). Кольцевая автодорога расширялась и с обеих сторон лесопарка, который она рассекала, была огорожена от любопытных двухметровым забором, но я находил привычный пролом и углублялся в лес. Впечатление от природы было самое болезненное, мучительное, как от какого-нибудь Анри де Ренье. Это была не природа, а бледная немочь. Даже лосиные какашки не впечатляли, даже курлыканье ворона не влекло (жила там пара на просеках возле живописного хутора в тылах деревни Абрамцево). Углубляясь метров на триста за дорогу, я обычно останавливался и слушал. Вот так же бы утробно гудел, наращивая децибелы, атомный реактор, начавший взрываться, так же бы пламенел и ухал железнодорожный состав с бутаном, пропаном и сырой нефтью, ежели бы взорвался внутри километрового туннеля этак на его середине, так же бы испускал дух уже на земле реактивный бомбардировщик на одной низкой ноте, как эта автодорога: у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Точно это был какой-то издыхающий дракон, и потому даже в полукилометре от него каждый тополь мертв. Это чудовище с крикливым самоназванием мегаполис было больно, и возвращаться туда не тянуло. Но и лес был ненатуральный, ветхий, гнилостный, как если бы ушла заплесневелая вода из Гольяновского пруда и обнажила грязное дно: нечем тут было любоваться. А эти полоумные москвичи еще ходят сюда собирать какие-то грибы – рядовки (отродясь не слыхал такого названия! Рядовки – это, должно быть, потому, что выстраиваются в ряд, как дома вдоль улицы или солдаты по команде?).
Я ходил к этому хутору еще с весны, по насту; его многочисленные собаки уже начали меня узнавать, облаивая вполне добродушно, однако пройти далее долго не решался – не по отсутствию интереса, а от усталости, по безразличию: и эти-то вылазки казались большой дерзостью. Про таких говорят: пыльным мешком из-за угла пристукнутый. Я именно как бы не располагал сведениями о своих возможностях и покорно через час-полтора возвращался в пасть дракона, чтобы поискать объедков у него меж зубов или в пищеводе. Но с каждой прогулкой просыпался, расширял пройденные ходы, как точильщик. Безучастно лирическое настроение потом оформилось следующим допущением: наверное, у этого лесопарка есть свое хозяйство, службы, контора. Хорошо бы поступить туда на работу. В Сокольниках, и правда, оказалась контора со множеством клерков и даже газетенка со зловредным евреем Вайсманом во главе, но ни в контору, ни в газету меня не взяли, а отправили в лесничество. В лесничество я по душам поговорил с борзыми, деловыми и румяными парнями и, так как в работе они мне тоже отказали, украл книжку Ги де Мопассана в мягкой обложке: все равно она там у них была единственная художественная на их скудной полке. Я именно отчетливо понял тогда, что никому не нужен, везде буду выслушивать участливое «извините», ото всех этих з а н я т ы х и озабоченных людей скупать их жалобы на загруженность работой, низкие расценки, сверхукомплектованность штатов, карданный вал, который полетел, порубки, которые не сделаны. Я был Иисус, священник, исповедник, писатель; я приходил чего-нибудь заработать, а они мне исповедовались в том, как трудно им живется. Получалось, что эти отказывают, основываясь на том, что я писатель и зачем мне не своим делом заниматься, в редакциях же, не спрашивая о номинациях, сразу же возвращали рукопись: «У нас теперь капитализм, литературным заработком не проживешь».
А я еще даже не догадывался, что ни те, ни другие не виноваты, а лишь прокламируют отношение к моей персоне моего же рода. Это Ивины издевались: если ты писатель, отчего тебя не печатают? Если ты рабочий, отчего не принимают на работу?
1У