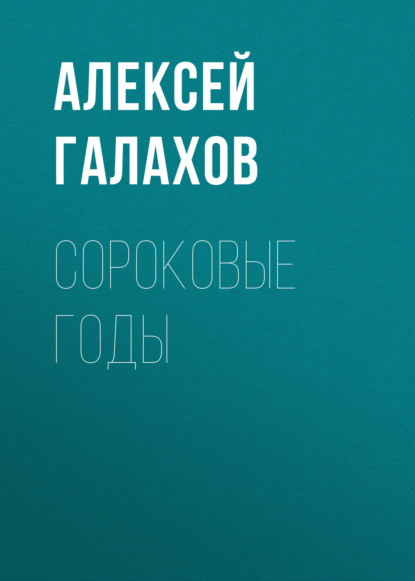По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сороковые годы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сороковые годы
Алексей Дмитриевич Галахов
«Выражение: «сороковые годы», «люди сороковых годов», не редко употреблялись и теперь еще употребляются для обозначения того усиленного интеллектуального движения, которое началось и действовало в Москве, совпадая с тем периодом времени, когда попечителем Московского учебного округа был граф С. Г. Строгонов (1835-1847). Вторым выражением Писемский даже озаглавил один из своих романов, к сожалению, весьма неудачный…»
Алексей Галахов
Сороковые годы
I
Выражение: «сороковые годы», «люди сороковых годов», не редко употреблялись и теперь еще употребляются для обозначения того усиленного интеллектуального движения, которое началось и действовало в Москве, совпадая с тем периодом времени, когда попечителем Московского учебного округа был граф С. Г. Строгонов (1835-1847). Вторым выражением Писемский даже озаглавил один из своих романов, к сожалению, весьма неудачный. Необходимо заметить, что означенное движение не ограничивается в точности десятилетним периодом. Странно думать, что оно началось именно 1-го января 1840 и завершилось 1-го января 1850 года. Можно если угодно назвать это пространство времени выдающимся пунктом культурного прогресса, но начало его восходит к предыдущим годам нашего столетия, а последствия его раскрываются в течение последующих, частию изменяясь, а частию и заменяясь другими движениями или веяниями.
Второе замечание относится к отрицанию особенного значения сороковых годов в нашем культурном прогрессе. По мнению некоторых журнальных статей, сороковые годы стоят на одном уровне с предшествовавшими им и следовавшими за ними. В доказательство приводятся свидетельства представителей того времени (например, И. С. Аксакова), что общественное положение нисколько не изменялось к лучшему. Рассуждать таким образом значит иметь ложное понятие о тех эпохах, которым присвоено название выдающихся, прогрессивных, и которым принадлежат времена Перикла, Августа, Людовика XIV, наконец век просвещения – XVIII-й век. Последний, пожалуй, окажется наиболее худшим, так как народ был погружен в невежество, в высших сферах господствовали крайние злоупотребления, разврат и ханжество, да и самые светила философии не отличались достаточным нравственным цензом. Однако-ж, никто не сомневается в исторической важности указанных эпох. Дело не в том, как жили те или другие субъекты в эпоху прогресса, а в самом прогрессе и его последствиях, – в тех новых началах, которые он кладет для серьезного умственного развития и нравственного улучшения, для более точного, правдивого самосознания, как для отдельных лиц, так и целых масс. Чацкий – один среди людей минувшего века, но он уже усвоил иной образ мыслей, которому предстояло торжество. И. Киреевский, в статье по поводу постановки «Горя от ума на Московской сцене», высказал пустоту жизни москвичей, их равнодушие ко всему нравственному и умственному, но в то же время он представил и исключения, т. е. людей, которые развивают в себе чувства возвышенные с правилами твердыми и благородными.
Усиленное стремление московского юношества к более серьезному образованию ведет свое начало, по моему мнению, с двадцатых годов, когда профессор М. Г. Павлов, по возвращении из-за границы, открыл свои лекции сельского хозяйства и минералогии. Он первый дал студентам понятие о господствовавшей в то время философии Шеллинга, или, точнее, о применении этой философии к естествоведению одним из его последователей – Океном. Новизна взглядов, мастерство их изложения в логическом и стилистическом отношениях сильно действовали на слушателей и, кроме того, привлекали в университет постороннюю любознательную молодежь из наиболее просвещенных семейств высшего московского общества. Между этими юношами, поступавшими на службу преимущественно в московский архив иностранных дел и потому прозванных «архивными», особенно выдавался князь В. Ф. Одоевский своею любовью к высшему знанию, к так называемой трансцендентальной философии. Он устроил у себя в доме философское общество, которое посещалось его товарищами по службе и по образу мыслей, а в 1824 году издавал сборник «Мнемозину» для ознакомления читателей с философией Шеллинга. В нем помещено несколько статей Павлова и самого издателя: последнему принадлежат отрывки из истории философии и по эстетике, основанной на идеях Шеллинга и долженствовавшей положить конец французским, лжеклассическим эстетическим понятиям, представителем которых в то время был профессор Мерзляков.
Новые органы журналистики содействовали с своей стороны университетскому влиянию. Кроме сборника «Мнемозина», в двадцатых годах явились «Телеграф» (Н. Полевого), «Московский Вестник» (Погодина), «Европеец» (И. Киреевского). Даже дряхлеющий «Вестник Европы» значительно обновился, благодаря сотрудничеству Н. И. Надеждина. По своим направлениям и содержанию, эти новые периодические издания в Москве взяли перевес над таковыми же петербургскими.
Потребность серьезного учения возрастало более и более. В тридцатых годах философия Шеллинга уступила свое место философии Гегеля, которая заинтересовала кружок любознательных студентов, преимущественно историко-филологического факультета, собиравшихся у их товарища Н. Ставкевича. Главными лицами этого кружка были К. Аксаков, Катков, Ключников, Белинский. Последний, по незнанию иностранных языков, своим знакомством с немецкой эстетикой и с немецкой поэзией, преимущественно с Шиллером, много обязан Станкевичу, в своих беседах разъяснявшему сущность той и другой. В университете лекции Н. И. Надеждина, профессора теории изящных искусств, сильно влияли на молодежь, равно как и основанный им журнал «Телескоп» вместе с листком «Молва», в котором Белинский выступил как критик, уже подготовленный к своему делу беседами с Станкевичем и лекциями Надеждина. Наконец, в тридцатых же годах развилось так называемое славянофильство, занимающее весьма почетное место в истории нашего самопознания. Основателями и разъяснителями этого учения были А. Хомяков, К. Аксаков, И. Киреевский и (позднее) Ю. Самарин.
Сороковые годы относятся преимущественно к двенадцатилетнему управлению графа С. Г. Строгонова Московским учебным округом. До официального назначения его на этот пост, будучи полковником и флигель-адъютантом, он обстоятельно знакомился с университетским преподаванием, т. е. посещал лекции тех или других профессоров. Надобно отдать ему справедливость и за то, что при всем уважении истинной учености он обращал большое внимание на нравственную пробу преподавателя: невнимательное отношение к своей обязанности или уклонение от неё к другому делу, тщеславие, непотизм, отсутствие справедливости и благородства, неправильный образ жизни были им нетерпимы и презираемы. Все, например, знали, что он не жаловал четырех профессоров, хотя по своим лекциям они стояли на видном месте. Один (И. И. Давыдов) отталкивал его чрезмерным самолюбием и непрямыми путями в своих действиях[1 - Клюшников охарактеризовал его в чрезвычайно злой эпиграмме. См. также и другие свидетельства, например, в «Русск. Архиве» 1888 г., VIII, стр. 482, Письма Каткова к А. Н. Попову. Здесь Давыдов обличается в плагиате, т. е. в присвоении себе критических заметок Ф. И. Буслаева о книге Павского («Филологич. наблюдения над составом русского языка»). Впоследствии, давая отчет в «Москвитянине» о каком-то грамматическом труде Давыдова, Буслаев привел, между прочим, следующий пример: «нельзя уважать человека, который вредит другим своими проделками».], другой (Д. М. Перевощиков) – непотизмом и хитростью, прикрываемою простотой себе на уме[2 - Ibid., стр. 493.]; третий (С. П. Шевырев) – раздражительностью и педантизмом; четвертый (М. П. Погодин) – многостороннею, разбросанною деятельностью, мешавшею ему всецело посвятить себя избранному им предмету – истории. Утверждали, будто графу не нравились эти лица потому, что к ним в особенности благосклонно относился министр С. С. Уваров, бывший с ним не в ладах. Может статься, это и справедливо, но только отчасти, а не вполне. Обращение этих личностей с их меценатом, при поездке в его подмосковное поместье Поречье, заставляло многих пожимать плечами, особенно после статьи Давыдова в «Москвитянине», повествующей о провождении времени в означенном имении. Прочитав ее, граф Строгонов, при свидании с автором, обратился к нему с таким вопросом: «не знаете ли, кто написал эту лакейскую статью? Не думаю, чтобы она могла понравиться Сергию Семеновичу»[3 - Замечу, что гр. Строгонов был иногда очень резок в своих выражениях. Резкость эта порою переходила в комизм. Однажды явился к нему какой-то провинциал, отец двух гимназистов, жаловаться на то, что его дети после экзамена не переведены в следующий класс, и при этом часто повторял одну и ту же фразу: ведь они у меня, ваше сиятельство, преумные. «Верю, верю, – отвечал граф, – должно быть, в матушку». – На одном магистерском диспуте сидел он рядом с Грановским, а против них поместился О. М. Бодянский, положив одну ногу на другую и тем выказав особенность своих сапогов, подбитых крупными гвоздями, словно подковами. Граф обратился к своему соседу: «Посмотрите, Тимофей Николаевич, как во всем оригинален Осип Максимович. Мы с вами, если нам нужны сапоги, отправляемся к сапожнику, а он заказывает их в кузнице». Но, дозволяя себе резкия выходки, граф спокойно выслушивал удачные, остроумные реплики. Вот один из нескольких примеров. В разговоре с Е. Ф. Коршем, известным многими серьезными литературными трудами, выражая ему, как редактору «Московских Ведомостей», свое неудовольствие за помещение какой-то статьи, граф, между прочим, сказал: «Поставьте себя на мое место». – Никак не могу, ваше сиятельство. – «Почему?» – Воображения не хватает: у вас шестьдесят тысяч душ.].
Другое важное достоинство графа Строгонова состояло в том, что он радел о замещении вакантных кафедр свежими, капитально образованными силами. Из среды студентов, оканчивающих курс, он покровительствовал тем, которые желали посвятить себя ученому званию, и содействовал отправлению их за границу для усовершенствования в той науке, на кафедру которой они желали поступить. При нем явились в Московском университете такие личности, как Грановский, Соловьев, Катков, Леонтьев, Кудрявцев, Буслаев…
Корпорация студентов за все время попечительства графа была примерная по своему стремлению к высшему знанию и по отношению к лекциям. некоторые профессоры пользовались их особенною любовью за то, что дозволяли им в праздничные дни приходить к себе для бесед, сообщали им научные новости, дозволяли пользоваться книгами из своих библиотек и давали советы для их собственных работ. В pendant ко всему этому инспектор студентов был образцовый – Нахимов, родной брат знаменитого защитника Севастоноля. Не отличаясь ни дарованиями, ни образованностью, даже плативший дань Вакху, он по какому-то благодатному инстинкту умел обращаться с молодежью. Студенты любили его, как родного, хотя и посмеивались над его наивностью. Много ходило о нем анекдотов, не выдуманных, а действительно бывших, Вот один из них, весьма характеристичный. Студентам запрещалось отпускать длинные волосы, за чем, разумеется, должны были наблюдать инспектор и его помощники. Одному из таких длинноволосых Нахимов несколько раз говорил сходить к цирюльнику, но все напрасно: студент обещал, но не исполнял своих обещаний. «Слушай, – сказал ему Нахимов, выведенный из терпения:– если я еще раз встречу тебя[4 - Нахимов, как и некоторые из профессоров, обходился тогда без церемонии; но студенты нисколько но обижались, что он пустое вы заменял сердечным ты.] в таком виде, то непременно исключу из университета. Даю тебе честное слово. Понимаешь?» – «Понимаю, Павел Степанович». На другой или третий день Нахимов отправляется в университет. Повернув с Тверской улицы в университет по Долгоруковскому переулку, он к ужасу своему видит, что с другого конца этого переулка, т. е. от Большой Никитской улицы, идет ему навстречу означенный студент, и не остриженный. Бедный инспектор очутился между Сциллой и Харибдой. Сдержать свое слово – жалко студента; не сдержать – значит признать себя бесчестным. Положение бедовое, но добряк удачно из него вышел. – «Оборачивай назад, выезжай на Тверскую! – кричит он кучеру:– скорее, разиня!» Кучер исполнил приказание и тем спас студента от беды, а своего барина от бесчестья. Наконец, граф Строгонов неизменно выказывал в своем обращении и мнениях самостоятельность и прямизну. Не страдая тщеславием и честолюбием, он не заискивал в высших сферах и не терпел угодничества. Доказательством служит его отношение к министру народного просвещения. Некоторые находили в нем неприветливость и сухость сердца, но как согласить с таким отзывом многие противоречащие ему факты? Граф всегда был готов помочь предприятию, если оно имело своим предметом что нибудь полезное: так он помог М. Н. Каткову и П. М. Леонтьеву при начале издания ими «Русского Вестника». Равно не отказывал он в заступничестве ни цензорам. ни авторам, по поводу каких либо их недосмотров или провинностей. Правда, он редко своих посетителей (если они состояли под его управлением) приглашал садиться: они обязаны были стоя вести с ним беседу[5 - С. М. Соловьев получил приглашение садиться лишь после того, как занял место адьюнкта по кафедре русской истории.], но за то эти стоящие нисколько не были стесняемы в изложении своих просьб и мнений. Граф охотно и снисходительно выслушивал дельные возражения.
В сороковых годах Московский университет мог похвалиться приобретением новых профессоров, молодых и талантливых, умевших поднять уровень высшего научного образования и возбудить в студентах не только любознательность, но и нравственные чувства стремления к благородным идеалам. Таковы были Грановский, Крюков, Соловьев, Катков, Леонтьев, Кудрявцев, Вуслаев. Петербургские журналы «Отечественные Записки» и «Современник», органы европеизма, открыли новую эру периодической прессы, равно как главный сотрудник их Белинский своими статьями открыл новую эру высшей литературной критики. Противовесом этих журналов служили в Москве представителя славянофильства – «Москвитянин» и отдельные сборники. Тогда же выступили многие литературные таланты, относящиеся к школе Пушкина и Гоголя, как их последователи: явление, подобное романтической школе у немцев с её представителями – Тиком и двумя братьями Шлегелями, или романтической школе во Франции с её представителем В. Гюго. Целая плеяда даровитых беллетристов, с Тургеневым во главе, быстро заполонила внимание и любовь публики. Имена их известны теперь всем и каждому: Гончаров, Майков, Некрасов, Григорович, Фет, Полонский, Достоевский, Писемский, Салтыков (Щедрин), Островский, граф Л. Толстой… Об них-то, равно как и о других лицах, известных в нашей литературе и науке и с которыми выпало мне счастие познакомиться втечение трех десятилетий (30-50 годов), хочу я поговорить в моих записках. Большинство их сошло в могилу и лично не было известно со временному поколению. Посмотрите: в «Воспоминаниях» А. Я. Головачевой-Панаевой, из тридцати трех писателей осталось только двое (Е. Ф. Корш и граф Л. Н. Толстой), а из артистов (актеров), если не ошибаюсь, не осталось ни единого. Какая богатая жатва смерти! какой бедный процент долгоденствия!
II
Воспоминания мои начну с Боткина (Василия Петровича). так как с ним я познакомился раньше, чем с другими, в Москве, вскоре по окончании университетского курса. При имени этого лица некоторые, его знавшие, может быть, улыбнутся, вспомнив кое-какие причуды и слабости покойного и, между прочим, следующие стихи из литературного акафиста Щербины:
Радуйся, Испании описание!
Радуйся, в Испании небывание!
Плешивый чаепродавче,
Дон-Базилио, радуйся!
Но я не пойду за ними по этой дороге, потому что сущность дела не в сатире, а совершенно в противоположном предмете. Сын известного торговца чаем, от первого брака, Василий Петрович обучался в пансионе Кистера, преподававшего немецкий язык и литературу в Московском университете. Здесь он приобрел познания в языках немецком и французском. Впоследствии он читал свободно книги английские, итальянские и испанские. Этим чтением заместил он высшее, университетское образование. Родным языком владел он на ряду с лучшими его знатоками, в чем удостоверяют его переводы и сочинения. Одно из последних: «Поездка в Испанию», сразу доставило ему известность. Его переводы из Карлеля занимали видное место в статьях «Современника». От природы получил он верный и тонкий вкус изящного, в чем бы оно ни выражалось: он прежде многих оценил таланты Фета и Некрасова. Комнаты его постоянно украшались немногими, но лучшими произведениями живописи и скульптуры (это как бы природная принадлежность талантливого семейства Боткиных, из среды которого вышел такой ученый деятель, как Сергей Петрович). В его обедах, которыми он угощал своих приятелей, выказывался образованный эпикуреизм: они сопровождались интересными беседами, так как знакомые его принадлежали к передовым талантам в литературе и науке. Образованность Василия Петровича имела доброе влияние и на его отца, человека очень умного от природы, но по той среде, в которой он жил и действовал, не могшего относиться с большим уважением к науке и учености. Однако-ж, впоследствии он стал смотреть иначе на то общество, которое собиралось в его доме, и выражать свое к нему почтение замечательным образом: никогда не ломавший шапки перед ученостью, он, в праздник светлого Христова Воскресения, со шляпой в руках, отправлялся для поздравления к профессору Грановскому, нанимавшему у него квартиру в особом флигеле, хотя этот жилец был много моложе домовладельца. О такой метаморфозе рассказывал мне сын его Павел Петрович.
Литературное знакомство Боткина было обширно как в Москве, так и в Петербурге. Со многими личностями он был в дружеских отношениях. Белинский, Тургенев, Некрасов, Дружинин, Панаев были с ним на ты; приезжая в Москву, они большею частию останавливались у него. Письма его к некоторым из них выказывают человека мыслящего и многообразованного. Не принадлежа к тароватым, он, однако-ж, в случае нужды помогал своим приятелям по литературному ремеслу, в том числе и Белинскому. Здесь я должен остановиться и сказать несколько слов об интересных «Воспоминаниях» г-жи А. Я. Головачевой-Панаевой, известной своим талантом и образованием. Нет сомнения, что они искренни и справедливы, т. е. сообщают именно то, что автор видел или слышал, ничего к тому не прибавляя и не искажая; но мне сдается, что она слышанное и виденное в известный момент, при известных обстоятельствах, обобщает, почему и является постоянно невыгодное мнение об одних личностях и неизменно выгодное о других (в роде предубеждения и предилекции). В числе первых преимущественно фигурируют Боткин, Анненков и Тургенев. Почти каждый раз достается им при выходе их на сцену. Вот пример. Когда Белинскому, в критическую минуту его денежного затруднения, было предложено занять денег у Анненкова или у Боткина, то он первого обозвал «русским кулаком», а o другом выразился так: «покорно благодарю – душу всю вымотает своими разговорами, что он нуждается в деньгах»[6 - Воспоминания, стр. 121.]. И это сказано без всяких оговорок и разъяснений, так что читатель может составить об этих личностях мнение неверное, противоположное документальным свидетельствам, приведенным в биографии Белинского[7 - А. Н. Пыпина (т. II, стр. 271, 275-270, 285, 325).], из которых видно, что Боткин и Анненков были первыми, главными друзьями Белинского.
Что же касается до стихов Щербины: «Испании описание – в Испании небывание», то трудно понять, откуда возникло такое странное подозрение, такая нелепая сплетня. Может быть, поводом к тому послужили современные описания путешествий в Испанию – французские или английские. Я сам видел два или три таковых в библиотеке Василия Петровича, но заключать отсюда о плагиате есть сущая нелепость. Какой путешественник при рассказе о том, что он видел в чужих краях, не пользовался предшествовавшими ему описаниями тех же стран. Так, например, поступал Карамзин в своих «Письмах»: сообщая своим друзьям о посещении французской академии (в Париже), он присоединил к тому и краткий исторический очерк этого учреждения, без сомнения, переведенный или извлеченный им из какой нибудь французской монографии. То же делал фон-Визин в своих «Письмах» к гр. Панину из Франции; тоже самое имел право делать и Боткин: рассказывая о бое быков, он знакомит с историей этого зрелища; описывая Севильский собор, он также вводит историю его постройки. Не самому же ему сочинять эти истории. Отсюда заключение: Боткин несомненно был в Испании, но вместе с этим, само собою разумеется, пользовался описаниями других путешественников, т. е. поступал так, как поступают все авторы путешествий.
Некрасов, как известно, охарактеризовал П. В. Анненкова в следующем стихотворении[8 - «Русск. Архив», 1884, кн. 3, стр. 235: «Некрасов про ***».]:
За то, что ходит он в фуражке
И крепко бьет себя по ляжке[9 - Анненков действительно имел эту привычку.],
В нем наш Тургенев все замашки
Социалиста отыскал.
Но не хотел он верить слуху,
Что демократ сей черств по духу,
Что только к собственному брюху
Он уважение питал.
Как всякая эпиграмма, в которой, по пословице, на брань слово покупается, характеристика не верна, потому что исключительна, одностороння. Талантливый, образованный и с несомненным эстетическим тактом, Павел Васильевич Анненков написал много умных статей, которые ценились образованными читателями, но не нравились читателям полуобразованным.
Литературную известность дали ему впервые «Парижские письма»; они помещались в «Отечественных Записках» и умно, интересно изображали тогдашнее состояние Франции. Затем следовало издание «Писем Н. Станкевича», с приложением его «биографии»: здесь охарактеризовано движение молодых людей (так называемый «кружок Станкевича») к современной философии Гегеля. Статья, под заглавием: «Литературный тил слабовольного человека», полемизирует с статьей Н. Г. Чернышевского: «Русский человек на rendez-vous», напечатанной в «Атенее» (московском журнале, издававшемся Е. Ф. Коршем) и преследовавшей нерешительность, вялость русского человека, отсутствие инициативы в героях Тургенева. Новые произведения тогдашних беллетристов встречали в Анненкове осторожного, но всегда умного оценщика, как видно из собрания его сочинений (три тома). Никто из занимавшихся серьезно отечественной литературой не сомневался в дельности, рассудительности его критики; осуждали только иногда особенность его стиля, как бы умышленно избегавшего простоты и стремившагося к фигуральным выражениям. Это был личный, субъективный слог, отражение свойств писателя, по выражению Бюффона (le style – c'est l'homme). Typгенев, всегда ценивший талант и образованность Анненкова, сравнивал его манеру писать с замашкой такого человека, который, желая почесать у себя в голове, исполняет свое желание не просто, а, подобно акробату, через колено.
Наконец, издание сочинений Пушкина (1855-57) с «Материалами для его биографии», равно как и самая биография, к сожалению, доведенная только до 1826 года, составляют капитальную заслугу Анненкова. Оно впервые дало возможность приступить к всестороннему изучению гениального поэта. Труды издателя были по справедливости оценены Московским университетом. избравшим его в свои почетные члены, по истечении пятидесяти лет от смерти Пушкина.
III
Перехожу к моему знакомству с Белинским. Впервые мы встретились в 1834 или 1835 году у моего университетского товарища Селивановского, сына некогда известного типографщика. В доме его занимал квартиру Надеждин, издатель «Молвы», в которой явились «Литературные мечтания», заинтересовавшие весь московский читающий люд. В один из приемных дней, вечером, у Селивановского сошлись: я, В. П. Боткин и H. А. Полевой. Последний, по запрещении «Телеграфа», занимался тогда редакцией «Живописного Обозрения», издателем которого был типографщик Семен. После чая, перед ужином, вошел Белинский, помещавшийся, если не ошибаюсь, в квартире Надеждина, у которого состоял главным сотрудником. Хозяин и Полевой встретили его, как уже знакомое лице. Это доказывалось их свободным и шутливым с ним обращением. Селивановский даже трунил над его отпущенными усами, называя их знаком литературного удальства. Белинский видимо конфузился, но был разговорчив и весел. Затем мы сходились в так называвшейся «Литературной кофейне», которую почти ежедневно посещали артисты московских театров и любители чтения газет и журналов, особенно принимавшие участие в их издании. Впрочем, Белинский редко приходил туда, занятый срочною работою у Надеждина. В 1837 г. он напечатал первую часть (этимологию) своей «Русской грамматики для первоначального обучения». Я послал отчет о ней к Краевскому, в «Литературные Прибавления» к «Русскому Инвалиду»[10 - 1837, No№ 36 и 37.]: в этом отчете отдано должное его труду, особенность и новость которого (по тогдашнему времени) заключалась в том, что значение частей речи выводилось из разложения предложения, иначе: исходным пунктом этимологии полагался синтаксис. Белинский был очень доволен этим указанием: он благодарил меня, что я выставил напоказ именно то отличие его учебника, которое он сам ценил преимущественно и которым его труд отличается от других трудов по тому же предмету[11 - Другой разбор той же книги (К. С. Аксакова) основан на противоположном начале.]. Вскоре после этого мы сошлись еще ближе, благодаря общему сотрудничеству по критике и библиографии в двух повременных изданиях: в «Прибавлениях к Инвалиду», и в «Отечественных Записках» первого года (третьим товарищем в том же деле был М. H. Катков). Сбираясь на переселение в Петербург, Белинский рекомендовал мне, вместо себя, П. Н. Кудрявцева, еще студента, но уже заявившего себя в литературе повестями, которые, под псевдонимом Нестроева, помещалис в «Наблюдателе», когда этот журнал издавался типографщиком Степановын, а редактировался Белинским. За эту рекомендацию я душевно благодарил его: трудно было найдти лице, более талантливое, более знакомое с отечественной литературой и более добросовестное для того дела, за которое он взялся. Супруга Белинского, Марья Васильевна Орлова, была классной дамой в Московском Александровском институте, где я преподавал русский язык и словесность и, сверх того, занимал должность помощника инспектора классов. Она и некоторые из её сослуживиц отличались любознательностью, интересовались современной литературой. Я снабжал их «Отечественными Запискамя», «Современником» и другими книжными новостями. Наезжая в Петербург, я большею частию имел притон у Краевского, но, разумеется, посещал и Белинского, который удивлялся моей привязанности к Москве и чаепийству: ни того, ни другого он очень не жаловал. Переписки между нами не было, но в письмах к Кудрявцеву он посылал мне поклоны, как «общему другу» (его и Кудрявцева).
Считаю уместным сказать несколько слов об инциденте или пассаже по поводу разрыва Белинского с «Отечественными Записками» и перехода его к «Современнику». Это было крупным событием и сильно взволновало литературную братию, принимавшую участие в означенных журналах. Главным поводом к волнению служило письмо Белинского к В. П. Боткину[12 - От 4 ноября 1847 года (напеч. в «Спб. Ведомостях» 1869 г., No№ 187-188).]. В этом письме он заявил желание, если не требование, чтобы московские сотрудники Краевского огулом отреклись от него и перенесли свою деятельность исключительно в «Современник». Само собою разумеется, что такое желание могло удивить, но не понравиться, так как оно равнялось покушению на свободу лиц, давно вышедших из-под опеки и привыкших распоряжаться своим добром по собственному усмотрению. Какое было дело Грановскому, Соловьеву, Кудрявцеву… до взаимно-неприязненных отношений обеих редакций? Они посылали свои статьи в тот или другой журнал по собственному усмотрению. В письме, о котором идет речь, я выставлен, как неизменный пособник Краевского, хотя по временам я снабжал и «Современник» своими трудами, которые охотно принимались его издателями, Некрасовым и Панаевым. Впрочем, тревога разрешилась благополучно. Белинский был так добр, правдив и честен, так дорожил истиной, что не мог оставаться долго в тумане самозабвения: он сознал свою ошибку, как следствие болезненной раздражительности, и жалел искренно, что огорчил своим письмом московских друзей.
Дозволяю вменить себе в заслугу два дела, относящиеся к Белинскому: а) собрание его сочинений издано по моему списку, так как список, представленный покойным М. Н. Лонгиновым и переданный мне Н. X. Кетчером, заботившимся об издании, был исполнен пропусками и неверностями; б) по моему представлению, комитет общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым присудил выдавать его вдове с дочерью пенсию в 600 рублей.
IV
В плеяде беллетристов, следовавших за Пушкиным и начавших действовать в сороковых годах, пальма первенства, несомненно, принадлежала И. C. Тургеневу. Каждое произведение его ожидалось с нетерпением, читалось с жадностью и оставляло сильное впечатление в уме и сердце читателя. Независимо от крупного таланта, он сам по себе, своею личностью, с первого раза привлекал к себе искренно и крепко. Тайна влечения объясняется его мягкостью и добротою, а потом капитальным образованием. В нем не было покушений на нетерпимость. Случалось нередко, что в литературных спорах он становился скорее на сторону защиты, чем на сторону нападения. Даже в карточной игре, когда плохой партнер делал промахи, у него всегда находились в запасе «обстоятельства, смягчающие вину». Он не тяготился, когда юные претенденты на поэзию осаждали его просьбами прочесть их первые опыты и сказать о них мнение. Щадя молодое самолюбие, он давал им повод продолжать занятия, от которых, конечно, было бы полезнее отвлекать их; но Тургеневу совестно было решиться на такой совет, частию по деликатности, а частию и по надежде: авось современем и выйдет что либо путное из первых шагов юношей на Парнас. Надежды, большею частью, не сбывались, за что и доставалось ментору от В. П. Боткина, не терпевшего разочарования в искусстве, какое бы оно ни было – эстетическое или кулинарное. Примерок тому не мало. Тургенев увлекся рассказами одного из московских студентов медицинского факультета, Л – ва, и начал чрез меру восхвалять их. – «Посмотрим, мой милый, – сказал с недоверчивостью Боткин: – познакомь меня с лучшими местами расказов твоего protеgе». Тургенев начал читать, но чем больше читал, тем больше Василий Петрович хмурился и, наконец, напустился на своего приятеля: «Так это-то, по твоему мнению, многообещающий талант? Это-то ты называешь перлами поэзии? Это, мой милый, не перлы, а ерунда, дичь» и т. д. Однажды я и П. В. Анненков застали у Ивана Сергеевича благообразного офицера, с тетрадью в руках., По уходе его, И. С. обратился к нам с такими словами: «Знаете ли, кто это был у меня? Это такой талант, которому Лермонтов не достоин будет развязать ремень обуви». Заметив наше сомнение, он промолвил: «Ну, вот увидите сами». К сожалению, мы этого не увидели: хотя молодой офицер и оказался действительно талантливым, но все же не заткнул Лермонтова за пояс.
Образованием Тургенев несомненно превышал всех своих сверстников-литераторов. Окончив курс в Петербургском университете, он за границей слушал лекции немецких профессоров из школы Шеллинга и Гегеля. Литературы французская и немецкая были капитально ему знакомы. С даром творчества соединялся у него и талант критический, что доказывается суждениями о важнейших поэтических творениях. Мнения иего были очень оригинальны, соединяя серьезность немецкой эстетики с ясностью изложения французских критиков.
По доброте своей, Тургенев оказывал помощь своим товарищам по ремеслу, т. е. ссужал их деньгами во дни безденежья. Однажды я застал его за письменным столом с реестром в руках. Нa вопрос мой: «Чем вы занимаетесь?» – он отвечал: – «Да вот свожу итог деньгам, взятым у меня взаймы такими-то и такими лицами». – «Сумма не малая», – заметил я. – «Конечно, так; но знаете ли что? я нисколько не раскаяваюс с ссудах: я уверен, что каждому лицу, означенному в реестре, ссуда принесет пользу, поправит его временную нужду. За одного только должника не ручаюсь; боюсь, что помощь не пойдет ему в прок»… и он указал мне на означенном реестре: А. А. Г – ву (столько-то).
Симпатична и трогательна была привязанность Тургенева к детям. Случалось нередко, что он, приехав на вечер и приняв участие в общей беседе, оставлял ее и подсаживался в другой комнате к какому нибудь мальчугану или девочке на разговор. Ему интересно было подмечать в них проявление смысла, зародыш какого нибудь дарования. В таком случае он сообщал родителям свои замечания и советовал им обратить на них внимание. Известно, что для детей он и переводил, и сочинял сказки.
Прислуга также любила своего барина. Рассказывали (за верность слуха не ручаюсь), что он и брат его были одолжены ей получением материнского наследства. Мать, почему-то не любившая сыновей своих, хотела передать все имущество своей воспитаннице (Л – ой), побочной дочери одного из московских неважных докторов. Заболев серьезно, она посылала за нотариусом, но посылаемые не исполняли приказаний барыни и дали знать Ивану Сергеевичу, не бывшему тогда в Москве, о серьезной болезни своей госпожи и приглашали его поспешить приездом. Тургенев явился, когда духовной, по агонии больной, уже невозможно было совершить. Так или иначе, но Тургенев из нуждавшагося литератора стал богатым. Это дало ему средство вести жизнь привольную, собирать знакомых москвичей и угощать их обедами. Так как прежний повар не делал чести своему искусству, то он просил одного из своих петербургских купить ему другого, хорошего повара. Слово «купить» вызвало бы теперь смех или раздражение, но тогда оно, как обычное выражение, не удивляло даже самых ревностных противников крепостного права. Дело не в слове, а в чувстве, с которым оно произносится, и в мысли, которая с ним сопрягается. Заключать отсюда о барстве или аристократизме не следует. Тот же самый Тургенев, довольный «купленным» поваром за отлично приготовленный обед, в конце стола позвал его, выпил за его искусство и поднес ему самому бокал шампанского. Может статься, это было уже слишком, через край, но было именно так. Обвинявшие автора «Записок охотника» в барстве должны были помнить, что этим сочинением он оказал не малую услугу образу мыслей относительно крепостного права.
На обеды к Тургеневу приглашались московские профессора и литераторы, принадлежавшие к так называемой европейской партии (Грановский, Кудрявцев, Забелин, Боткин, Кетчер, Феоктистов и др.), хотя он был в дружеских сношениях с некоторыми членами славянофильского кружка, особенно с С. Т. Аксаковым. Из артистов почти постоянно являлись Щепкин, Садовский и Шумский и какой-то немец, может быть, подлинник Лемма (в «Дворянском гнезде»), мастерски игравший на фортепьяно. Иногда после обеда устроивался небольшой хор, под управлением Шумского, и гости, обладавшие голосом, исполняли тот или другой хор из какой нибудь оперы, преимущественно из «Аскольдовой могилы». А иногда Садовский морил со смеха вымышленными рассказами, которые мне нравились больше рассказов Горбунова: в них ярче, интереснее выступал комизм, потому что соединялся с некоторым лицедейством… Одним словом, все было светло, радостно, дружелюбно, хотя по временам и не обходилось без споров, на которые москвичи были очень падки (не знаю, как теперь). При одном воспоминании об этом, уже давно минувшем времени, я чувствую себя лучше, веселее, самодовольнее.
По выходе в свет «Записок охотника» известность Тургенева возростала все больше и больше. Ряд таких произведений, как «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Дым», возвели их производителя на первое место и возбудили глубокую к нему симпатию. Иначе и не могло быть, потому что, Тургенев принадлежал к разряду талантов субъективных, то есть состоял в родстве с созданными им героями, представителями тогдашнего образа мыслей, страдал их недугами, был в числе людей слабовольных, не действующих, а размышляющих, заеденных, по его собственному выражению, рефлексией и анализом. С каким интересом читалось и перечитывалось «Дворянское гнездо!» Сколько чувств было возбуждено им, сколько слез оно стоило читателям и преимущественно читательницам! Некоторые места его так сильно действовали на чувства, что приходилось иногда на некоторое время прерывать чтение[13 - Подобное действие, хотя и не в такой мере, производила повесть г. Григоровича: «Антон-горемыка».]. Справедливость высказанного обнаружилась блистательно на публичных чтениях, устроенных в пользу общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Первое чтение состоялось 10-го января 1861 г. в зале Пассажа. Тургенев выбрал из своих сочинений этюд, или, пожалуй, характеристику: «Дон-Кихот и Гамлет». Надобно было присутствовать, чтобы понять впечатление, произведенное его выходом. Он долго не мог начать чтение, встреченный шумными, громкими рукоплесканиями, и даже несколько смутился от такого приема, доказавшего, что он был в то время наш излюбленный беллетрист. Особенное чувство выказывали те посетители, которые, будучи очень хорошо знакомы с его сочинениями, впервые лицем к лицу увидали сочинителя. Короче, львиная часть оваций досталась на долю Typгеневу, и вполне справедливо.
Независимо от главного направления своего поэтического таланта, Тургенев обладал и значительною способностью к сатире. Этот в сущности кроткий голубь мог в случае надобности и язвить, как змея. Отрицательное отношение к текущей действительности выразилось всего явственнее в романе «Дым», речами Потугина. Здесь, как говорится, досталось и нашим, и вашим – и западникам, и славянофилам, почему он и не был в авантаже ни у тех, ни у других. Потугин осмеял наших борзых прогрессистов, из которых двое даже поименованы (Шелгунов и Щапов), а третий выведен под вымышленной фамилией Воротилина – того самого (как ходили слухи), в котором автор предсказывал поэта свыше Лермонтова. В Губареве, представителе наших прогрессистов, думали видеть Огарева, но едва ли справедливо: между ними нет никакого сходства, кроме разве того, что их фамилии образуют богатую рифму. Со стороны читателей, видевших в Потугине отсутствие патриотизма, явилась даже следующая эпиграмма на роман:
И дым отечества нам сладок и приятен! –
Нам век минувший говорит.
Век нынешний и в солнце ищет пятен,
И смрадным «Дымом» он отечество коптит».
Сочинение этой эпиграммы приписывали князю П. А. Вяземскому.
Прибавлю, что еще до появления романа в печати автор читал из него некоторые места в пользу литературного фонда. Чтение происходило в Петербурге, в доме бывшем Бенардаки (на Невском проспекте), и привлекло многочисленную публику. Посетители, даже из числа самых серьезных, не могли удержаться от смеха при характеристике русских людей, живших за границей.
Другой образчик сатиры, доведенный до сарказма или пасквиля, Тургенев адресовал к одному из лиц, известных и в службе, и в литературе. Вот первые строки этого злостного послания:
Друг мыслей возвышенных,
Алексей Дмитриевич Галахов
«Выражение: «сороковые годы», «люди сороковых годов», не редко употреблялись и теперь еще употребляются для обозначения того усиленного интеллектуального движения, которое началось и действовало в Москве, совпадая с тем периодом времени, когда попечителем Московского учебного округа был граф С. Г. Строгонов (1835-1847). Вторым выражением Писемский даже озаглавил один из своих романов, к сожалению, весьма неудачный…»
Алексей Галахов
Сороковые годы
I
Выражение: «сороковые годы», «люди сороковых годов», не редко употреблялись и теперь еще употребляются для обозначения того усиленного интеллектуального движения, которое началось и действовало в Москве, совпадая с тем периодом времени, когда попечителем Московского учебного округа был граф С. Г. Строгонов (1835-1847). Вторым выражением Писемский даже озаглавил один из своих романов, к сожалению, весьма неудачный. Необходимо заметить, что означенное движение не ограничивается в точности десятилетним периодом. Странно думать, что оно началось именно 1-го января 1840 и завершилось 1-го января 1850 года. Можно если угодно назвать это пространство времени выдающимся пунктом культурного прогресса, но начало его восходит к предыдущим годам нашего столетия, а последствия его раскрываются в течение последующих, частию изменяясь, а частию и заменяясь другими движениями или веяниями.
Второе замечание относится к отрицанию особенного значения сороковых годов в нашем культурном прогрессе. По мнению некоторых журнальных статей, сороковые годы стоят на одном уровне с предшествовавшими им и следовавшими за ними. В доказательство приводятся свидетельства представителей того времени (например, И. С. Аксакова), что общественное положение нисколько не изменялось к лучшему. Рассуждать таким образом значит иметь ложное понятие о тех эпохах, которым присвоено название выдающихся, прогрессивных, и которым принадлежат времена Перикла, Августа, Людовика XIV, наконец век просвещения – XVIII-й век. Последний, пожалуй, окажется наиболее худшим, так как народ был погружен в невежество, в высших сферах господствовали крайние злоупотребления, разврат и ханжество, да и самые светила философии не отличались достаточным нравственным цензом. Однако-ж, никто не сомневается в исторической важности указанных эпох. Дело не в том, как жили те или другие субъекты в эпоху прогресса, а в самом прогрессе и его последствиях, – в тех новых началах, которые он кладет для серьезного умственного развития и нравственного улучшения, для более точного, правдивого самосознания, как для отдельных лиц, так и целых масс. Чацкий – один среди людей минувшего века, но он уже усвоил иной образ мыслей, которому предстояло торжество. И. Киреевский, в статье по поводу постановки «Горя от ума на Московской сцене», высказал пустоту жизни москвичей, их равнодушие ко всему нравственному и умственному, но в то же время он представил и исключения, т. е. людей, которые развивают в себе чувства возвышенные с правилами твердыми и благородными.
Усиленное стремление московского юношества к более серьезному образованию ведет свое начало, по моему мнению, с двадцатых годов, когда профессор М. Г. Павлов, по возвращении из-за границы, открыл свои лекции сельского хозяйства и минералогии. Он первый дал студентам понятие о господствовавшей в то время философии Шеллинга, или, точнее, о применении этой философии к естествоведению одним из его последователей – Океном. Новизна взглядов, мастерство их изложения в логическом и стилистическом отношениях сильно действовали на слушателей и, кроме того, привлекали в университет постороннюю любознательную молодежь из наиболее просвещенных семейств высшего московского общества. Между этими юношами, поступавшими на службу преимущественно в московский архив иностранных дел и потому прозванных «архивными», особенно выдавался князь В. Ф. Одоевский своею любовью к высшему знанию, к так называемой трансцендентальной философии. Он устроил у себя в доме философское общество, которое посещалось его товарищами по службе и по образу мыслей, а в 1824 году издавал сборник «Мнемозину» для ознакомления читателей с философией Шеллинга. В нем помещено несколько статей Павлова и самого издателя: последнему принадлежат отрывки из истории философии и по эстетике, основанной на идеях Шеллинга и долженствовавшей положить конец французским, лжеклассическим эстетическим понятиям, представителем которых в то время был профессор Мерзляков.
Новые органы журналистики содействовали с своей стороны университетскому влиянию. Кроме сборника «Мнемозина», в двадцатых годах явились «Телеграф» (Н. Полевого), «Московский Вестник» (Погодина), «Европеец» (И. Киреевского). Даже дряхлеющий «Вестник Европы» значительно обновился, благодаря сотрудничеству Н. И. Надеждина. По своим направлениям и содержанию, эти новые периодические издания в Москве взяли перевес над таковыми же петербургскими.
Потребность серьезного учения возрастало более и более. В тридцатых годах философия Шеллинга уступила свое место философии Гегеля, которая заинтересовала кружок любознательных студентов, преимущественно историко-филологического факультета, собиравшихся у их товарища Н. Ставкевича. Главными лицами этого кружка были К. Аксаков, Катков, Ключников, Белинский. Последний, по незнанию иностранных языков, своим знакомством с немецкой эстетикой и с немецкой поэзией, преимущественно с Шиллером, много обязан Станкевичу, в своих беседах разъяснявшему сущность той и другой. В университете лекции Н. И. Надеждина, профессора теории изящных искусств, сильно влияли на молодежь, равно как и основанный им журнал «Телескоп» вместе с листком «Молва», в котором Белинский выступил как критик, уже подготовленный к своему делу беседами с Станкевичем и лекциями Надеждина. Наконец, в тридцатых же годах развилось так называемое славянофильство, занимающее весьма почетное место в истории нашего самопознания. Основателями и разъяснителями этого учения были А. Хомяков, К. Аксаков, И. Киреевский и (позднее) Ю. Самарин.
Сороковые годы относятся преимущественно к двенадцатилетнему управлению графа С. Г. Строгонова Московским учебным округом. До официального назначения его на этот пост, будучи полковником и флигель-адъютантом, он обстоятельно знакомился с университетским преподаванием, т. е. посещал лекции тех или других профессоров. Надобно отдать ему справедливость и за то, что при всем уважении истинной учености он обращал большое внимание на нравственную пробу преподавателя: невнимательное отношение к своей обязанности или уклонение от неё к другому делу, тщеславие, непотизм, отсутствие справедливости и благородства, неправильный образ жизни были им нетерпимы и презираемы. Все, например, знали, что он не жаловал четырех профессоров, хотя по своим лекциям они стояли на видном месте. Один (И. И. Давыдов) отталкивал его чрезмерным самолюбием и непрямыми путями в своих действиях[1 - Клюшников охарактеризовал его в чрезвычайно злой эпиграмме. См. также и другие свидетельства, например, в «Русск. Архиве» 1888 г., VIII, стр. 482, Письма Каткова к А. Н. Попову. Здесь Давыдов обличается в плагиате, т. е. в присвоении себе критических заметок Ф. И. Буслаева о книге Павского («Филологич. наблюдения над составом русского языка»). Впоследствии, давая отчет в «Москвитянине» о каком-то грамматическом труде Давыдова, Буслаев привел, между прочим, следующий пример: «нельзя уважать человека, который вредит другим своими проделками».], другой (Д. М. Перевощиков) – непотизмом и хитростью, прикрываемою простотой себе на уме[2 - Ibid., стр. 493.]; третий (С. П. Шевырев) – раздражительностью и педантизмом; четвертый (М. П. Погодин) – многостороннею, разбросанною деятельностью, мешавшею ему всецело посвятить себя избранному им предмету – истории. Утверждали, будто графу не нравились эти лица потому, что к ним в особенности благосклонно относился министр С. С. Уваров, бывший с ним не в ладах. Может статься, это и справедливо, но только отчасти, а не вполне. Обращение этих личностей с их меценатом, при поездке в его подмосковное поместье Поречье, заставляло многих пожимать плечами, особенно после статьи Давыдова в «Москвитянине», повествующей о провождении времени в означенном имении. Прочитав ее, граф Строгонов, при свидании с автором, обратился к нему с таким вопросом: «не знаете ли, кто написал эту лакейскую статью? Не думаю, чтобы она могла понравиться Сергию Семеновичу»[3 - Замечу, что гр. Строгонов был иногда очень резок в своих выражениях. Резкость эта порою переходила в комизм. Однажды явился к нему какой-то провинциал, отец двух гимназистов, жаловаться на то, что его дети после экзамена не переведены в следующий класс, и при этом часто повторял одну и ту же фразу: ведь они у меня, ваше сиятельство, преумные. «Верю, верю, – отвечал граф, – должно быть, в матушку». – На одном магистерском диспуте сидел он рядом с Грановским, а против них поместился О. М. Бодянский, положив одну ногу на другую и тем выказав особенность своих сапогов, подбитых крупными гвоздями, словно подковами. Граф обратился к своему соседу: «Посмотрите, Тимофей Николаевич, как во всем оригинален Осип Максимович. Мы с вами, если нам нужны сапоги, отправляемся к сапожнику, а он заказывает их в кузнице». Но, дозволяя себе резкия выходки, граф спокойно выслушивал удачные, остроумные реплики. Вот один из нескольких примеров. В разговоре с Е. Ф. Коршем, известным многими серьезными литературными трудами, выражая ему, как редактору «Московских Ведомостей», свое неудовольствие за помещение какой-то статьи, граф, между прочим, сказал: «Поставьте себя на мое место». – Никак не могу, ваше сиятельство. – «Почему?» – Воображения не хватает: у вас шестьдесят тысяч душ.].
Другое важное достоинство графа Строгонова состояло в том, что он радел о замещении вакантных кафедр свежими, капитально образованными силами. Из среды студентов, оканчивающих курс, он покровительствовал тем, которые желали посвятить себя ученому званию, и содействовал отправлению их за границу для усовершенствования в той науке, на кафедру которой они желали поступить. При нем явились в Московском университете такие личности, как Грановский, Соловьев, Катков, Леонтьев, Кудрявцев, Буслаев…
Корпорация студентов за все время попечительства графа была примерная по своему стремлению к высшему знанию и по отношению к лекциям. некоторые профессоры пользовались их особенною любовью за то, что дозволяли им в праздничные дни приходить к себе для бесед, сообщали им научные новости, дозволяли пользоваться книгами из своих библиотек и давали советы для их собственных работ. В pendant ко всему этому инспектор студентов был образцовый – Нахимов, родной брат знаменитого защитника Севастоноля. Не отличаясь ни дарованиями, ни образованностью, даже плативший дань Вакху, он по какому-то благодатному инстинкту умел обращаться с молодежью. Студенты любили его, как родного, хотя и посмеивались над его наивностью. Много ходило о нем анекдотов, не выдуманных, а действительно бывших, Вот один из них, весьма характеристичный. Студентам запрещалось отпускать длинные волосы, за чем, разумеется, должны были наблюдать инспектор и его помощники. Одному из таких длинноволосых Нахимов несколько раз говорил сходить к цирюльнику, но все напрасно: студент обещал, но не исполнял своих обещаний. «Слушай, – сказал ему Нахимов, выведенный из терпения:– если я еще раз встречу тебя[4 - Нахимов, как и некоторые из профессоров, обходился тогда без церемонии; но студенты нисколько но обижались, что он пустое вы заменял сердечным ты.] в таком виде, то непременно исключу из университета. Даю тебе честное слово. Понимаешь?» – «Понимаю, Павел Степанович». На другой или третий день Нахимов отправляется в университет. Повернув с Тверской улицы в университет по Долгоруковскому переулку, он к ужасу своему видит, что с другого конца этого переулка, т. е. от Большой Никитской улицы, идет ему навстречу означенный студент, и не остриженный. Бедный инспектор очутился между Сциллой и Харибдой. Сдержать свое слово – жалко студента; не сдержать – значит признать себя бесчестным. Положение бедовое, но добряк удачно из него вышел. – «Оборачивай назад, выезжай на Тверскую! – кричит он кучеру:– скорее, разиня!» Кучер исполнил приказание и тем спас студента от беды, а своего барина от бесчестья. Наконец, граф Строгонов неизменно выказывал в своем обращении и мнениях самостоятельность и прямизну. Не страдая тщеславием и честолюбием, он не заискивал в высших сферах и не терпел угодничества. Доказательством служит его отношение к министру народного просвещения. Некоторые находили в нем неприветливость и сухость сердца, но как согласить с таким отзывом многие противоречащие ему факты? Граф всегда был готов помочь предприятию, если оно имело своим предметом что нибудь полезное: так он помог М. Н. Каткову и П. М. Леонтьеву при начале издания ими «Русского Вестника». Равно не отказывал он в заступничестве ни цензорам. ни авторам, по поводу каких либо их недосмотров или провинностей. Правда, он редко своих посетителей (если они состояли под его управлением) приглашал садиться: они обязаны были стоя вести с ним беседу[5 - С. М. Соловьев получил приглашение садиться лишь после того, как занял место адьюнкта по кафедре русской истории.], но за то эти стоящие нисколько не были стесняемы в изложении своих просьб и мнений. Граф охотно и снисходительно выслушивал дельные возражения.
В сороковых годах Московский университет мог похвалиться приобретением новых профессоров, молодых и талантливых, умевших поднять уровень высшего научного образования и возбудить в студентах не только любознательность, но и нравственные чувства стремления к благородным идеалам. Таковы были Грановский, Крюков, Соловьев, Катков, Леонтьев, Кудрявцев, Вуслаев. Петербургские журналы «Отечественные Записки» и «Современник», органы европеизма, открыли новую эру периодической прессы, равно как главный сотрудник их Белинский своими статьями открыл новую эру высшей литературной критики. Противовесом этих журналов служили в Москве представителя славянофильства – «Москвитянин» и отдельные сборники. Тогда же выступили многие литературные таланты, относящиеся к школе Пушкина и Гоголя, как их последователи: явление, подобное романтической школе у немцев с её представителями – Тиком и двумя братьями Шлегелями, или романтической школе во Франции с её представителем В. Гюго. Целая плеяда даровитых беллетристов, с Тургеневым во главе, быстро заполонила внимание и любовь публики. Имена их известны теперь всем и каждому: Гончаров, Майков, Некрасов, Григорович, Фет, Полонский, Достоевский, Писемский, Салтыков (Щедрин), Островский, граф Л. Толстой… Об них-то, равно как и о других лицах, известных в нашей литературе и науке и с которыми выпало мне счастие познакомиться втечение трех десятилетий (30-50 годов), хочу я поговорить в моих записках. Большинство их сошло в могилу и лично не было известно со временному поколению. Посмотрите: в «Воспоминаниях» А. Я. Головачевой-Панаевой, из тридцати трех писателей осталось только двое (Е. Ф. Корш и граф Л. Н. Толстой), а из артистов (актеров), если не ошибаюсь, не осталось ни единого. Какая богатая жатва смерти! какой бедный процент долгоденствия!
II
Воспоминания мои начну с Боткина (Василия Петровича). так как с ним я познакомился раньше, чем с другими, в Москве, вскоре по окончании университетского курса. При имени этого лица некоторые, его знавшие, может быть, улыбнутся, вспомнив кое-какие причуды и слабости покойного и, между прочим, следующие стихи из литературного акафиста Щербины:
Радуйся, Испании описание!
Радуйся, в Испании небывание!
Плешивый чаепродавче,
Дон-Базилио, радуйся!
Но я не пойду за ними по этой дороге, потому что сущность дела не в сатире, а совершенно в противоположном предмете. Сын известного торговца чаем, от первого брака, Василий Петрович обучался в пансионе Кистера, преподававшего немецкий язык и литературу в Московском университете. Здесь он приобрел познания в языках немецком и французском. Впоследствии он читал свободно книги английские, итальянские и испанские. Этим чтением заместил он высшее, университетское образование. Родным языком владел он на ряду с лучшими его знатоками, в чем удостоверяют его переводы и сочинения. Одно из последних: «Поездка в Испанию», сразу доставило ему известность. Его переводы из Карлеля занимали видное место в статьях «Современника». От природы получил он верный и тонкий вкус изящного, в чем бы оно ни выражалось: он прежде многих оценил таланты Фета и Некрасова. Комнаты его постоянно украшались немногими, но лучшими произведениями живописи и скульптуры (это как бы природная принадлежность талантливого семейства Боткиных, из среды которого вышел такой ученый деятель, как Сергей Петрович). В его обедах, которыми он угощал своих приятелей, выказывался образованный эпикуреизм: они сопровождались интересными беседами, так как знакомые его принадлежали к передовым талантам в литературе и науке. Образованность Василия Петровича имела доброе влияние и на его отца, человека очень умного от природы, но по той среде, в которой он жил и действовал, не могшего относиться с большим уважением к науке и учености. Однако-ж, впоследствии он стал смотреть иначе на то общество, которое собиралось в его доме, и выражать свое к нему почтение замечательным образом: никогда не ломавший шапки перед ученостью, он, в праздник светлого Христова Воскресения, со шляпой в руках, отправлялся для поздравления к профессору Грановскому, нанимавшему у него квартиру в особом флигеле, хотя этот жилец был много моложе домовладельца. О такой метаморфозе рассказывал мне сын его Павел Петрович.
Литературное знакомство Боткина было обширно как в Москве, так и в Петербурге. Со многими личностями он был в дружеских отношениях. Белинский, Тургенев, Некрасов, Дружинин, Панаев были с ним на ты; приезжая в Москву, они большею частию останавливались у него. Письма его к некоторым из них выказывают человека мыслящего и многообразованного. Не принадлежа к тароватым, он, однако-ж, в случае нужды помогал своим приятелям по литературному ремеслу, в том числе и Белинскому. Здесь я должен остановиться и сказать несколько слов об интересных «Воспоминаниях» г-жи А. Я. Головачевой-Панаевой, известной своим талантом и образованием. Нет сомнения, что они искренни и справедливы, т. е. сообщают именно то, что автор видел или слышал, ничего к тому не прибавляя и не искажая; но мне сдается, что она слышанное и виденное в известный момент, при известных обстоятельствах, обобщает, почему и является постоянно невыгодное мнение об одних личностях и неизменно выгодное о других (в роде предубеждения и предилекции). В числе первых преимущественно фигурируют Боткин, Анненков и Тургенев. Почти каждый раз достается им при выходе их на сцену. Вот пример. Когда Белинскому, в критическую минуту его денежного затруднения, было предложено занять денег у Анненкова или у Боткина, то он первого обозвал «русским кулаком», а o другом выразился так: «покорно благодарю – душу всю вымотает своими разговорами, что он нуждается в деньгах»[6 - Воспоминания, стр. 121.]. И это сказано без всяких оговорок и разъяснений, так что читатель может составить об этих личностях мнение неверное, противоположное документальным свидетельствам, приведенным в биографии Белинского[7 - А. Н. Пыпина (т. II, стр. 271, 275-270, 285, 325).], из которых видно, что Боткин и Анненков были первыми, главными друзьями Белинского.
Что же касается до стихов Щербины: «Испании описание – в Испании небывание», то трудно понять, откуда возникло такое странное подозрение, такая нелепая сплетня. Может быть, поводом к тому послужили современные описания путешествий в Испанию – французские или английские. Я сам видел два или три таковых в библиотеке Василия Петровича, но заключать отсюда о плагиате есть сущая нелепость. Какой путешественник при рассказе о том, что он видел в чужих краях, не пользовался предшествовавшими ему описаниями тех же стран. Так, например, поступал Карамзин в своих «Письмах»: сообщая своим друзьям о посещении французской академии (в Париже), он присоединил к тому и краткий исторический очерк этого учреждения, без сомнения, переведенный или извлеченный им из какой нибудь французской монографии. То же делал фон-Визин в своих «Письмах» к гр. Панину из Франции; тоже самое имел право делать и Боткин: рассказывая о бое быков, он знакомит с историей этого зрелища; описывая Севильский собор, он также вводит историю его постройки. Не самому же ему сочинять эти истории. Отсюда заключение: Боткин несомненно был в Испании, но вместе с этим, само собою разумеется, пользовался описаниями других путешественников, т. е. поступал так, как поступают все авторы путешествий.
Некрасов, как известно, охарактеризовал П. В. Анненкова в следующем стихотворении[8 - «Русск. Архив», 1884, кн. 3, стр. 235: «Некрасов про ***».]:
За то, что ходит он в фуражке
И крепко бьет себя по ляжке[9 - Анненков действительно имел эту привычку.],
В нем наш Тургенев все замашки
Социалиста отыскал.
Но не хотел он верить слуху,
Что демократ сей черств по духу,
Что только к собственному брюху
Он уважение питал.
Как всякая эпиграмма, в которой, по пословице, на брань слово покупается, характеристика не верна, потому что исключительна, одностороння. Талантливый, образованный и с несомненным эстетическим тактом, Павел Васильевич Анненков написал много умных статей, которые ценились образованными читателями, но не нравились читателям полуобразованным.
Литературную известность дали ему впервые «Парижские письма»; они помещались в «Отечественных Записках» и умно, интересно изображали тогдашнее состояние Франции. Затем следовало издание «Писем Н. Станкевича», с приложением его «биографии»: здесь охарактеризовано движение молодых людей (так называемый «кружок Станкевича») к современной философии Гегеля. Статья, под заглавием: «Литературный тил слабовольного человека», полемизирует с статьей Н. Г. Чернышевского: «Русский человек на rendez-vous», напечатанной в «Атенее» (московском журнале, издававшемся Е. Ф. Коршем) и преследовавшей нерешительность, вялость русского человека, отсутствие инициативы в героях Тургенева. Новые произведения тогдашних беллетристов встречали в Анненкове осторожного, но всегда умного оценщика, как видно из собрания его сочинений (три тома). Никто из занимавшихся серьезно отечественной литературой не сомневался в дельности, рассудительности его критики; осуждали только иногда особенность его стиля, как бы умышленно избегавшего простоты и стремившагося к фигуральным выражениям. Это был личный, субъективный слог, отражение свойств писателя, по выражению Бюффона (le style – c'est l'homme). Typгенев, всегда ценивший талант и образованность Анненкова, сравнивал его манеру писать с замашкой такого человека, который, желая почесать у себя в голове, исполняет свое желание не просто, а, подобно акробату, через колено.
Наконец, издание сочинений Пушкина (1855-57) с «Материалами для его биографии», равно как и самая биография, к сожалению, доведенная только до 1826 года, составляют капитальную заслугу Анненкова. Оно впервые дало возможность приступить к всестороннему изучению гениального поэта. Труды издателя были по справедливости оценены Московским университетом. избравшим его в свои почетные члены, по истечении пятидесяти лет от смерти Пушкина.
III
Перехожу к моему знакомству с Белинским. Впервые мы встретились в 1834 или 1835 году у моего университетского товарища Селивановского, сына некогда известного типографщика. В доме его занимал квартиру Надеждин, издатель «Молвы», в которой явились «Литературные мечтания», заинтересовавшие весь московский читающий люд. В один из приемных дней, вечером, у Селивановского сошлись: я, В. П. Боткин и H. А. Полевой. Последний, по запрещении «Телеграфа», занимался тогда редакцией «Живописного Обозрения», издателем которого был типографщик Семен. После чая, перед ужином, вошел Белинский, помещавшийся, если не ошибаюсь, в квартире Надеждина, у которого состоял главным сотрудником. Хозяин и Полевой встретили его, как уже знакомое лице. Это доказывалось их свободным и шутливым с ним обращением. Селивановский даже трунил над его отпущенными усами, называя их знаком литературного удальства. Белинский видимо конфузился, но был разговорчив и весел. Затем мы сходились в так называвшейся «Литературной кофейне», которую почти ежедневно посещали артисты московских театров и любители чтения газет и журналов, особенно принимавшие участие в их издании. Впрочем, Белинский редко приходил туда, занятый срочною работою у Надеждина. В 1837 г. он напечатал первую часть (этимологию) своей «Русской грамматики для первоначального обучения». Я послал отчет о ней к Краевскому, в «Литературные Прибавления» к «Русскому Инвалиду»[10 - 1837, No№ 36 и 37.]: в этом отчете отдано должное его труду, особенность и новость которого (по тогдашнему времени) заключалась в том, что значение частей речи выводилось из разложения предложения, иначе: исходным пунктом этимологии полагался синтаксис. Белинский был очень доволен этим указанием: он благодарил меня, что я выставил напоказ именно то отличие его учебника, которое он сам ценил преимущественно и которым его труд отличается от других трудов по тому же предмету[11 - Другой разбор той же книги (К. С. Аксакова) основан на противоположном начале.]. Вскоре после этого мы сошлись еще ближе, благодаря общему сотрудничеству по критике и библиографии в двух повременных изданиях: в «Прибавлениях к Инвалиду», и в «Отечественных Записках» первого года (третьим товарищем в том же деле был М. H. Катков). Сбираясь на переселение в Петербург, Белинский рекомендовал мне, вместо себя, П. Н. Кудрявцева, еще студента, но уже заявившего себя в литературе повестями, которые, под псевдонимом Нестроева, помещалис в «Наблюдателе», когда этот журнал издавался типографщиком Степановын, а редактировался Белинским. За эту рекомендацию я душевно благодарил его: трудно было найдти лице, более талантливое, более знакомое с отечественной литературой и более добросовестное для того дела, за которое он взялся. Супруга Белинского, Марья Васильевна Орлова, была классной дамой в Московском Александровском институте, где я преподавал русский язык и словесность и, сверх того, занимал должность помощника инспектора классов. Она и некоторые из её сослуживиц отличались любознательностью, интересовались современной литературой. Я снабжал их «Отечественными Запискамя», «Современником» и другими книжными новостями. Наезжая в Петербург, я большею частию имел притон у Краевского, но, разумеется, посещал и Белинского, который удивлялся моей привязанности к Москве и чаепийству: ни того, ни другого он очень не жаловал. Переписки между нами не было, но в письмах к Кудрявцеву он посылал мне поклоны, как «общему другу» (его и Кудрявцева).
Считаю уместным сказать несколько слов об инциденте или пассаже по поводу разрыва Белинского с «Отечественными Записками» и перехода его к «Современнику». Это было крупным событием и сильно взволновало литературную братию, принимавшую участие в означенных журналах. Главным поводом к волнению служило письмо Белинского к В. П. Боткину[12 - От 4 ноября 1847 года (напеч. в «Спб. Ведомостях» 1869 г., No№ 187-188).]. В этом письме он заявил желание, если не требование, чтобы московские сотрудники Краевского огулом отреклись от него и перенесли свою деятельность исключительно в «Современник». Само собою разумеется, что такое желание могло удивить, но не понравиться, так как оно равнялось покушению на свободу лиц, давно вышедших из-под опеки и привыкших распоряжаться своим добром по собственному усмотрению. Какое было дело Грановскому, Соловьеву, Кудрявцеву… до взаимно-неприязненных отношений обеих редакций? Они посылали свои статьи в тот или другой журнал по собственному усмотрению. В письме, о котором идет речь, я выставлен, как неизменный пособник Краевского, хотя по временам я снабжал и «Современник» своими трудами, которые охотно принимались его издателями, Некрасовым и Панаевым. Впрочем, тревога разрешилась благополучно. Белинский был так добр, правдив и честен, так дорожил истиной, что не мог оставаться долго в тумане самозабвения: он сознал свою ошибку, как следствие болезненной раздражительности, и жалел искренно, что огорчил своим письмом московских друзей.
Дозволяю вменить себе в заслугу два дела, относящиеся к Белинскому: а) собрание его сочинений издано по моему списку, так как список, представленный покойным М. Н. Лонгиновым и переданный мне Н. X. Кетчером, заботившимся об издании, был исполнен пропусками и неверностями; б) по моему представлению, комитет общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым присудил выдавать его вдове с дочерью пенсию в 600 рублей.
IV
В плеяде беллетристов, следовавших за Пушкиным и начавших действовать в сороковых годах, пальма первенства, несомненно, принадлежала И. C. Тургеневу. Каждое произведение его ожидалось с нетерпением, читалось с жадностью и оставляло сильное впечатление в уме и сердце читателя. Независимо от крупного таланта, он сам по себе, своею личностью, с первого раза привлекал к себе искренно и крепко. Тайна влечения объясняется его мягкостью и добротою, а потом капитальным образованием. В нем не было покушений на нетерпимость. Случалось нередко, что в литературных спорах он становился скорее на сторону защиты, чем на сторону нападения. Даже в карточной игре, когда плохой партнер делал промахи, у него всегда находились в запасе «обстоятельства, смягчающие вину». Он не тяготился, когда юные претенденты на поэзию осаждали его просьбами прочесть их первые опыты и сказать о них мнение. Щадя молодое самолюбие, он давал им повод продолжать занятия, от которых, конечно, было бы полезнее отвлекать их; но Тургеневу совестно было решиться на такой совет, частию по деликатности, а частию и по надежде: авось современем и выйдет что либо путное из первых шагов юношей на Парнас. Надежды, большею частью, не сбывались, за что и доставалось ментору от В. П. Боткина, не терпевшего разочарования в искусстве, какое бы оно ни было – эстетическое или кулинарное. Примерок тому не мало. Тургенев увлекся рассказами одного из московских студентов медицинского факультета, Л – ва, и начал чрез меру восхвалять их. – «Посмотрим, мой милый, – сказал с недоверчивостью Боткин: – познакомь меня с лучшими местами расказов твоего protеgе». Тургенев начал читать, но чем больше читал, тем больше Василий Петрович хмурился и, наконец, напустился на своего приятеля: «Так это-то, по твоему мнению, многообещающий талант? Это-то ты называешь перлами поэзии? Это, мой милый, не перлы, а ерунда, дичь» и т. д. Однажды я и П. В. Анненков застали у Ивана Сергеевича благообразного офицера, с тетрадью в руках., По уходе его, И. С. обратился к нам с такими словами: «Знаете ли, кто это был у меня? Это такой талант, которому Лермонтов не достоин будет развязать ремень обуви». Заметив наше сомнение, он промолвил: «Ну, вот увидите сами». К сожалению, мы этого не увидели: хотя молодой офицер и оказался действительно талантливым, но все же не заткнул Лермонтова за пояс.
Образованием Тургенев несомненно превышал всех своих сверстников-литераторов. Окончив курс в Петербургском университете, он за границей слушал лекции немецких профессоров из школы Шеллинга и Гегеля. Литературы французская и немецкая были капитально ему знакомы. С даром творчества соединялся у него и талант критический, что доказывается суждениями о важнейших поэтических творениях. Мнения иего были очень оригинальны, соединяя серьезность немецкой эстетики с ясностью изложения французских критиков.
По доброте своей, Тургенев оказывал помощь своим товарищам по ремеслу, т. е. ссужал их деньгами во дни безденежья. Однажды я застал его за письменным столом с реестром в руках. Нa вопрос мой: «Чем вы занимаетесь?» – он отвечал: – «Да вот свожу итог деньгам, взятым у меня взаймы такими-то и такими лицами». – «Сумма не малая», – заметил я. – «Конечно, так; но знаете ли что? я нисколько не раскаяваюс с ссудах: я уверен, что каждому лицу, означенному в реестре, ссуда принесет пользу, поправит его временную нужду. За одного только должника не ручаюсь; боюсь, что помощь не пойдет ему в прок»… и он указал мне на означенном реестре: А. А. Г – ву (столько-то).
Симпатична и трогательна была привязанность Тургенева к детям. Случалось нередко, что он, приехав на вечер и приняв участие в общей беседе, оставлял ее и подсаживался в другой комнате к какому нибудь мальчугану или девочке на разговор. Ему интересно было подмечать в них проявление смысла, зародыш какого нибудь дарования. В таком случае он сообщал родителям свои замечания и советовал им обратить на них внимание. Известно, что для детей он и переводил, и сочинял сказки.
Прислуга также любила своего барина. Рассказывали (за верность слуха не ручаюсь), что он и брат его были одолжены ей получением материнского наследства. Мать, почему-то не любившая сыновей своих, хотела передать все имущество своей воспитаннице (Л – ой), побочной дочери одного из московских неважных докторов. Заболев серьезно, она посылала за нотариусом, но посылаемые не исполняли приказаний барыни и дали знать Ивану Сергеевичу, не бывшему тогда в Москве, о серьезной болезни своей госпожи и приглашали его поспешить приездом. Тургенев явился, когда духовной, по агонии больной, уже невозможно было совершить. Так или иначе, но Тургенев из нуждавшагося литератора стал богатым. Это дало ему средство вести жизнь привольную, собирать знакомых москвичей и угощать их обедами. Так как прежний повар не делал чести своему искусству, то он просил одного из своих петербургских купить ему другого, хорошего повара. Слово «купить» вызвало бы теперь смех или раздражение, но тогда оно, как обычное выражение, не удивляло даже самых ревностных противников крепостного права. Дело не в слове, а в чувстве, с которым оно произносится, и в мысли, которая с ним сопрягается. Заключать отсюда о барстве или аристократизме не следует. Тот же самый Тургенев, довольный «купленным» поваром за отлично приготовленный обед, в конце стола позвал его, выпил за его искусство и поднес ему самому бокал шампанского. Может статься, это было уже слишком, через край, но было именно так. Обвинявшие автора «Записок охотника» в барстве должны были помнить, что этим сочинением он оказал не малую услугу образу мыслей относительно крепостного права.
На обеды к Тургеневу приглашались московские профессора и литераторы, принадлежавшие к так называемой европейской партии (Грановский, Кудрявцев, Забелин, Боткин, Кетчер, Феоктистов и др.), хотя он был в дружеских сношениях с некоторыми членами славянофильского кружка, особенно с С. Т. Аксаковым. Из артистов почти постоянно являлись Щепкин, Садовский и Шумский и какой-то немец, может быть, подлинник Лемма (в «Дворянском гнезде»), мастерски игравший на фортепьяно. Иногда после обеда устроивался небольшой хор, под управлением Шумского, и гости, обладавшие голосом, исполняли тот или другой хор из какой нибудь оперы, преимущественно из «Аскольдовой могилы». А иногда Садовский морил со смеха вымышленными рассказами, которые мне нравились больше рассказов Горбунова: в них ярче, интереснее выступал комизм, потому что соединялся с некоторым лицедейством… Одним словом, все было светло, радостно, дружелюбно, хотя по временам и не обходилось без споров, на которые москвичи были очень падки (не знаю, как теперь). При одном воспоминании об этом, уже давно минувшем времени, я чувствую себя лучше, веселее, самодовольнее.
По выходе в свет «Записок охотника» известность Тургенева возростала все больше и больше. Ряд таких произведений, как «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», «Дым», возвели их производителя на первое место и возбудили глубокую к нему симпатию. Иначе и не могло быть, потому что, Тургенев принадлежал к разряду талантов субъективных, то есть состоял в родстве с созданными им героями, представителями тогдашнего образа мыслей, страдал их недугами, был в числе людей слабовольных, не действующих, а размышляющих, заеденных, по его собственному выражению, рефлексией и анализом. С каким интересом читалось и перечитывалось «Дворянское гнездо!» Сколько чувств было возбуждено им, сколько слез оно стоило читателям и преимущественно читательницам! Некоторые места его так сильно действовали на чувства, что приходилось иногда на некоторое время прерывать чтение[13 - Подобное действие, хотя и не в такой мере, производила повесть г. Григоровича: «Антон-горемыка».]. Справедливость высказанного обнаружилась блистательно на публичных чтениях, устроенных в пользу общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Первое чтение состоялось 10-го января 1861 г. в зале Пассажа. Тургенев выбрал из своих сочинений этюд, или, пожалуй, характеристику: «Дон-Кихот и Гамлет». Надобно было присутствовать, чтобы понять впечатление, произведенное его выходом. Он долго не мог начать чтение, встреченный шумными, громкими рукоплесканиями, и даже несколько смутился от такого приема, доказавшего, что он был в то время наш излюбленный беллетрист. Особенное чувство выказывали те посетители, которые, будучи очень хорошо знакомы с его сочинениями, впервые лицем к лицу увидали сочинителя. Короче, львиная часть оваций досталась на долю Typгеневу, и вполне справедливо.
Независимо от главного направления своего поэтического таланта, Тургенев обладал и значительною способностью к сатире. Этот в сущности кроткий голубь мог в случае надобности и язвить, как змея. Отрицательное отношение к текущей действительности выразилось всего явственнее в романе «Дым», речами Потугина. Здесь, как говорится, досталось и нашим, и вашим – и западникам, и славянофилам, почему он и не был в авантаже ни у тех, ни у других. Потугин осмеял наших борзых прогрессистов, из которых двое даже поименованы (Шелгунов и Щапов), а третий выведен под вымышленной фамилией Воротилина – того самого (как ходили слухи), в котором автор предсказывал поэта свыше Лермонтова. В Губареве, представителе наших прогрессистов, думали видеть Огарева, но едва ли справедливо: между ними нет никакого сходства, кроме разве того, что их фамилии образуют богатую рифму. Со стороны читателей, видевших в Потугине отсутствие патриотизма, явилась даже следующая эпиграмма на роман:
И дым отечества нам сладок и приятен! –
Нам век минувший говорит.
Век нынешний и в солнце ищет пятен,
И смрадным «Дымом» он отечество коптит».
Сочинение этой эпиграммы приписывали князю П. А. Вяземскому.
Прибавлю, что еще до появления романа в печати автор читал из него некоторые места в пользу литературного фонда. Чтение происходило в Петербурге, в доме бывшем Бенардаки (на Невском проспекте), и привлекло многочисленную публику. Посетители, даже из числа самых серьезных, не могли удержаться от смеха при характеристике русских людей, живших за границей.
Другой образчик сатиры, доведенный до сарказма или пасквиля, Тургенев адресовал к одному из лиц, известных и в службе, и в литературе. Вот первые строки этого злостного послания:
Друг мыслей возвышенных,