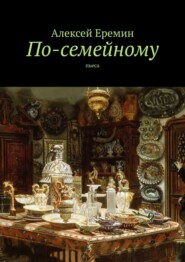По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путешествие из Москвы в Санкт-Петербург
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Говорили долго, но общая беседа, как наносные породы, растворилась, а остались, как несущий гранит земной мантии, только рассказы старухи.
Старуха говорила, что приходили жених и невеста к ней, – как голубки, сердце не нарадуца глядючи. Видно как не налюбуются, прям ангелы небесные. А старшу-то жалко как. Сгубила она себя. Мать то егойная, теща-то, халда, халда и есть. А сам он, сам-то как боров и глядит тако, срам один. Эх, сгубила она себя, внученька моя. Говорила ей, не ровня он тебе. А что свадьбу-то послезавтраво с утра прямо? Я то как ревела, када замуж выходила. Хоть и к любому, а из деревни родной то уезжать в дом чужой! Тут-то отец с матерью полюбят-приголубят. А пожили мы всего ничего, и война началась. А я брюхата и у меня Гришка малой. А щастлива я, что вернулся муж домой. Вот как. А сколько поубивали, Боже ж мой. Село пусто стояло без мужиков, бабы, да детишки, да старики. А как могли-то, весь день-ночь работай, когда спали-то, не знаю. А конопляник свой, праздник не праздник – работашь. Усады не возделашь – не проживешь. Тыквой одну усаду садила. Так тыква почитай до новой лежала, ей много спасались. А так на фронт все шло, и хлеба, и картошку, все выбирали дочиста. Хлеба не было, по трудодням-то крохи давали. Корова была – продали хлеба купить. Коза выручала, да кура-мать. Картошку прошлогодню скопашь, с крапивой сваришь, весной и ешь. Гришку пошлю, он кисленки наберет с ребятами, я просушу, смолочу и с мукой лепешку спеку. Гришка с голоду опух, живот надулся, ходит как беремянной. И смех и горе. А работала с утра до ночи, коли спала не пойму. Скресенье, не скресенье – работашь. В Октябрьску, на Пасху, на Петров день и на Перво мая не работали, а то и не отдыхали, как погода. А лошадей то забрали, и мы с бабами да с председателем пахали заместо скотины. Мать заболела, как на отца похоронка пришла, так слегла. Я к ней на пол дня спросилась, а то как же. Сперва подвез один, после с животом сама шла. Сестра моя старша мать к себе прибрала, тем и выжили. А сын у неё Ленька большой такой был бутуз, красивый. Как корешки есть стали, объелся с голодухи с ребятками в лесу да помер. Ох, горюшко-горе. А сын мой второй Васятка, вот как вас прямо зовут, помер в войну. А чем прокормлю то его, сама тоща. Гробик председатель сколотил мне, а он лехонький, я взяла его и понесла на кладбище. Вьюга! Со мой бабы да сын Гришка. Горе-горе. А ишшо почтальон идет по дороге, али на молотилку али на мельницы, ишет кого – похоронка знать, и молилася, Боженька, только не мне, кому хошь, а не мне, – и стыдно так на других-то, а все молишь все одно, так вот отца и отмолила. Хромой, но живой вернулся – а больше ничего и не нать. А папка пропал наш, где-то под Ленинградом, под Петербургом по-нонешнему. А папка ох добрый был и придумщик. Как каку поделку сделат, одарит. Замуж выходила – сережки повесил мне. А как ходили мы с ним по грибы. Он да брат его старшой, дядя Степан, не зна как, а вот сушь стоит, к примеру, а они корзину грибов завсегда принесут. А лес чистый был, грибов ягод полно. Лес берегли, не мусорили тама. А по полю идешь так по тропиночке, трава скотине то. А под деревней родник у нас был, там деревом обделано, ладно-красиво, черпачок берестовый завсегда. Щас то народ ругастый какой, смотришь, и понесла мат-перемат. У нас на деревне слово плохого никто не скажет. Не курил никто. А кто и не пил совсем, вот дядя Степан, да дед мой, ни капельки. Муж мой, так он до свадьбы, почитай до двадцати годов и не пивал ни разу. А батя по праздникам тока, да и не пили стока, выпьют чутка и веселятся под гармошку, песни поют, частушки, пляшут. Все своё было, еда своя, одёжа своя. Кажда минута занята. Отец баловал, а и работал. С семи годов ужо больша, ужо с матерью жать ходила. А грибы, ягоды, травы каки – так завсегда на детях. В вечор сидишь на завалинке, у отца на коленках, соту медову посасывашь, кто по улице идет, завсегда здороватца, и мы им в ответ. Лучшей всего у отца на коленках сидеть. А то дядя Степан придет, гостиниц какой принесёт, да хоть яблочко, а завсегда. Дядя Степан вообще работящий был, я так его не помню, какое-то пятно большое перед глазами, а батя говорил первый работник на деревне, а сослали его за то, что мельница была, раз мельница значит кулак, а какой кулак, когда все своим потом, с отцом да братьями состроил? Погнали их с деревни, всю семью, семь человеков, и сгинули все. В чисто поле зимой вывезли цельный поезд таких как он, говорят стройся, все и сгинули от работы да голода. Одна Прасковья осталась, приезжала к нам и все рассказывала, а мы все сидели и плакали, и дед плакал, и отец с братьями, прямо при нас при детях, я крепко запомнила – любили его все очень. А Прасковья побыла да съехала, чужа кака-то приехала, и мы все ей чужи, хоть и звали её, а не осталась, так и сгинула. А може жива. Дай Бог. А Гришка в войну заболел как плохо. Доктор приехал, а что сделат-то? Я и ходила за ним, и корову тогда продала, – Васятку только похоронила, батя помер, мать хворат. Как жить думаю. Отвары какие-то давала, мази, как корову продала, кормить сильно стала, поила, тем и спасла. А как вырос после войны в кузню пошёл, все смотрела – сам маленький, а руки толсты, ноги толсты, грудь вперед, и вспомянула, неужто со щепочки малой сделался таков. За одно Боженьку не устану благодарить, что муж мой вернулся с войны с немцем проклятым. Доченьки мои родилися, одна, вторая, а я мальчишку хотела, вроде как заместо Васятки, так загадала, что ли. Реву, сестра говорит, дура ты дура, девки рожаются, войны не будет, радуйся, а я смеюся и плачу, все вспоминаю, как гробик несу, к себе прижимаю, а он легонький.
Кладбище
На обочине шоссе вышел из искусственной прохлады салона в жару, пыльную, пропитанную парами дизеля, искореженную грохотом колонны самосвалов. Закинул за плечо сумку с рассадой цветов и водой, через арку красного кирпича вошел под сень тополей.
Вспомнилось, как был здесь последний раз зимой. Прошел арку и остановился, предчувствуя чудо. И восхищение чудом пришло. Высокие деревья в снегу с черными колесами вороньих гнезд на ветвях. Деревянные кресты, каменные фигуры, плиты, вороные ограды в пышном снегу. Пушистый, в редких следах длинный прямой путь среди могил. Каркал ворон. О, какая величественная красота! Час я бродил среди заснеженных деревьев, на продутом ветром поле и редких, возвышенных людей. И не было никаких глубоких размышлений о смерти, воспоминаний о боли, мыслей о неизбежном. Только любование красотой. А смерть только придавала подлинность этой красоте.
Шум автомашин затоптали подошвы в тихую дорогу плит, затерла листва. Воздух горько пах тополем. Справа и слева, в густой тени, с ослепительными всплесками солнца, каменные плиты с фотографиями, яркие высокие цветы, редкие фигуры сутулых статуй, деревянные и металлические кресты, трава в рост человека заброшенных погребений. В тени движутся моим шагом, внимательно разглядывают солнечные пятна, как живые глаза.
Я заблудился, ходил среди чужих могил и чувствовал, как печаль кладбища вбирает меня. Шел под палящим солнцем открытого поля тысяч могил и по сырым земляным дорожкам в тени деревьев. Вскрикивали сороки, хрустели крылья. Стучала лопата о землю. Пахло то хвоей, то липой, то травами на солнцепеке.
И я сильно жил, ощущая единение моей тоски и спокойной красоты кладбища.
Усталый, спокойный я пришел к их ухоженной могилке. На каменной плите, как в моей душе, рядом, выбиты в камне их лица. Перед плитой цветочный ковер, заботливо посаженный отцом.
Протер влажной тряпкой лица. Источившиеся от времени, они растворились в граните и постепенно пятнами проступили ярче и сильнее.
Я сажал свои цветы. Поливал. Сидел, смотрел в их светлые на черном камне лица. Зачем-то рассказывал им о правнуках. Плакал. Смеялся, как баба ругала меня за вырванный горох, а после жалела. Как втроем обирали куст смородины, и они переругивались от тесноты.
Вглядывался в их лица. Ничего не понимал про жизнь. Только вспоминал, как они звали меня маленького всегда по имени, Васенька. А больше никто и никогда. Теперь уже навсегда никогда.
Хотелось пить, я отпил из бутылки самодельного тёмного кваса, приготовленного женой отца.
Сидел на скамье у бани, завернутый в простыню. Пил из бокала, как говорила бабушка про кружку, холодный кислый квас, иголки бревен покалывали спину, но было легче терпеть, чем пошевелиться расслабленным телом. Лениво отвечал невидимому деду, который что-то мастерил на верстаке под навесом за баней, как учусь в университете. Он снова спрашивал, трудно ли мне, хорошие ли преподаватели, какой предмет больше прочего нравится. Я отвечал, пил холодный белый кислый квас, думал о бабушке, которая сейчас печет блины, расставляет на столе ватрушку размером с пирог на деревянном подносе, глубокую тарелку с белым гусиным пером, затопленным янтарным подсолнечным маслом с крохотными шариками пузырьков воздуха, стеклянную вазочку с зеленым липовым медом. Вспомнилось, как приехал, и бабушка прижалась ко мне, плакала и долго-долго не отпускала. А потом говорили, как вырос, каков молодец, вспоминали, как покусали меня пчелы, поднялась температура и меня возили к доктору… Последний глоток (с сожалением, в кружке нет, а идти надо в дом и тяжело и жарко и хочется отдыхать телом, прислонившись к покалывающим спину бревнам) кислого кваса, которого мне уже никогда не пить, от того, что как бабушка умела, так никто не сделает. Вспомнилось, как в тот приезд я больно ощутил, как они любят меня, но сильнее, искреннее, того мальчика, который приезжал к ним, а я для них любимый, но все же чужой, взрослый парень, и они, любимые мной, уже не те, прежние, кем были, и та любовь, она ушла навсегда и никогда в жизни мы не будем близки как тогда, в прошлом, в те летние месяцы детства. Обида на них, на время, мешала мне радоваться искренне той последней встрече. А через несколько лет один за другим дедушка и бабушка умерли, и это знание, что любят они не меня, а меня в детстве, знание, что при новой встрече, мы никогда не были бы столь родными, какими были в нашем прошлом, помогли пережить их уход. Но сейчас, не только детская любовь, но и та встреча, когда мы признавая и не узнавая друг друга, все же стремились вернуть то прошлое счастье, и даже то чувство разочарования, от того, что мы отчуждены временем, сейчас все соединилось в драгоценную память, как пыльца с горьких и сладких цветов претворена в удивительный мёд.
Слушал в машине их песни моего детства и проживал счастье боли от того, что они были, что умерли, но со мной.
Почувствовал, что я не рабочая машина, не воспитатель, не похотливое животное, а еще и нечто сверх, что может ещё страдать о давно умерших и принять светлым даром боль, может жить в неразумной, больной, но возвышенной тоске.
Я шел от машины и знал, что лучше прожить этот день не мог. Ни с детьми, ни с женой, ни с родителями или друзьями.
Только с ними.
Только так.
Свадьба
Рано утром мы сели в пахнущую бензином старенькую «Ниву», за руль жена отца (сводный брат возил молодых). Мы припарковались в колонне машин вдоль забора, прошли к распахнутым голубым воротам, где толпились люди. Отец представлял меня, я пожимал руки, мы постояли, послушали разговоры и вернулись в машину. В колонне автомобилей мы ехали по главной улице, вдруг одна машина начинала сигналить, и словно маленькие дети, когда закричит один, крик подхватывает другой, третий – так вся колонна разрывалась криками гудков, как детсадовская группа, медленно успокаиваясь, с резкими всхлипами, наступала тишина, и снова шумели на село.
Свернули на узенькую улочку, долго переваливались на ухабах, остановились у красного кирпичного дома в три этажа с белыми окнами. Раскаленным металлом белеет на солнце покатая крыша крыльца из рифленого железа, словно полукруглые русла ручьев, разделенные дамбами. По карнизу крыши крыльца трепещут на ветру искусственные цветы, воздушные шары, а один розовый шар на длинной нити с каждым порывом салютует в небо. На красной скучной стене украшенное крыльцо как ослепительный свет фар из темноты, как в скудный день звонок любимого человека.
Мы с отцом двигались в хвосте очереди по лабиринту дома. Где-то впереди бодрый девичий голос, как рыбак за удочку с легкой издевкой ловил жениха «женишок, а которого числа вы познакомились, помнишь?», «а в чем она была одета?», «а какие ей любимые цветы?» Неразборчивые мужские голоса что-то отвечали, гремел хохот, аплодисменты, а девичий голос, поймав на вопрос, ликовал «ошибочка вышла у вас здеся, женишок, просим свидетеля монеткой откупиться». Отец иногда представлял меня то одному, то другому человеку, я пожимал руки, и мы семенили дальше, до гостиной, где выглядывали на цыпочках из-за голов алое лицо невесты в темно-русых завитках волос. После медленно выходили, стояли во дворе перед крыльцом, мужчины курили, ждали, когда отъедут жених с невестой. Опять рассаживались по машинам и долго молча ехали, слушая, как перекрикиваются автомобили свадебного кортежа. Выйдя у двухэтажного здания с российским флагом, долго стояли толпой продавцов букетов в тени высоких елей. Поднимались по лестнице, рассаживались на стульях в зале, следили, как под музыку входили молодые, как в тишине, щелкавшей фотоаппаратами, отвечали «да.» Жена отца рядом со мной всхлипывала в платок. Отстояв в цветастой очереди, мы подарили молодым букеты. Жених и невеста улыбались, слушали поздравления, кивали и передавали стоявшим сзади родителям цветы, завалившие столы за ними.
Снова садились и недолго ехали, оглашая округу непрерывным гудением. Вылезали из автомобилей, хлопали жениху, который перенёс на руках невесту по мосту, смотрели, как молодожёны крепят к пруту ограды замок со своими именами. Вновь садились и вновь ехали и говорили, что с молодёжью на Горку ехать не стоит. Выходили на площади у посеребрённого десятиметрового солдата в плащ-палатке, с каской в согнутой правой руке, с опущенным к сапогу автоматом в левой, склонившего голову вниз, к горящему пламени в пятиконечной бетонной звезде. Молодые в тишине, так что было слышно гудение на ветру пламени, поднесли к вечному огню цветы, поклонились.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: