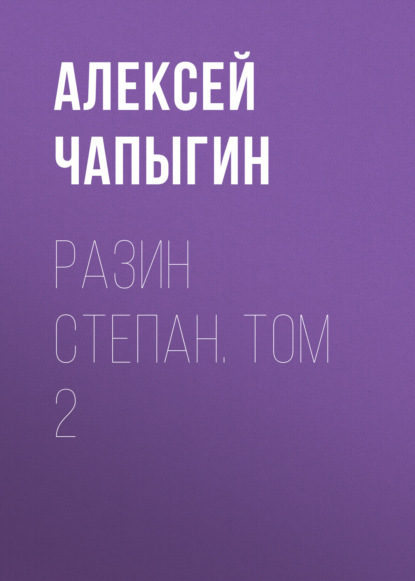По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разин Степан. Том 2
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Схожу, мама. А ты, родненька, не горюй! И пошто, пошто я раньше того не знал?! Отец!
Василий быстро поймал на лавке шляпу, подтянул кушаком распахнутый кафтан, а выйдя в сени, пошарил чего-то недолго.
Ириньица, медленно приподнимаясь, села на постели, провела руками по лицу и сперва тихо, потом быстрее несколько раз тряхнула головой, как бы себя убеждая, сказала:
– Ой, баба лежебока! В путь пора, а ты окисла в дреме?
Стала подыматься на ноги, ее пошатнуло, но с упрямством в лице она удержалась за кромку тяжелого стола:
– Буде, крепись. Дела много: обрядиться, подрумяниться, брови подвести… Ой, нерадивая!
Держась за стену, она подошла к шкапу, открыла и сквозь него прошла в прируб.
В подвале было ведомо время по часам – они висели на стене; гири их старательно по утрам подымал Василий. Но сегодня он куда-то заторопился, забыл, и часы стояли. Ириньица не видела часов, перебирала свои сарафаны. Оделась в белый атласный сарафан с лямками, низанными жемчугом, шитый золотыми узорами. Переменила шелковую рубаху на белую тонкого полотна, достала кику полегче, без очелья, надела. Одеваясь, шептала:
– По дружке Степанушке… в белом… не черном… ух, дай Бог силы!
С трудом выбралась в сени, нашла яндову с вином, через край яндовы выпила вина, закашлялась и, отдышавшись, поела белого хлеба:
– В путь-дорогу! В путь-дорогу, баба! Силы паси… кормись.
Вернувшись из сеней, стала прибирать горницу. Из коника вытащила скатерть малиновую бархатную, покрыла дубовую доску стола. В другом трехсвечнике установила и зажгла свечи. Поправила у образов лампадки и тоже зажгла. Покрестилась, но в землю боялась кланяться – не встать с полу.
В сенях застучали смелые шаги, вошел сын, поставил на лавку мешок:
– Вот на, мама! Принес!
– Ты? Сам ты?
– А кого еще искать в подмогу?
– Ой, сынок, сынок! Голубь – страшно… и тебя с моих глаз, боюсь, утянут окаянные…
Ириньица шепотом спросила, подходя, шатаясь на ногах, к лавке:
– Та ли головушка, голубь?
– Та, мама!.. Она… Чего не веришь?
– Я так, голубь! Я так… сказать…
Мать, раньше чем вынуть из мешка голову, обняла сына:
– Родненькой! Васильюшко! Дай поцолую тебя, соколик мой, и благословлю… Прости грешную…
– В чем прощать-то?.. Да благословлять пошто? Дай-ка выну я голову, снесу – тяжелая…
– Нет, сама! Сама, сама я, а ты поди, сынок, да приведи гостя, старца нашего…
– Он сказал: «Сам прибреду». Чуть не поволок его купец Редькин с приказчиками, что у лари у моста.
– Нет, родной! Сыщи – видишь, чуть не уволокли куда… С батюшкой твоим был – сыщи его. А я, може, отдохну… сосну мало…
– Опочинь да здрава будь! А ладно, мама, что опять пошла, как тогда, когда Лазунка был… Одно что-то мне нерадошно…
– Что ж нерадошно, отчего, дитятко?
– Так… я не знаю… Гляжу вот: нарядилась, как на свадьбу, а глаза…
– Что глаза мои, Васильюшко?
– Да все едино как плачут…
– Ой ты, ей! Голубок-голубой… Ой ты, – дай Бог тебе на путь доброй и силу возрастить… и крепким…
Ириньица еще раз обняла сына; сын в ответ на ее ласки тоже обнял мать торопливо. Уходя, ударил о полу кафтана шляпой:
– Эх, не хотелось бы уходить от тебя! Ну, я скоро, мама…
– Подь, голубь, с богом… Хоть ты и ненадолычко, а старца сыщи… Тут он, близ где-то…
– Сказал: «Прибреду». Темнеет, придет ужо?.. Ну, подтить, так иду!
В желтом свете свечей Ириньица стояла у лавки над мешком, высокая, вся плоская. Желтели клочья волос поседевшие из-под узорчатой красной кики. Тронула мешок исхудалой рукой и отдернула пальцы, отступила:
– Нет, не то! Нет, не то… иное… иное надо… надо.
Она подошла к сундуку за печкой, открыла углубление в потайную горницу. Негасимая у образа лампада тускло горела в подземелье. Ириньица, шатаясь, но уверенно подошла к портрету старика, пошарила рукой справа у рамы, нажала пружину. Портрет боком двинулся на хозяйку. В открытом шкапу в стене тускло светилась драгоценная посуда, золотая и серебряная, с камнями, в узорах. Ириньица, стиснув зубы, из последних сил напрягаясь, стащила с полки широкое серебряное блюдо с алмазами на верхней кромке. Блюдо ударило ее по ногам. Она села на пол и, боясь сидеть, скоро встала. Не закрывая потайного углубления в стене, так же выбралась, волоча за собой блюдо, и заперла вход.
Подошла, поставила, отодвинув трехсвечники, блюдо на стол. Отдышалась, тогда пришла к мешку, подсунула под него руки и перенесла к столу бережно. А когда сгибалась поставить мешок на пол, как помешанная от нахлынувших обрывков воспоминаний короткого счастья и горя, – запела колыбельную песню. Голос слабел, срывался, иногда шептал, но она пела и пела:
Старые старушки, укачивайте,
Красные девицы, убаюкивайте,
Спи с Христом!
Спи до утра – будет пора —
Разбудим… ворогов вон со двора…
Нагнулась, раскинув полотнища мешка, вынула окровавленную голову с синими губами и закрытыми глазами. Губы распухли, кровь почернела, облепила усы и бороду. Голова была гладко выстрижена, с левой стороны шла глубокая кровоточащая борозда. Ириньица поставила голову срезом шеи на блюдо, пела так же, или казалось, что пела, шептала:
Сон ходит по лавке,
Смертка – по избе…
Сон говорит – я дремать хочу…
Смерть взговорила – косу точу!
Опустилась на колени перед столом и навзрыд заплакала:
– Голубь-голубой, мой Степанушко! Вот, вот и свиделись… А сказал соколик: «Не видаться!» Да что ты, баба, наладилась в путь, а воешь. Нечего уж тут… лежебока! Берись за работу… Понесу, сокол, твою головушку по Москве, а упрячу, окручу ее в камкосиную скатерть. Несу любимое, родное… Не дам его никому – судите заедино с ним… Закопайте меня в лютую яму. Ой, берись! Буде… слезы… буде!