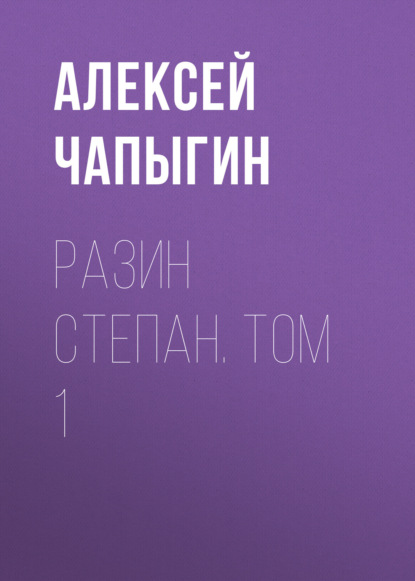По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Разин Степан. Том 1
Автор
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Твой, Ириньица, – с тобой я твой!
– Снеси меня на постелю.
– Сиди!
– Снеси, – говорю! Или сорву с себя платье, нагая побегу по Москве и буду кричать: «Я та, которую он взял от червей могильных, я та, и он тот, кого я люблю больше света-солнышка!..» Степа, снеси…
– Не вяжись, Ириньица! Дед говорит, я хочу знать…
– Она помеха и буйна. Сполни, не отстанет…
Казак встал, поднял женщину, разомлевшую от водки и меда, снес, положил на кровать.
– Ляжь – побью!
– Бей! Люблю… бей, а побьешь – сзади побегу, битой любимым еще слаще любить.
– Усни – приду скоро!
Ушел, а женщина примолкла и, видимо, спала.
И странно, когда гость прошелся по горенке, у него стало от хмеля мутиться в голове, ясные глаза налились кровью, а большая рука легла на рукоять тяжелой сабли. Перед ним кривлялся маленький седой горбун, на нем позвякивало железо. Казак забыл, что еще так недавно слушал горбуна, который сидел и говорил ему неслыханное; он топнул тяжелым сапогом и повелительно крикнул:
– Пляши, сатана!
Юродивый завертелся по горнице, горб его, подбрасывая крест, ходил ходуном, моталась седая борода, каким-то ржавым голосом старик напевал:
Жили-были два братана,
Полтора худых кафтана,
Голова на плахе,
Кровь на рубахе.
Мясо с плеч
Стали сечь.
Ой, щипцы да клещи,
Волоса да кожа,—
Неугожа в крови
Покосилась рожа!
Зри-ка, жилы тащат.
Чуешь? – кости трещат.
И тихо-тихо продолжал:
Две сулицы…
Три сафьянных рукавицы…
Дьяк да приказной,
Перстень алмазной…
Чет ударов палача —
Бьют сплеча!
Сруб-от в мясе человечьем,
Тулово с увечьем…
Кости, кости,—
Ворон летит в гости,
Кровью политый воз,
Под пятами навоз,
Идут в кровь, как в воду,—
Честь сия от бояр народу!
Аминь…
– Дьявол! Худо пляшешь!.. – Гость было сбросил саблю на скамью, выдернул ее из ножен, и тяжелые сапоги с подковами лихо застучали по горнице. Он свистел, припевая:
Гей, Настасья,
Эй, Настасья,
Отворяй-ка ворота!
Распахни и со крыльца
Принимай-ка молодца.
У тебя ль, моя Настасья,
У тебя ли пир горой,
Воевода под горой.
До полуночной поры,
Гей, точите топоры!..
Воеводу примем в гости,
Воронью оставим кости…
Ай, Настасья!
Гей, Настасья!..
Вторя свисту казака, сабля посвистывала, описывая круги. Старик испугался блеска сабли и разбойных посвистов, залез под стол. Казак, сделав круг по горнице, приплясывая, вернулся к столу. Неожиданно тяжелая рука с саблей опустилась на стол. Дубовый стол, разрубленный вдоль, зашатался и крякнул, доска распалась от удара – сабля глубоко врубилась в прочный дубовый столешник. От треска, стука и звона посуды, брызнувшей искрами со стола, проснулась пьяная женщина, приподнялась на постели, спросила:
– Дедко, где звонят?..
Испуганный юродивый, привыкший к шуткам, не мог не пошутить, ответил:
– У Спаса, Ириньица!
По полу валялись огарки сальных свечей и дымили; колеблясь, светили только лампадки у образов.
Притопнув ногой, казак с размаху воткнул саблю в стену, сабля, сверкая, закачалась. Сам он сел на скамью, тер лоб и ерошил кудри. Старик выполз из-под стола, собирал огарки свечей, битую посуду, яндовы[11 - Я н д о в а – большой низкий сосуд.] и чаши. Сдвинув разрубленную доску, расставил посуду; заглянул в кувшин с медом, устоявший и целый:
– Оно еще есть, чем кружить голову и сердце бесить… – и робко сказал гостю: – Я, гостюшко, такие песни не мочен играть…
Гость сидел, свесив голову, рвал с себя одежду, бросал на пол. Старик осторожно, как к хищному зверю, подполз, стащил с гостя тяжелые сапоги, приговаривая:
– Водки, вишь, на радостях глупая жонка добыла с зельем табашным… Бьет та водка в человеке память.
Казак встал тяжелый, глаза потухли, а рот на молодом лице кривился, и зубы скрипели. Старик быстро исчез с дороги. Казак прошел и рухнул на кровать. Юродивый прислушался. Казак, приказывая кому-то во сне, громко засвистал.
– Пала молонья, гром прогрянул…
Старик нашарил дверь из горницы, но скоро вернулся, и его валяные тупоносые уляди[12 - У л я д и – полуваленки с разрезом спереди и со шнурками.] прошамкали в прежний угол: он сел допивать уцелевший мед.
– Снеси меня на постелю.
– Сиди!
– Снеси, – говорю! Или сорву с себя платье, нагая побегу по Москве и буду кричать: «Я та, которую он взял от червей могильных, я та, и он тот, кого я люблю больше света-солнышка!..» Степа, снеси…
– Не вяжись, Ириньица! Дед говорит, я хочу знать…
– Она помеха и буйна. Сполни, не отстанет…
Казак встал, поднял женщину, разомлевшую от водки и меда, снес, положил на кровать.
– Ляжь – побью!
– Бей! Люблю… бей, а побьешь – сзади побегу, битой любимым еще слаще любить.
– Усни – приду скоро!
Ушел, а женщина примолкла и, видимо, спала.
И странно, когда гость прошелся по горенке, у него стало от хмеля мутиться в голове, ясные глаза налились кровью, а большая рука легла на рукоять тяжелой сабли. Перед ним кривлялся маленький седой горбун, на нем позвякивало железо. Казак забыл, что еще так недавно слушал горбуна, который сидел и говорил ему неслыханное; он топнул тяжелым сапогом и повелительно крикнул:
– Пляши, сатана!
Юродивый завертелся по горнице, горб его, подбрасывая крест, ходил ходуном, моталась седая борода, каким-то ржавым голосом старик напевал:
Жили-были два братана,
Полтора худых кафтана,
Голова на плахе,
Кровь на рубахе.
Мясо с плеч
Стали сечь.
Ой, щипцы да клещи,
Волоса да кожа,—
Неугожа в крови
Покосилась рожа!
Зри-ка, жилы тащат.
Чуешь? – кости трещат.
И тихо-тихо продолжал:
Две сулицы…
Три сафьянных рукавицы…
Дьяк да приказной,
Перстень алмазной…
Чет ударов палача —
Бьют сплеча!
Сруб-от в мясе человечьем,
Тулово с увечьем…
Кости, кости,—
Ворон летит в гости,
Кровью политый воз,
Под пятами навоз,
Идут в кровь, как в воду,—
Честь сия от бояр народу!
Аминь…
– Дьявол! Худо пляшешь!.. – Гость было сбросил саблю на скамью, выдернул ее из ножен, и тяжелые сапоги с подковами лихо застучали по горнице. Он свистел, припевая:
Гей, Настасья,
Эй, Настасья,
Отворяй-ка ворота!
Распахни и со крыльца
Принимай-ка молодца.
У тебя ль, моя Настасья,
У тебя ли пир горой,
Воевода под горой.
До полуночной поры,
Гей, точите топоры!..
Воеводу примем в гости,
Воронью оставим кости…
Ай, Настасья!
Гей, Настасья!..
Вторя свисту казака, сабля посвистывала, описывая круги. Старик испугался блеска сабли и разбойных посвистов, залез под стол. Казак, сделав круг по горнице, приплясывая, вернулся к столу. Неожиданно тяжелая рука с саблей опустилась на стол. Дубовый стол, разрубленный вдоль, зашатался и крякнул, доска распалась от удара – сабля глубоко врубилась в прочный дубовый столешник. От треска, стука и звона посуды, брызнувшей искрами со стола, проснулась пьяная женщина, приподнялась на постели, спросила:
– Дедко, где звонят?..
Испуганный юродивый, привыкший к шуткам, не мог не пошутить, ответил:
– У Спаса, Ириньица!
По полу валялись огарки сальных свечей и дымили; колеблясь, светили только лампадки у образов.
Притопнув ногой, казак с размаху воткнул саблю в стену, сабля, сверкая, закачалась. Сам он сел на скамью, тер лоб и ерошил кудри. Старик выполз из-под стола, собирал огарки свечей, битую посуду, яндовы[11 - Я н д о в а – большой низкий сосуд.] и чаши. Сдвинув разрубленную доску, расставил посуду; заглянул в кувшин с медом, устоявший и целый:
– Оно еще есть, чем кружить голову и сердце бесить… – и робко сказал гостю: – Я, гостюшко, такие песни не мочен играть…
Гость сидел, свесив голову, рвал с себя одежду, бросал на пол. Старик осторожно, как к хищному зверю, подполз, стащил с гостя тяжелые сапоги, приговаривая:
– Водки, вишь, на радостях глупая жонка добыла с зельем табашным… Бьет та водка в человеке память.
Казак встал тяжелый, глаза потухли, а рот на молодом лице кривился, и зубы скрипели. Старик быстро исчез с дороги. Казак прошел и рухнул на кровать. Юродивый прислушался. Казак, приказывая кому-то во сне, громко засвистал.
– Пала молонья, гром прогрянул…
Старик нашарил дверь из горницы, но скоро вернулся, и его валяные тупоносые уляди[12 - У л я д и – полуваленки с разрезом спереди и со шнурками.] прошамкали в прежний угол: он сел допивать уцелевший мед.