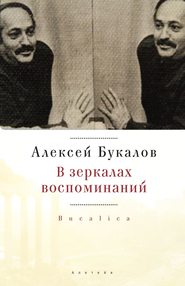По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«Берег дальный». Из зарубежной Пушкинианы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Знакомцы давние, плоды мечты моей,
Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари… (III, 917)
Стремление ассоциировать себя с далекой экзотической родиной предков удивительно емко отразилось в пушкинской формуле Моя Африка.
«Природа Африки моей // Его в день гнева породила» (III, 693) – так записан вариант строфы знаменитого «Анчара». В годы южной ссылки Пушкин думает о своем побеге:
И средь полуденных зыбей
Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России. (III, 26)
С легкой руки Пушкина это дерзкое присвоение стран и континентов – «моя Африка» – стало крылатым. Первым отозвался М.Лермонтов («В горах Шотландии моей…»)[86 - Подобно Пушкину, Лермонтов душой стремился на родину предков:Зачем я не птица, не ворон стенной,Пролетевший сейчас надо мной?..На запад, на запад помчался бы я,Где цветут моих предков поля.]. Спустя столетие В.Набоков надумал
В горах Америки моей
Вздыхать по северной России[87 - Цит. по: журнал «Москва», 1956. № 12. С. 68.]…
А в самом начале ХХ века другой русский поэт завоевал право сказать «Моя Африка». Этим поэтом был Николай Гумилев, совершивший три путешествия в глубь Черного континента, в Эфиопию:
Оглушенная ревом и топотом,
Облаченная в пламень и дымы,
О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы[88 - Гумилев Н.С. Вступление из книги «Шатер». П-г., 1921. Африка действительно породнила поэтов. Есть в Эфиопии обычай – называть детей по имени лучших друзей или знатных гостей. Современный эфиопский поэт Ассэфа Гэбре Мариам назвал своего сына Пушкин. Когда-то такой же чести удостоился и Гумилев: эфиопский крестьянин, принимавший в своем доме русского путешественника, назвал сына Гумало. «Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует…»].
«Моя Африка» – назвал Б. Корнилов свою поэму об африканце Вилане, красном командире, участнике гражданской войны в России.
«Моя Африка» – мог бы сказать знаменитый английский актер и писатель Питер Устинов, один из прадедов которого – эфиоп – «боролся за власть в Аддис-Абебе», а другой – «родился в 1730 году благочестивым саратовским помещиком»[89 - См.: Книжное обозрение. № 40, от 3 октября 1955 г.].
«Моя Африка» – говорил Пушкин, как мы сегодня говорим «Мой Пушкин». Именно так – «Мой Пушкин» – назвали свои книги В. Брюсов и М. Цветаева. Кое-кто иронизировал по сему поводу (нашлись, мол, собственники!). А в этом, наверное, просто очень личное отношение к Пушкину. Просто любовь. И желание отобрать его у того, кто первым произнес «Мой Пушкин» – вспомним слова Николая I после аудиенции в Чудовом дворце Московского Кремля 8 сентября 1826 года: «Ну, теперь не прежний Пушкин, а мой Пушкин!».
«Плен в своем отечестве» (так назвал одну из своих самых проникновенных автобиографических книг мой покойный друг писатель Лев Разгон) стал для Пушкина одной из жизненных трагедий. В советском пушкиноведении эта тема, по понятным причинам, не исследовалась. В опубликованной в Нью-Йорке (а затем и в Москве) книге «Узник России» (1993) Юрий Дружников с горечью констатировал: «Пушкин никогда не был за границей. Ему не дали возможность увидеть Европу, Китай, Африку, Америку, куда он стремился…»
Мечта о побеге в Африку с особой силой пробудилась у поэта в годы южной ссылки, в портовой Одессе.
Несколько раньше в письме к П. Вяземскому Пушкин признавался: «Я жажду краев чужих; авось полуденный воздух оживит – мою душу». Можно спорить, о каких краях мечтает здесь Пушкин, но то, что Африка ярко и зримо нанесена на карту пушкинской фантазии – факт бесспорный. «Байрон говорил, что никогда не возьмется описывать страну, которую не видал бы собственными глазами», – подчеркнул Пушкин (XI, 55).
Воображение поэта устремляется туда, где «темная, знойная ночь объемлет Африканское небо…» (VIII, 422). «Горит ли Африканский день, // Свежеет ли ночная тень…» – сказано в стихах о Клеопатре (отрывок «Мы проводили вечер на даче» – VIII, 420).
Комментируя другие пушкинские строки: «Я вижу берег отдаленный, // Земли полуденной волшебные края», В.Я. Брюсов заметил, что это определение, равно подходящее к Испании, к Индии или к Африке.
Внимание Пушкина к африканской теме – одно из свидетельств его «всемирной отзывчивости» (выражение Ф.М. Достоевского).
Не будем забывать, что в крепостнической России размышления о рабской судьбе африканцев звучали весьма многозначительно. В «Вестнике Европы», например, в 1815 году была опубликована «Песнь негра». Там есть такие строки:
Гром, вестник мщенья, колеблет свод неба:
Бог африканский течет к нам на помощь!
Нет! Мы омоем в крови ненавистной
Стыд свой, мученья и смерть однокровных!
Грозно докажем, что может десница,
Что может сердце Негров свободных[90 - Как нас учили в университетах, Африка в ХIХ веке оставалась, по определению К. Маркса, «заповедным полем охоты на чернокожих».].
Еще раньше, в периодическом издании «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» за 1804 год, был помещен очерк «Негр» за подписью В.В. Попугаева. («Перевод с испанского» – так из цензурных соображений замаскировался автор).
Амру, «невольника, отягченного цепями», работорговцы увозят из Африки:
«”Прощай, любезное светило! – вскрикивает он с сердцем, полным уныния, – ты скоро сокроешься, и, может быть, завтра я тебя не увижу. Свирепейший тигра европеец запрет меня в мрачную темницу, из коей я не прежде выду, как пристав к месту моих страданий…
Европеец, славящийся своим просвещением и человеколюбием, сколь ужасное ты чудовище! Ты предпочитаешь себя неграм, чем ты их превосходишь? – никогда негр не отягчал оковами белого! все зло, кое он ему сделал, есть то, что принял неблагодарного и пекся о нем во всех правилах священного гостеприимства! если же когда и применял оружие, устремляясь на его поражение, то не с намерением привести его в неволю, но дабы защитить собственную безопасность, жизнь и имение от жадного его корыстолюбия и вероломства…
…Негр не может принадлежать белому ни по каким правам. Воля не есть продажная, цена золота всего света не в силах оной заплатить, и никакой тиран ею располагать не должен”. В сию минуту солнце скрылося, и несчастный негр умолк, последовав за матросом, долженствовавшим его, как и других, заключить в мрачную темницу корабля»[91 - Цит. по: Поэты-радищевцы. М., 1935. С. 55–58.].
В 1803 году Андрей Тургенев перевел пьесу А. Коцебу «Негры в неволе», в которой рабы во время работы «поют по простой, трогательной мелодии»:
Мы в горестных слезах
Хлеб рабский омочаем!
К тебе мы, смерть! взываем,
Приди избавить нас[92 - Цит. по сб.: Болдинские чтения. Горький, 1984. С. 145.].
Поэт-радищевец И.П. Пнин в «Опыте о просвещении относительно к России» (1804) сравнивал крепостное право с рабством американских негров: «Горестно, весьма горестно для россиянина, свое отечество любящего, видеть в нем дела, совершающиеся только в отечестве негров…»[93 - Пнин И.П. Сочинения. М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан, 1934. С. 139.]
Новый этап антирасистских настроений в русской просвещенной среде связан с эпохой декабризма. Взгляды декабристов формировались и под влиянием идей американской революции, взглядов борцов за освобождение негров в США. Накануне восстания на Сенатской площади «Сын Отечества» писал: «Предрассудок, ставящий черное африканское поколение, которое так долго осуждено было на тягостное рабство, гораздо ниже белого, столь повсеместно царствует в Америке, что и просвещенные Соединенные Штаты не могли освободиться от оного»[94 - Сын Отечества. 1825. № 20. С. 475–479.].
Об общих истоках рабства американских негров и русских крестьян писал декабрист М.С. Лунин: «Рабство, несовместное с духом времени, поддерживается только невежеством и составляет источник явных противоречий по мере того, как народы успевают на поприще гражданственности. Прискорбный, но полезный пример этой истины представляют Американские Штаты, где рабство утверждено законом. Признав торжественно равенство людей перед законом как основное начало их конституции, они виселицею доказывают противное и приводят оттенки цвета в оправдание злодейств, оскорбляющих человечество»[95 - Лунин М.С. Сочинения и письма. Пг., 1929. С. 49.].
Пушкин, разделявший многие настроения и взгляды декабристов, безусловно, солидаризировался с их антирасистским пафосом. Он не только знал о бесправном, угнетенном положении африканских народов, «моей братии негров», но еще в 1824 году горячо желал им «освобождения от рабства нестерпимого» (XIII, 99). Между прочим, активисты американского негритянского движения в ХХ веке чутко уловили эту сторону пушкинского творчества. В одной из статей о романе говорилось: «В шести кратких главах Арапа Петра Великого Пушкин с нескрываемой симпатией затронул тему одиночества черного человека в обществе белых»[96 - The Negro in World History. Part V. Puskin // The Times-Union Tuesday Magazine. November 1966. P. 19.].
Эта тема тесно переплеталась в творческом сознании поэта с «памятью рода», с идеей о русском «ганнибальстве», представителем и наследником которого поэт не переставал себя ощущать.
Пушкин всю жизнь собирал сведения о прадеде. Он в 1824 году получил семейные документы у своего двоюродного деда «старого арапа» П.А. Ганнибала в его поместье Сафонтьево, в 60 верстах от Михайловского, а десять лет спустя, работая над «Историей Петра», выписывал из разных источников сведения об Абраме Петровиче. Сохранившаяся в библиотеке поэта шеститомная «История Петра Великого» Вениамина Бергмана (выпущенная в 1833–1834 годах в Петербурге в переводе с немецкого) разрезана на некоторых, важных для Пушкина страницах, в том числе посвященных А.П. Ганнибалу (том шестой).
Примерно к этому же времени (лето 1834 года) относится запись в дневнике Пушкина о вечере у Е.А. Карамзиной: «Она едет в Тайцы, принадлежавшие некогда Ганнибалу, моему прадеду» (XII, 330).
Один из анекдотов в Таblе-talк[97 - Эту подборку пушкинских миниатюр обычно датируют 1835–1836 годами. Однако рассматриваемая нами новелла, судя по бумаге, написана в 1831 году. (См.: Левкович Я.Л. Table-talk Пушкина. Русская литература. 1987. № I. С. 73.)] рисует «обычаи Петра» и относится к эпизоду, связанному с детством Ганнибала и его службой у царя: «Однажды маленький арап, сопровождавший Петра I в его прогулке…» (XII, 157). В черновике было сказано конкретнее: «Арап Ганнибал сопровождал Петра I в одном из его путешествий» (XII, 397). Любопытна другая фраза в пушкинском черновике, дающая представление об отношении Петра к своему маленькому крестнику: «Петр сам помог ему освободиться от глисты и при сем случае объяснил ему ученым образом…» (там же). Этот довольно натуралистический эпизод Пушкин вписывает в тетрадь, но не включает в окончательный текст своих «Застольных бесед» (Table-talk).
Пушкин поделился своей информацией о прадеде с историком Д.Н. Бантыш-Каменским, автором биографической заметки «Ганнибал» в «Словаре достопамятных людей Русской земли» (М., 1836). В конце заметки указаны источники: «Из Анекдотов г. Голикова; Дипломатич. собрания дел между Российским и Китайским государствами; Московских ведомостей; Примечаний к первой главе Онегина, и по словесному преданию, переданному мне родным правнуком А.П. Ганнибала, Александром Сергеевичем Пушкиным».
В России всегда нелегко было найти что-нибудь в архивах. Об этом писал М.Е. Салтыков-Щедрин: «Так как архивные дела, по обыкновению, оказались сгоревшими (а может быть и умышленно уничтоженными), то пришлось удовольствоваться изустными рассказами и преданиями».
«Арапов черный рой»
В чалме пунцовой, щегольски одет,
Стоял арап, его служитель верный
М.Ю. Лермонтов. «Сашка»
Высокое положение «царского арапа» при дворе, успешная карьера военного инженера объясняются не только личными качествами Ганнибала, его умом и трудолюбием, но и политикой Петра, широко распахнувшего границы Российского государства для «полезных» людей разной породы и племени. Политикой, вошедшей в историю под формулой Пушкина: «все флаги в гости». Именно этот своеобразный петровский «интернационализм», очевидно, имел в виду Достоевский в своей знаменитой пушкинской речи 1880 года: «Мы не враждебно (как казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полною любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий…»[98 - Достоевский Ф.М. Собр. соч. М., 1958. Т. X. С. 457.]
Пушкин признавался, что его всегда волновала «смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний». Изучая документы петровского времени, он вряд ли мог не обратить внимания на известный официальный портрет Петра Великого работы А. Шхонебека. Царь изображен на нем в голландском кафтане, в чулках и башмаках, в большой круглой шляпе с перьями и загнутыми полями, из-под шляпы падают на плечи длинные локоны парика. В правой руке Петр держит скипетр. Картину дополняет фигура стоящего позади мальчика-арапа.
Портрет этот, сделанный еще до прибытия Ганнибала в Россию (Шхонебек умер в 1704 году), не просто показывает одну из петровских причуд: картина зафиксировала сам факт русского «арапства» на рубеже XVII–XVIII веков.
Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари… (III, 917)
Стремление ассоциировать себя с далекой экзотической родиной предков удивительно емко отразилось в пушкинской формуле Моя Африка.
«Природа Африки моей // Его в день гнева породила» (III, 693) – так записан вариант строфы знаменитого «Анчара». В годы южной ссылки Пушкин думает о своем побеге:
И средь полуденных зыбей
Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России. (III, 26)
С легкой руки Пушкина это дерзкое присвоение стран и континентов – «моя Африка» – стало крылатым. Первым отозвался М.Лермонтов («В горах Шотландии моей…»)[86 - Подобно Пушкину, Лермонтов душой стремился на родину предков:Зачем я не птица, не ворон стенной,Пролетевший сейчас надо мной?..На запад, на запад помчался бы я,Где цветут моих предков поля.]. Спустя столетие В.Набоков надумал
В горах Америки моей
Вздыхать по северной России[87 - Цит. по: журнал «Москва», 1956. № 12. С. 68.]…
А в самом начале ХХ века другой русский поэт завоевал право сказать «Моя Африка». Этим поэтом был Николай Гумилев, совершивший три путешествия в глубь Черного континента, в Эфиопию:
Оглушенная ревом и топотом,
Облаченная в пламень и дымы,
О тебе, моя Африка, шепотом
В небесах говорят серафимы[88 - Гумилев Н.С. Вступление из книги «Шатер». П-г., 1921. Африка действительно породнила поэтов. Есть в Эфиопии обычай – называть детей по имени лучших друзей или знатных гостей. Современный эфиопский поэт Ассэфа Гэбре Мариам назвал своего сына Пушкин. Когда-то такой же чести удостоился и Гумилев: эфиопский крестьянин, принимавший в своем доме русского путешественника, назвал сына Гумало. «Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует…»].
«Моя Африка» – назвал Б. Корнилов свою поэму об африканце Вилане, красном командире, участнике гражданской войны в России.
«Моя Африка» – мог бы сказать знаменитый английский актер и писатель Питер Устинов, один из прадедов которого – эфиоп – «боролся за власть в Аддис-Абебе», а другой – «родился в 1730 году благочестивым саратовским помещиком»[89 - См.: Книжное обозрение. № 40, от 3 октября 1955 г.].
«Моя Африка» – говорил Пушкин, как мы сегодня говорим «Мой Пушкин». Именно так – «Мой Пушкин» – назвали свои книги В. Брюсов и М. Цветаева. Кое-кто иронизировал по сему поводу (нашлись, мол, собственники!). А в этом, наверное, просто очень личное отношение к Пушкину. Просто любовь. И желание отобрать его у того, кто первым произнес «Мой Пушкин» – вспомним слова Николая I после аудиенции в Чудовом дворце Московского Кремля 8 сентября 1826 года: «Ну, теперь не прежний Пушкин, а мой Пушкин!».
«Плен в своем отечестве» (так назвал одну из своих самых проникновенных автобиографических книг мой покойный друг писатель Лев Разгон) стал для Пушкина одной из жизненных трагедий. В советском пушкиноведении эта тема, по понятным причинам, не исследовалась. В опубликованной в Нью-Йорке (а затем и в Москве) книге «Узник России» (1993) Юрий Дружников с горечью констатировал: «Пушкин никогда не был за границей. Ему не дали возможность увидеть Европу, Китай, Африку, Америку, куда он стремился…»
Мечта о побеге в Африку с особой силой пробудилась у поэта в годы южной ссылки, в портовой Одессе.
Несколько раньше в письме к П. Вяземскому Пушкин признавался: «Я жажду краев чужих; авось полуденный воздух оживит – мою душу». Можно спорить, о каких краях мечтает здесь Пушкин, но то, что Африка ярко и зримо нанесена на карту пушкинской фантазии – факт бесспорный. «Байрон говорил, что никогда не возьмется описывать страну, которую не видал бы собственными глазами», – подчеркнул Пушкин (XI, 55).
Воображение поэта устремляется туда, где «темная, знойная ночь объемлет Африканское небо…» (VIII, 422). «Горит ли Африканский день, // Свежеет ли ночная тень…» – сказано в стихах о Клеопатре (отрывок «Мы проводили вечер на даче» – VIII, 420).
Комментируя другие пушкинские строки: «Я вижу берег отдаленный, // Земли полуденной волшебные края», В.Я. Брюсов заметил, что это определение, равно подходящее к Испании, к Индии или к Африке.
Внимание Пушкина к африканской теме – одно из свидетельств его «всемирной отзывчивости» (выражение Ф.М. Достоевского).
Не будем забывать, что в крепостнической России размышления о рабской судьбе африканцев звучали весьма многозначительно. В «Вестнике Европы», например, в 1815 году была опубликована «Песнь негра». Там есть такие строки:
Гром, вестник мщенья, колеблет свод неба:
Бог африканский течет к нам на помощь!
Нет! Мы омоем в крови ненавистной
Стыд свой, мученья и смерть однокровных!
Грозно докажем, что может десница,
Что может сердце Негров свободных[90 - Как нас учили в университетах, Африка в ХIХ веке оставалась, по определению К. Маркса, «заповедным полем охоты на чернокожих».].
Еще раньше, в периодическом издании «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» за 1804 год, был помещен очерк «Негр» за подписью В.В. Попугаева. («Перевод с испанского» – так из цензурных соображений замаскировался автор).
Амру, «невольника, отягченного цепями», работорговцы увозят из Африки:
«”Прощай, любезное светило! – вскрикивает он с сердцем, полным уныния, – ты скоро сокроешься, и, может быть, завтра я тебя не увижу. Свирепейший тигра европеец запрет меня в мрачную темницу, из коей я не прежде выду, как пристав к месту моих страданий…
Европеец, славящийся своим просвещением и человеколюбием, сколь ужасное ты чудовище! Ты предпочитаешь себя неграм, чем ты их превосходишь? – никогда негр не отягчал оковами белого! все зло, кое он ему сделал, есть то, что принял неблагодарного и пекся о нем во всех правилах священного гостеприимства! если же когда и применял оружие, устремляясь на его поражение, то не с намерением привести его в неволю, но дабы защитить собственную безопасность, жизнь и имение от жадного его корыстолюбия и вероломства…
…Негр не может принадлежать белому ни по каким правам. Воля не есть продажная, цена золота всего света не в силах оной заплатить, и никакой тиран ею располагать не должен”. В сию минуту солнце скрылося, и несчастный негр умолк, последовав за матросом, долженствовавшим его, как и других, заключить в мрачную темницу корабля»[91 - Цит. по: Поэты-радищевцы. М., 1935. С. 55–58.].
В 1803 году Андрей Тургенев перевел пьесу А. Коцебу «Негры в неволе», в которой рабы во время работы «поют по простой, трогательной мелодии»:
Мы в горестных слезах
Хлеб рабский омочаем!
К тебе мы, смерть! взываем,
Приди избавить нас[92 - Цит. по сб.: Болдинские чтения. Горький, 1984. С. 145.].
Поэт-радищевец И.П. Пнин в «Опыте о просвещении относительно к России» (1804) сравнивал крепостное право с рабством американских негров: «Горестно, весьма горестно для россиянина, свое отечество любящего, видеть в нем дела, совершающиеся только в отечестве негров…»[93 - Пнин И.П. Сочинения. М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан, 1934. С. 139.]
Новый этап антирасистских настроений в русской просвещенной среде связан с эпохой декабризма. Взгляды декабристов формировались и под влиянием идей американской революции, взглядов борцов за освобождение негров в США. Накануне восстания на Сенатской площади «Сын Отечества» писал: «Предрассудок, ставящий черное африканское поколение, которое так долго осуждено было на тягостное рабство, гораздо ниже белого, столь повсеместно царствует в Америке, что и просвещенные Соединенные Штаты не могли освободиться от оного»[94 - Сын Отечества. 1825. № 20. С. 475–479.].
Об общих истоках рабства американских негров и русских крестьян писал декабрист М.С. Лунин: «Рабство, несовместное с духом времени, поддерживается только невежеством и составляет источник явных противоречий по мере того, как народы успевают на поприще гражданственности. Прискорбный, но полезный пример этой истины представляют Американские Штаты, где рабство утверждено законом. Признав торжественно равенство людей перед законом как основное начало их конституции, они виселицею доказывают противное и приводят оттенки цвета в оправдание злодейств, оскорбляющих человечество»[95 - Лунин М.С. Сочинения и письма. Пг., 1929. С. 49.].
Пушкин, разделявший многие настроения и взгляды декабристов, безусловно, солидаризировался с их антирасистским пафосом. Он не только знал о бесправном, угнетенном положении африканских народов, «моей братии негров», но еще в 1824 году горячо желал им «освобождения от рабства нестерпимого» (XIII, 99). Между прочим, активисты американского негритянского движения в ХХ веке чутко уловили эту сторону пушкинского творчества. В одной из статей о романе говорилось: «В шести кратких главах Арапа Петра Великого Пушкин с нескрываемой симпатией затронул тему одиночества черного человека в обществе белых»[96 - The Negro in World History. Part V. Puskin // The Times-Union Tuesday Magazine. November 1966. P. 19.].
Эта тема тесно переплеталась в творческом сознании поэта с «памятью рода», с идеей о русском «ганнибальстве», представителем и наследником которого поэт не переставал себя ощущать.
Пушкин всю жизнь собирал сведения о прадеде. Он в 1824 году получил семейные документы у своего двоюродного деда «старого арапа» П.А. Ганнибала в его поместье Сафонтьево, в 60 верстах от Михайловского, а десять лет спустя, работая над «Историей Петра», выписывал из разных источников сведения об Абраме Петровиче. Сохранившаяся в библиотеке поэта шеститомная «История Петра Великого» Вениамина Бергмана (выпущенная в 1833–1834 годах в Петербурге в переводе с немецкого) разрезана на некоторых, важных для Пушкина страницах, в том числе посвященных А.П. Ганнибалу (том шестой).
Примерно к этому же времени (лето 1834 года) относится запись в дневнике Пушкина о вечере у Е.А. Карамзиной: «Она едет в Тайцы, принадлежавшие некогда Ганнибалу, моему прадеду» (XII, 330).
Один из анекдотов в Таblе-talк[97 - Эту подборку пушкинских миниатюр обычно датируют 1835–1836 годами. Однако рассматриваемая нами новелла, судя по бумаге, написана в 1831 году. (См.: Левкович Я.Л. Table-talk Пушкина. Русская литература. 1987. № I. С. 73.)] рисует «обычаи Петра» и относится к эпизоду, связанному с детством Ганнибала и его службой у царя: «Однажды маленький арап, сопровождавший Петра I в его прогулке…» (XII, 157). В черновике было сказано конкретнее: «Арап Ганнибал сопровождал Петра I в одном из его путешествий» (XII, 397). Любопытна другая фраза в пушкинском черновике, дающая представление об отношении Петра к своему маленькому крестнику: «Петр сам помог ему освободиться от глисты и при сем случае объяснил ему ученым образом…» (там же). Этот довольно натуралистический эпизод Пушкин вписывает в тетрадь, но не включает в окончательный текст своих «Застольных бесед» (Table-talk).
Пушкин поделился своей информацией о прадеде с историком Д.Н. Бантыш-Каменским, автором биографической заметки «Ганнибал» в «Словаре достопамятных людей Русской земли» (М., 1836). В конце заметки указаны источники: «Из Анекдотов г. Голикова; Дипломатич. собрания дел между Российским и Китайским государствами; Московских ведомостей; Примечаний к первой главе Онегина, и по словесному преданию, переданному мне родным правнуком А.П. Ганнибала, Александром Сергеевичем Пушкиным».
В России всегда нелегко было найти что-нибудь в архивах. Об этом писал М.Е. Салтыков-Щедрин: «Так как архивные дела, по обыкновению, оказались сгоревшими (а может быть и умышленно уничтоженными), то пришлось удовольствоваться изустными рассказами и преданиями».
«Арапов черный рой»
В чалме пунцовой, щегольски одет,
Стоял арап, его служитель верный
М.Ю. Лермонтов. «Сашка»
Высокое положение «царского арапа» при дворе, успешная карьера военного инженера объясняются не только личными качествами Ганнибала, его умом и трудолюбием, но и политикой Петра, широко распахнувшего границы Российского государства для «полезных» людей разной породы и племени. Политикой, вошедшей в историю под формулой Пушкина: «все флаги в гости». Именно этот своеобразный петровский «интернационализм», очевидно, имел в виду Достоевский в своей знаменитой пушкинской речи 1880 года: «Мы не враждебно (как казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полною любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий…»[98 - Достоевский Ф.М. Собр. соч. М., 1958. Т. X. С. 457.]
Пушкин признавался, что его всегда волновала «смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний». Изучая документы петровского времени, он вряд ли мог не обратить внимания на известный официальный портрет Петра Великого работы А. Шхонебека. Царь изображен на нем в голландском кафтане, в чулках и башмаках, в большой круглой шляпе с перьями и загнутыми полями, из-под шляпы падают на плечи длинные локоны парика. В правой руке Петр держит скипетр. Картину дополняет фигура стоящего позади мальчика-арапа.
Портрет этот, сделанный еще до прибытия Ганнибала в Россию (Шхонебек умер в 1704 году), не просто показывает одну из петровских причуд: картина зафиксировала сам факт русского «арапства» на рубеже XVII–XVIII веков.