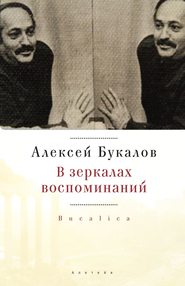По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«Берег дальный». Из зарубежной Пушкинианы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Здесь у Пушкина есть одно слово, которое служит вообще как бы ключом к пониманию его художественно-исторического мышления, подметили исследователи, слово это – предание. Если проанализировать многочисленные случаи употребления этого слова в самых разных пушкинских текстах на протяжении всего его творческого пути, то выяснится, что предание – самая притягательная для Пушкина форма, в которой запечатлевает себя минувшее. Предание (по определениям фольклористики) – это особый вид устно передаваемого повествования, которое, возникнув некогда как рассказ участника или свидетеля действительных событий, при дальнейшем распространении утрачивает «эмпирическую фотографичность», обретая взамен смысл обобщенно-поэтический. В предании как бы осуществляется синтез документальности и поэтического вымысла, «летописности» и «сказочности» – рождается та самая «поэзия истории», которая так привлекала Пушкина[8 - Тархов А.Е. Мир «Капитанской дочки». В кн.: Пушкин. Избранная проза. М., 1978. С. 4.].
Удивительная судьба пушкинского прадеда, известная по «семейственным преданиям», не могла не заинтересовать Пушкина – историка и романиста. «Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа» (VIII, 53) – этой формуле из пушкинского незавершенного «Романа в письмах» (1829 год) как нельзя более соответствовал замысел повествования о Петровской эпохе.
Вот строки о михайловских буднях поэта из «Памятных записок» Н.М.Смирнова, камер-юнкера: «Его дни тянулись однообразно и бесцветно. Встав поутру, погружался он в холодную ванну и брал книги и перо; в минуты грусти перекатывал шары на бильярде или призывал старую няню рассказывать ему про старину, про Ганнибалов, потомков Арапа Петра Великого, из фамилии которых происходила его мать»[9 - А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. 2-е изд. М., 1985. Т. II. С. 273.].
Пушкин, как сообщает его первый биограф П.В. Анненков, говорил друзьям: «Бог даст, мы напишем исторический роман, на который и чужие полюбуются»[10 - Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина. СПб., 1855. С. 199.].
Напрашивался и главный герой – здесь, в псковской деревне, в старинной Ганнибаловой вотчине все дышало памятью о царском арапе.
Летом 1827 года Пушкин одновременно работал и над исторической эпопеей в прозе, и над любимым своим детищем – романом в стихах «Евгений Онегин». Эти произведения тесно связаны между собой, причем не только хронологией их создания, но и многими невидимыми нитями художественного свойства. Перефразируя Анну Ахматову, можно сказать, что над Пушкиным, приступившим к роману о царском арапе, стояла «Онегина» воздушная громада…
«Свет мой, зеркальце, скажи»
Одно зеркало важнее целой галереи предков
Вольфганг Менцель
Почему Пушкин, обратившись к Петровской эпохе, вывел на сцену экзотическую фигуру своего прадеда? Наверное, прежде всего потому, что в отношении к Ганнибалу проявился тот «личный автобиографический, домашний интерес к истории» (по определению Ю.Н. Тынянова), который Пушкин так высоко ценил у Вальтера Скотта.
Первые рассказы о загадочном «абиссинском принце», властной волей царя Петра спасенном из турецкого плена и призванном в Россию, Пушкин услышал еще мальчиком – от своей бабушки Марии Алексеевны Ганнибал.
…Люблю от бабушки московской
Я толки слушать о родне,
Об отдаленной старине.
Могучих предков правнук бедный… (V, 100)
Летними вечерами в подмосковном Захарове сказки о Бове-королевиче, о Лукоморье переплетались с «семейственной» легендой о знаменитом арапе, ставшем крестником русского царя. Любимая няня Арина Родионовна, в молодости служившая у Ганнибалов в Суйде, тоже хорошо помнила своего старого черного барина.
Принадлежность к этому славному и странному роду (как причастность к сказке, к трагедии), к «русскому ганнибальству» Пушкин ощутил очень рано – сначала в приметах собственной внешности и характера.
Сущий бес в проказах,
Сущая обезьяна лицом… (I, 499) —
так написал о себе пятнадцатилетний лицеист в полушутливом стихотворении на французском языке. Тогда же в 1814 году лицейское стихотворение «Казак» он подписал: «А. Пушкин-Аннибал». С жизнеописания Ганнибалов, с пращура, он начнет потом свою автобиографию.
В детстве Саша Пушкин, русоволосый мальчик, говорил, что хочет покрасить волосы в черный цвет, чтобы более походить на арапа!
В московском музее поэта экспонируется миниатюрный детский портрет Пушкина, исполненный в самом начале XIX века неизвестным художником. Вот анализ искусствоведа: «Каким мы видим Пушкина на первом его портрете? Это большеголовый мальчик двух-трех лет, по-детски пухлый, с привлекающим внимание живым и серьезным взглядом темно-синих глаз. Волосы густые, светло-русые, с рыжеватым оттенком. Уже в этом детском портрете Пушкина, как в строении, так и в выражении лица, проступают черты, унаследованные им от прадеда абиссинца А.П. Ганнибала»[11 - Павлова Е.В. А.С. Пушкин в портретах. М., 1983. С. 7–8. (Некоторые исследователи, заметим, ставят под сомнение утверждение о том, что на этом портрете изображен Пушкин.)].
Е.П. Янькова, знакомая родителей Пушкина, вспоминала: «Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик <…> со смуглым личиком, не скажу, чтобы приглядным, но с очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались»[12 - Рассказы бабушки Д. Благово. СПб., 1885. С. 459–160.].
Писатель-карамзинист М.Н. Макаров, московский приятель семьи Пушкиных, рассказывал: «В детских летах, сколько я помню Пушкина, он был не из рослых детей и все с теми же африканскими чертами физиономии, с какими был и взрослым, но волосы в малолетстве его были так кудрявы и так изящно завиты африканскою природою, что однажды мне И.И. Дмитриев сказал: “Посмотрите, ведь это настоящий арабчик”. Дитя рассмеялось и, оборотясь к нам, проговорило очень скоро и смело: “По крайней мере, отличусь тем и не буду рябчик”[13 - Намек на рябое лицо И. Дмитриева.]. Рябчик и арабчик оставались у нас целый вечер на зубах»[14 - А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. I. С. 56.].
Порывистый, импульсивный, с «необузданными африканскими (как происхождение его матери) страстями» (М. Корф); «проявлялась в нем вся пылкость и сладострастие африканской его крови»[15 - Там же. С. 69, 119. (Другой лицеист – М.Л. Яковлев на полях против этих последних строк возмущенно заметил: «Описывать так можно только арабского жеребца, а не Пушкина, потому только, что в нем текла кровь арабская».)] (С. Комовский) – это Пушкин по воспоминаниям других воспитанников лицея.
А.В. Луначарский обобщил лицейский образ поэта: «Маленький стройный арапчонок, курчавый, с огнем в глазах, подвижный как ртуть, полный страсти, – таким видят Пушкина лицейские товарищи и педагоги»[16 - Цит. по сб.: Дань признательной любви. Л., 1979. С. 90.].
«Невысокого роста, поджарый, подвижный, смуглолицый, с толстыми губами, крупными белыми каннибальскими зубами и глазами, сиявшими в минуты радости, он, судя по всему, соблазнил не одну сговорчивую царскосельскую девицу» – предполагает знаменитый французский писатель, Гонкуровский лауреат Анри Труайя, автор двухтомной биографии Пушкина (1946), только недавно появившейся в русском переводе[17 - Труайя Анри. Пушкин: Биография в 2 томах. Т. I. СПб.: Вита Нова, 2005. С. 34.].
Когда 19 октября 1828 года лицеисты первого выпуска собрались на свой традиционный праздник, Пушкин вел шуточный протокол их встречи. Он перечислил присутствовавших и назвал их школьные клички, последним в списке значился: «…Пушкин – француз (смесь обезианы с тигром)»[18 - Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.–Л., 1935. С. 733.]. Тот же лицеист С. Комовский в своих воспоминаниях пояснял, что «по страсти Пушкина к французскому языку <…> называли его в насмешку французом, а по физиономии и некоторым привычкам обезьяною или даже смесью обезьяны с тигром»[19 - А.С.Пушкин в воспоминаниях… Т. I. С. 69.] (что вызвало сердитую ремарку М. Яковлева: «как кого звали в школе, в насмешку, должно только оставаться в одном школьном воспоминании старых товарищей». Впрочем, и он тут же подтвердил, что Пушкина «звали обезьяной, смесью обезьяны с тигром»)[20 - Там же. С. 119.].
Юный Пушкин в неоконченной лицейской поэме «Бова» (осень 1814 года) восклицал, обращаясь к своему кумиру:
О Вольтер! о муж единственный!
Ты, которого во Франции
Почитали богом некиим,
В Риме дьяволом, антихристом,
Обезьяною в Саксонии! (I, 64)
А почти через десять лет, в черновиках III главы «Евгения Онегина», под портретом Вольтера, появится автопортрет, явно стилизующий сходство Пушкина с великим французом[21 - Жуйкова Р. Г. Автопортреты Пушкина (каталог). В сб.: Временник Пушкинской комиссии, XIX. Л.: Наука, 1985. С. 99 (портрет № 35).].
Ю.Н. Тынянов полагал, что у Пушкина в годы учебы было даже три клички: «француз», «обезьяна» и «тигр». В известном тыняновском романе две последние объясняются тем, что Пушкин имел склонность к прыжкам, грыз перья и, «когда он сердился, его походка становилась плавная, а шаги растягивались»[22 - Тынянов Ю.Н. Пушкин. М.: Книга, 1983. Т. II. С. 32.].
Ю.М. Лотман, ссылаясь на выражение Вольтера «смесь обезьяны и тигра», показал, что оно означает просто «француз» – именно в таком смысле этот фразеологизм получил распространение[23 - Лотман Ю.М. Смесь обезьяны с тигром. В сб.: Временник Пушкинской комиссии. XIII, Л., 1979. С. 110–112].
Однако кличка «обезьяна» была, по-видимому, широко известна и вне лицейского круга, она постепенно стала соотноситься лишь с внешностью поэта и в этой связи использовалась мемуаристами, в том числе и из дружеской поэту среды. Вот, например, дневниковая запись Долли Фикельмон, относящаяся к декабрю 1829 года: «Пушкин, писатель, ведет беседу очаровательным образом – без притязаний, с увлечением и огнем; невозможно быть более некрасивым – это смесь наружности обезьяны и тигра; он происходит от африканских предков и сохранил еще некоторую черноту в глазах и что-то дикое во взгляде»[24 - А.С. Пушкин в воспоминаниях… Т. II. С. 140.].
О сложившемся стереотипе, связанном с кличкой «обезьяна», говорят и другие мемуарные свидетельства. М.И. Осипова, дочь Прасковьи Александровны, вспоминала: «Я, бывало, все дразню и подшучиваю над Пушкиным; в двадцатых годах была мода вырезывать и наклеивать разные фигурки из бумаги; я вырежу обезьяну и дразню Пушкина, он страшно рассердится, а потом вспомнит, что имеет дело с ребенком, и скажет только: «Вы юны, как апрель»[25 - См.: Вересаев В.В. Пушкин в жизни. М., 1936. С. 305.].
Современница Пушкина рассказывала тверскому краеведу В.И. Колосову, как однажды ее муж, придя домой, сообщил: «Я сейчас видел Пушкина. Он сидит у Гальяни на окне, поджав ноги, и глотает персики. Как он напомнил мне обезьяну!»[26 - Колосов В.И. Александр Сергеевич Пушкин в Тверской губернии в 1827 году. Тверь, 1888. С. 2.]
Актриса А.М. Каратыгина писала, что в 1818 году, «говоря о Пушкине у князя Шаховского, Грибоедов назвал поэта «мартышкой» (un sapajon). Пушкину перевели, будто бы это прозвище было дано ему – мною! Плохо же он знал меня, если мог поверить, чтобы я позволила себе так дерзко отозваться о нем, особенно о его наружности…»[27 - А.С. Пушкин в воспоминаниях… Т. I. С. 200.]
К 20-м годам ХIХ века относится небольшой портрет Пушкина на пластине слоновой кости, ныне также хранящийся в московском музее поэта (автор неизвестен): «Передав внутреннюю красоту и обаяние Пушкина, автор миниатюры не счел нужным скрыть его своеобразную некрасивость: большой приплюснутый нос, толстые губы, густые бакенбарды, закрывающие значительную часть щек. Именно эти внешние черты обращали на себя внимание тех, кто в первый раз видел Пушкина»[28 - Павлова Е.В. А.С. Пушкин в портретах. М., 1983. С. 28.], – отмечает искусствовед.
Вот как запомнила, например, свое первое впечатление от внешности Пушкина знаменитая цыганка Таня, тогда еще подросток: «Небольшой ростом, губы толстые и кудлатый такой <…>. Он мне очень некрасив показался. И я сказала своим подругам по-нашему, по-цыгански: «Дыка, дыка, на не лачо, таки вашескери!» «Гляди, значит, гляди, как нехорош, точно обезьяна!»[29 - А.С. Пушкин в воспоминаниях… Т. II. С. 209.]
В «Семейной хронике» Л.Н. Павлищева приведен записанный со слов его матери, Ольги Сергеевны, сестры поэта, разговор, который будто бы вел при ней ее брат Александр с одной недалекой и болтливой француженкой. Вот его перевод:
« – Кстати, г-н Пушкин, в ваших жилах и сестры вашей течет негритянская кровь?
– Разумеется, – отвечал поэт.
– Это ваш дед был негром?
– Нет, он уже им не был.
– Значит, это был ваш прадед?
– Да, мой прадед.
– Так это он был негром… да, да… но в таком случае, кто же был его отец?
– Обезьяна, мадам, – отрезал наконец Александр Сергеевич»[30 - Говоря о слове «обезьяна» в лексике Пушкина, следует вспомнить и его письмо Вяземскому в мае 1826 года, где обезьяна вырастает в какой-то символ злого духа, несчастья и коварства: «Судьба не перестает с тобой проказить. Не сердись на нее, не ведает бо, что творит. Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? Не ты, не я, никто…» (XIII, № 265).].
«Кличка, которая в своей первооснове, т. е. применительно к французскому характеру, – отметил Ю.М. Лотман, – никаких зрительных ассоциаций не имеет, будучи отнесена к Пушкину, получала дополнительные смыслы в связи с некоторыми особенностями мимики[31 - Вспомним опять роман Ю. Тынянова: «Пушкин вдруг засмеялся, как смеялись Ганнибалы: зубами» (т. II. С. 31).] и внешности поэта. Одновременно, получив, видимо, широкую огласку, она давала поверхностному наблюдателю готовый штамп восприятия именно внешности. В период, когда вокруг Пушкина начал стягиваться узел светских сплетен и личность его стала привлекать недоброжелательное любопытство, старая дружеская лицейская кличка в руках его преследователей легко превратилась в направленное против него оружие. Связь с «французом» была окончательно забыта, и на поверхность выступила пасквильная характеристика внешности, что вписывалось в штамп «безобразный муж прекрасной жены»[32 - Временник Пушкинской комиссии. XIII, Л., 1979. С. 111.].
Та же Д. Фикельмон не преминула отметить (запись 31 мая 1831 года): «Пушкин приехал из Москвы и привез свою жену… Он очень в нее влюблен, рядом с ней его уродливость еще более поразительна, но когда он говорит, забываешь о том, что ему недостает, чтобы быть красивым…»[33 - А.С. Пушкин в воспоминаниях… Т. II. С. 141.].
Удивительная судьба пушкинского прадеда, известная по «семейственным преданиям», не могла не заинтересовать Пушкина – историка и романиста. «Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа» (VIII, 53) – этой формуле из пушкинского незавершенного «Романа в письмах» (1829 год) как нельзя более соответствовал замысел повествования о Петровской эпохе.
Вот строки о михайловских буднях поэта из «Памятных записок» Н.М.Смирнова, камер-юнкера: «Его дни тянулись однообразно и бесцветно. Встав поутру, погружался он в холодную ванну и брал книги и перо; в минуты грусти перекатывал шары на бильярде или призывал старую няню рассказывать ему про старину, про Ганнибалов, потомков Арапа Петра Великого, из фамилии которых происходила его мать»[9 - А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. 2-е изд. М., 1985. Т. II. С. 273.].
Пушкин, как сообщает его первый биограф П.В. Анненков, говорил друзьям: «Бог даст, мы напишем исторический роман, на который и чужие полюбуются»[10 - Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина. СПб., 1855. С. 199.].
Напрашивался и главный герой – здесь, в псковской деревне, в старинной Ганнибаловой вотчине все дышало памятью о царском арапе.
Летом 1827 года Пушкин одновременно работал и над исторической эпопеей в прозе, и над любимым своим детищем – романом в стихах «Евгений Онегин». Эти произведения тесно связаны между собой, причем не только хронологией их создания, но и многими невидимыми нитями художественного свойства. Перефразируя Анну Ахматову, можно сказать, что над Пушкиным, приступившим к роману о царском арапе, стояла «Онегина» воздушная громада…
«Свет мой, зеркальце, скажи»
Одно зеркало важнее целой галереи предков
Вольфганг Менцель
Почему Пушкин, обратившись к Петровской эпохе, вывел на сцену экзотическую фигуру своего прадеда? Наверное, прежде всего потому, что в отношении к Ганнибалу проявился тот «личный автобиографический, домашний интерес к истории» (по определению Ю.Н. Тынянова), который Пушкин так высоко ценил у Вальтера Скотта.
Первые рассказы о загадочном «абиссинском принце», властной волей царя Петра спасенном из турецкого плена и призванном в Россию, Пушкин услышал еще мальчиком – от своей бабушки Марии Алексеевны Ганнибал.
…Люблю от бабушки московской
Я толки слушать о родне,
Об отдаленной старине.
Могучих предков правнук бедный… (V, 100)
Летними вечерами в подмосковном Захарове сказки о Бове-королевиче, о Лукоморье переплетались с «семейственной» легендой о знаменитом арапе, ставшем крестником русского царя. Любимая няня Арина Родионовна, в молодости служившая у Ганнибалов в Суйде, тоже хорошо помнила своего старого черного барина.
Принадлежность к этому славному и странному роду (как причастность к сказке, к трагедии), к «русскому ганнибальству» Пушкин ощутил очень рано – сначала в приметах собственной внешности и характера.
Сущий бес в проказах,
Сущая обезьяна лицом… (I, 499) —
так написал о себе пятнадцатилетний лицеист в полушутливом стихотворении на французском языке. Тогда же в 1814 году лицейское стихотворение «Казак» он подписал: «А. Пушкин-Аннибал». С жизнеописания Ганнибалов, с пращура, он начнет потом свою автобиографию.
В детстве Саша Пушкин, русоволосый мальчик, говорил, что хочет покрасить волосы в черный цвет, чтобы более походить на арапа!
В московском музее поэта экспонируется миниатюрный детский портрет Пушкина, исполненный в самом начале XIX века неизвестным художником. Вот анализ искусствоведа: «Каким мы видим Пушкина на первом его портрете? Это большеголовый мальчик двух-трех лет, по-детски пухлый, с привлекающим внимание живым и серьезным взглядом темно-синих глаз. Волосы густые, светло-русые, с рыжеватым оттенком. Уже в этом детском портрете Пушкина, как в строении, так и в выражении лица, проступают черты, унаследованные им от прадеда абиссинца А.П. Ганнибала»[11 - Павлова Е.В. А.С. Пушкин в портретах. М., 1983. С. 7–8. (Некоторые исследователи, заметим, ставят под сомнение утверждение о том, что на этом портрете изображен Пушкин.)].
Е.П. Янькова, знакомая родителей Пушкина, вспоминала: «Саша был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик <…> со смуглым личиком, не скажу, чтобы приглядным, но с очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались»[12 - Рассказы бабушки Д. Благово. СПб., 1885. С. 459–160.].
Писатель-карамзинист М.Н. Макаров, московский приятель семьи Пушкиных, рассказывал: «В детских летах, сколько я помню Пушкина, он был не из рослых детей и все с теми же африканскими чертами физиономии, с какими был и взрослым, но волосы в малолетстве его были так кудрявы и так изящно завиты африканскою природою, что однажды мне И.И. Дмитриев сказал: “Посмотрите, ведь это настоящий арабчик”. Дитя рассмеялось и, оборотясь к нам, проговорило очень скоро и смело: “По крайней мере, отличусь тем и не буду рябчик”[13 - Намек на рябое лицо И. Дмитриева.]. Рябчик и арабчик оставались у нас целый вечер на зубах»[14 - А.С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. I. С. 56.].
Порывистый, импульсивный, с «необузданными африканскими (как происхождение его матери) страстями» (М. Корф); «проявлялась в нем вся пылкость и сладострастие африканской его крови»[15 - Там же. С. 69, 119. (Другой лицеист – М.Л. Яковлев на полях против этих последних строк возмущенно заметил: «Описывать так можно только арабского жеребца, а не Пушкина, потому только, что в нем текла кровь арабская».)] (С. Комовский) – это Пушкин по воспоминаниям других воспитанников лицея.
А.В. Луначарский обобщил лицейский образ поэта: «Маленький стройный арапчонок, курчавый, с огнем в глазах, подвижный как ртуть, полный страсти, – таким видят Пушкина лицейские товарищи и педагоги»[16 - Цит. по сб.: Дань признательной любви. Л., 1979. С. 90.].
«Невысокого роста, поджарый, подвижный, смуглолицый, с толстыми губами, крупными белыми каннибальскими зубами и глазами, сиявшими в минуты радости, он, судя по всему, соблазнил не одну сговорчивую царскосельскую девицу» – предполагает знаменитый французский писатель, Гонкуровский лауреат Анри Труайя, автор двухтомной биографии Пушкина (1946), только недавно появившейся в русском переводе[17 - Труайя Анри. Пушкин: Биография в 2 томах. Т. I. СПб.: Вита Нова, 2005. С. 34.].
Когда 19 октября 1828 года лицеисты первого выпуска собрались на свой традиционный праздник, Пушкин вел шуточный протокол их встречи. Он перечислил присутствовавших и назвал их школьные клички, последним в списке значился: «…Пушкин – француз (смесь обезианы с тигром)»[18 - Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.–Л., 1935. С. 733.]. Тот же лицеист С. Комовский в своих воспоминаниях пояснял, что «по страсти Пушкина к французскому языку <…> называли его в насмешку французом, а по физиономии и некоторым привычкам обезьяною или даже смесью обезьяны с тигром»[19 - А.С.Пушкин в воспоминаниях… Т. I. С. 69.] (что вызвало сердитую ремарку М. Яковлева: «как кого звали в школе, в насмешку, должно только оставаться в одном школьном воспоминании старых товарищей». Впрочем, и он тут же подтвердил, что Пушкина «звали обезьяной, смесью обезьяны с тигром»)[20 - Там же. С. 119.].
Юный Пушкин в неоконченной лицейской поэме «Бова» (осень 1814 года) восклицал, обращаясь к своему кумиру:
О Вольтер! о муж единственный!
Ты, которого во Франции
Почитали богом некиим,
В Риме дьяволом, антихристом,
Обезьяною в Саксонии! (I, 64)
А почти через десять лет, в черновиках III главы «Евгения Онегина», под портретом Вольтера, появится автопортрет, явно стилизующий сходство Пушкина с великим французом[21 - Жуйкова Р. Г. Автопортреты Пушкина (каталог). В сб.: Временник Пушкинской комиссии, XIX. Л.: Наука, 1985. С. 99 (портрет № 35).].
Ю.Н. Тынянов полагал, что у Пушкина в годы учебы было даже три клички: «француз», «обезьяна» и «тигр». В известном тыняновском романе две последние объясняются тем, что Пушкин имел склонность к прыжкам, грыз перья и, «когда он сердился, его походка становилась плавная, а шаги растягивались»[22 - Тынянов Ю.Н. Пушкин. М.: Книга, 1983. Т. II. С. 32.].
Ю.М. Лотман, ссылаясь на выражение Вольтера «смесь обезьяны и тигра», показал, что оно означает просто «француз» – именно в таком смысле этот фразеологизм получил распространение[23 - Лотман Ю.М. Смесь обезьяны с тигром. В сб.: Временник Пушкинской комиссии. XIII, Л., 1979. С. 110–112].
Однако кличка «обезьяна» была, по-видимому, широко известна и вне лицейского круга, она постепенно стала соотноситься лишь с внешностью поэта и в этой связи использовалась мемуаристами, в том числе и из дружеской поэту среды. Вот, например, дневниковая запись Долли Фикельмон, относящаяся к декабрю 1829 года: «Пушкин, писатель, ведет беседу очаровательным образом – без притязаний, с увлечением и огнем; невозможно быть более некрасивым – это смесь наружности обезьяны и тигра; он происходит от африканских предков и сохранил еще некоторую черноту в глазах и что-то дикое во взгляде»[24 - А.С. Пушкин в воспоминаниях… Т. II. С. 140.].
О сложившемся стереотипе, связанном с кличкой «обезьяна», говорят и другие мемуарные свидетельства. М.И. Осипова, дочь Прасковьи Александровны, вспоминала: «Я, бывало, все дразню и подшучиваю над Пушкиным; в двадцатых годах была мода вырезывать и наклеивать разные фигурки из бумаги; я вырежу обезьяну и дразню Пушкина, он страшно рассердится, а потом вспомнит, что имеет дело с ребенком, и скажет только: «Вы юны, как апрель»[25 - См.: Вересаев В.В. Пушкин в жизни. М., 1936. С. 305.].
Современница Пушкина рассказывала тверскому краеведу В.И. Колосову, как однажды ее муж, придя домой, сообщил: «Я сейчас видел Пушкина. Он сидит у Гальяни на окне, поджав ноги, и глотает персики. Как он напомнил мне обезьяну!»[26 - Колосов В.И. Александр Сергеевич Пушкин в Тверской губернии в 1827 году. Тверь, 1888. С. 2.]
Актриса А.М. Каратыгина писала, что в 1818 году, «говоря о Пушкине у князя Шаховского, Грибоедов назвал поэта «мартышкой» (un sapajon). Пушкину перевели, будто бы это прозвище было дано ему – мною! Плохо же он знал меня, если мог поверить, чтобы я позволила себе так дерзко отозваться о нем, особенно о его наружности…»[27 - А.С. Пушкин в воспоминаниях… Т. I. С. 200.]
К 20-м годам ХIХ века относится небольшой портрет Пушкина на пластине слоновой кости, ныне также хранящийся в московском музее поэта (автор неизвестен): «Передав внутреннюю красоту и обаяние Пушкина, автор миниатюры не счел нужным скрыть его своеобразную некрасивость: большой приплюснутый нос, толстые губы, густые бакенбарды, закрывающие значительную часть щек. Именно эти внешние черты обращали на себя внимание тех, кто в первый раз видел Пушкина»[28 - Павлова Е.В. А.С. Пушкин в портретах. М., 1983. С. 28.], – отмечает искусствовед.
Вот как запомнила, например, свое первое впечатление от внешности Пушкина знаменитая цыганка Таня, тогда еще подросток: «Небольшой ростом, губы толстые и кудлатый такой <…>. Он мне очень некрасив показался. И я сказала своим подругам по-нашему, по-цыгански: «Дыка, дыка, на не лачо, таки вашескери!» «Гляди, значит, гляди, как нехорош, точно обезьяна!»[29 - А.С. Пушкин в воспоминаниях… Т. II. С. 209.]
В «Семейной хронике» Л.Н. Павлищева приведен записанный со слов его матери, Ольги Сергеевны, сестры поэта, разговор, который будто бы вел при ней ее брат Александр с одной недалекой и болтливой француженкой. Вот его перевод:
« – Кстати, г-н Пушкин, в ваших жилах и сестры вашей течет негритянская кровь?
– Разумеется, – отвечал поэт.
– Это ваш дед был негром?
– Нет, он уже им не был.
– Значит, это был ваш прадед?
– Да, мой прадед.
– Так это он был негром… да, да… но в таком случае, кто же был его отец?
– Обезьяна, мадам, – отрезал наконец Александр Сергеевич»[30 - Говоря о слове «обезьяна» в лексике Пушкина, следует вспомнить и его письмо Вяземскому в мае 1826 года, где обезьяна вырастает в какой-то символ злого духа, несчастья и коварства: «Судьба не перестает с тобой проказить. Не сердись на нее, не ведает бо, что творит. Представь себе ее огромной обезьяной, которой дана полная воля. Кто посадит ее на цепь? Не ты, не я, никто…» (XIII, № 265).].
«Кличка, которая в своей первооснове, т. е. применительно к французскому характеру, – отметил Ю.М. Лотман, – никаких зрительных ассоциаций не имеет, будучи отнесена к Пушкину, получала дополнительные смыслы в связи с некоторыми особенностями мимики[31 - Вспомним опять роман Ю. Тынянова: «Пушкин вдруг засмеялся, как смеялись Ганнибалы: зубами» (т. II. С. 31).] и внешности поэта. Одновременно, получив, видимо, широкую огласку, она давала поверхностному наблюдателю готовый штамп восприятия именно внешности. В период, когда вокруг Пушкина начал стягиваться узел светских сплетен и личность его стала привлекать недоброжелательное любопытство, старая дружеская лицейская кличка в руках его преследователей легко превратилась в направленное против него оружие. Связь с «французом» была окончательно забыта, и на поверхность выступила пасквильная характеристика внешности, что вписывалось в штамп «безобразный муж прекрасной жены»[32 - Временник Пушкинской комиссии. XIII, Л., 1979. С. 111.].
Та же Д. Фикельмон не преминула отметить (запись 31 мая 1831 года): «Пушкин приехал из Москвы и привез свою жену… Он очень в нее влюблен, рядом с ней его уродливость еще более поразительна, но когда он говорит, забываешь о том, что ему недостает, чтобы быть красивым…»[33 - А.С. Пушкин в воспоминаниях… Т. II. С. 141.].