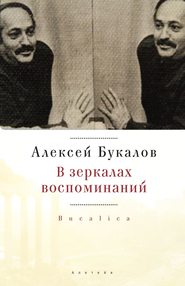По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
«Берег дальный». Из зарубежной Пушкинианы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
За столом у боярина Ржевского вспоминают ассамблею. Ворчит Гаврила Афанасьевич: «Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса не напроказил чего с дочерью; а нынче молодежь так избаловалась, что ни на что не похоже. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее наделал такого шуму с Наташей, что привел меня в краску. На другой день, гляжу, катят ко мне прямо на двор; я думал, кого-то Бог несет, – уж не князя ли Александра Даниловича? Не тут-то было: Ивана Евграфовича! небось не мог остановиться у ворот да потрудиться пешком дойти до крыльца – куды! влетел! расшаркался, разболтался! <…> Дура Екимовна уморительно его передразнивает; кстати: представь, дура, заморскую обезьяну.
Дура Екимовна схватила крышку с одного блюда, взяла под мышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: «мусье… мамзель… ассамблея… пардон». Общий и продолжительный хохот снова изъявил удовольствие гостей.
– Ни дать ни взять – Корсаков, – сказал старый князь Лыков, отирая слезы смеха, когда спокойствие мало-помалу восстановилось. – А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из неметчины на святую Русь скоморохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать Бог весть на каком наречии, не почитать старших да волочиться за чужими женами…» (VIII, 22).
Корсаков, таким образом, попадает под «перекрестный огонь». Он вызывает и замечание царя, и насмешки старой знати.
Последний раз мы встречаем Корсакова в VI главе, беседующего с Ибрагимом в доме его невесты. Корсаков («он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности») отговаривает друга от женитьбы: «Мало ли что случается на свете? Например: я, конечно, собою не дурен, но случалось, однако ж, мне обманывать мужей, которые были, ей-богу, ничем не хуже моего» (VIII, 30).
Итак, Корсаков выбран в «антиподы» Ибрагиму, он олицетворяет собой новое поколение русских «иностранцев». Определяя место этого образа среди персонажей русской истории, В.О. Ключевский сказал: «…Живуч был общественно-физиологический вид, представленный в лице молодого Корсакова, Ибрагимова товарища по курсу высшей европеизации в парижских салонах. Это – русский петиметр XVIII века, великосветский русский шалопай на европейскую ногу, «скоморох», по выражению старого князя Лыкова в «Арапе…» или «обезьяна, да не здешняя», как назван он в одной комедии Сумарокова. В «Арапе Петра Великого» он еще не на своем месте, не в пору вернулся из-за моря и испытывает неудобства рано прилетевшей ласточки. Полная весна наступит для него в женские эпохи, при двух Аннах, двух Екатеринах и одной Елизавете. При Петре ему холодно и неловко в его нарядном кафтане среди деловых людей, которые скидали рабочие куртки только по праздникам. Со временем он будет нужным и важным человеком в праздном обществе; теперь он шут поневоле и Петр колет ему глаза его бархатными штанами, каких не носит и царь»[362 - Русская мысль. 1880. № 6. С. 25.].
У Корсакова немало литературных «родственников» и прототипов. Среди них – Иванушка из комедии Д.И. Фонвизина «Бригадир» (подмечено Е.Воскресенским). «Подобно Иванушке Корсаков не замечает иронии Петра по своему адресу и остается доволен собой в ситуации, в которой был просто смешон», – пишет Л. Сидяков[363 - Сидяков Л. Художественная проза Пушкина. Рига, 1973. С. 42.].
«В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края», был и реальный Корсаков, один из прототипов героя пушкинского романа. Речь идет о Воине Яковлевиче Римском-Корсакове, который был послан во Францию изучать военно-морское дело в 1716 году и вернулся в Россию в 1724 году.
Одним из отдаленных прототипов Корсакова можно считать и родного дядю поэта – Василия Львовича Пушкина. По свидетельству Ф.Ф.Вигеля, В.Л.Пушкин, вернувшись из Франции в Россию, «всех изумил толстым и длинным жабо, коротким фраком и головою в мелких курчавых завитках, как баранья шерсть»[364 - Цит. по: Михайлова Н.И. Читая «Опасного соседа» // Литературная учеба. 1981. № 1. С. 179.]. Вот как описывает И.И.Дмитриев в сатирической поэме «Путешествие NN в Париж и Лондон» восторг Василия Львовича:
Я вне себя от восхищения!
В каких явлюсь к вам сапогах!
Какие фраки! Панталоны!
Всему новейшие фасоны!
Пушкин сам намекнул на эту перекличку, выписав к одной из глав романа эпиграф из шуточного стихотворения Дмитриева «Журнал путешественника», где высмеивалась галломания В.Л. Пушкина:
Я в Париже:
Я начал жить, а не дышать (VIII, 501)[365 - По мнению Г.А.Лапкиной, этот эпиграф «по вызываемым им литературным ассоциациям более подходил к первой части третьей главы, где появляется Корсаков, только что приехавший из Парижа и возмущающийся “варварским” образом жизни в России» (Пушкин. Исследования и материалы. Т. II. Л., 1958. С. 298).].
История «представления» Корсакова Петру в Адмиралтействе была описана А.Корниловичем как прием царем бранденбургского посланника фон Принца: «Петр был на верфи и работал на марсе какого-то военного корабля <…> Посланник принужден был по веревочной лестнице взбираться на гротмачту, и государь, сев на бревно, принял от него верющую грамоту».
В свою очередь, Корнилович заимствовал этот анекдот из голиковских «Деяний Петра Великого»[366 - Д.И. Белкин установил, что одним из исторических источников Пушкина при написании парижских глав романа о царском арапе явились письма молодого А.Р. Воронцова, хранящиеся и по сей день среди материалов одесского архива Воронцовых. Вот что сообщалось, в частности о расходах: «перукмахерам дано» 12 ливров, а «за танцевание мастеру 72 ливра», за покупку «12 пар башмаков с красными каблуками» заплатил 30 ливров, «1026 ливров обошелся бархатный шитой кафтан для праздников» и т. п. (См.: Белкин Д.И. О российских источниках «Арапа Петра Великого». В сб.: Болдинские чтения. Горький, 1987. С. 228–229.)].
Одежда Петра, шокировавшая Корсакова в этом эпизоде («какая-то холстяная фуфайка»), тоже взята из исторических описаний. Впоследствии, в «Истории Петра», Пушкин так опишет царя в Голландии в 1697 году: «Петр вышел на берег с веревкою в руках и не обратил на себя внимания. На другой день оделся он в рабочее платье, в красную байковую куртку и холстинные шаровары и смешался с прочими работниками» (Х, 35).
О возможной дальнейшей роли Корсакова в развитии сюжета несколько неожиданно высказался В.Шкловский: «С точки зрения техники романа можно предположить, что отцом белого ребенка (речь шла о «будущих родах» «будущей жены» арапа. – А.Б.) был петиметр Корсаков, потому что в романе нет другого подробно описанного молодого привлекательного человека»[367 - Шкловский В.Б. Заметки о прозе Пушкина. С. 35.].
«Нежный призрак»
Она строга, властолюбива,
Я сам дивлюсь ее уму —
И ужас как она ревнива;
Зато со всеми горделива
И мне доступна одному (III, 234)
А.С. Пушкин. «Паж, или Пятнадцатый год»
Исповедальный, личный характер многих страниц «Арапа Петра Великого» давно подметили читатели романа. И в первую очередь – его читательницы. С.Н.Карамзина, близкий друг поэта, сообщала брату Андрею 25 апреля 1837 года: «На днях Жуковский читал нам роман Пушкина, восхитительный: «Ибрагим, царский Арап». Этот негр так обворожителен, что ничуть не удивляешься страсти, внушенной им к себе даже даме двора регента; многие черты характера и даже его наружности скалькированы с самого Пушкина»[368 - Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 годов. М.; Л., 1960. С. 202.].
Т.Г.Цявловская вспоминала в своей известной работе «Храни меня, мой талисман» (1975 г.), посвященной отношениям Пушкина с Е.К. Воронцовой: «…Когда несколько лет тому назад я рассказывала Анне Андреевне Ахматовой и Сергею Михайловичу Бонди первый очерк настоящей работы и сказала, что фрагмент прозы «Часто думал я об этом ужасном семейственном романе…» связан с рождением у Воронцовой дочери от Пушкина, – Анна Андреевна с живостью сказала: «Так же как и «Арап Петра Великого». Она имела в виду тот же эпизод – рождение темнокожего младенца»[369 - Прометей» Ист.-биогр. альманах серии «ЖЗЛ». Т. 10. М., 1975. С. 59.]. Речь идет о первой главе «Арапа…», где описан роман Ибрагима с графиней Леонорой Д. и его последствие – рождение у графини черного ребенка. Т.Г. Цявловская высказала догадку, что этот эпизод навеян переживаниями самого поэта – ни в «Немецкой» биографии А.П. Ганнибала, ни в семейных преданиях не зафиксирован факт рождения у прадеда-арапа черного младенца вне брака. Пушкину о семейной жизни Абрама Петровича было известно следующее: «Первая жена его, красавица, родом гречанка, родила ему белую дочь. Он с нею развелся и принудил ее постричься в Тихвинском монастыре…» (XII, 313). А вот пушкинские сведения о втором браке Ганнибала: «Вторая жена его, Христина Регина фон Шеберх, вышла за него в бытность его в Ревеле оберкомендантом и родила ему множество черных детей обоего пола». Т.Г.Цявловская предположила, что в образе графини Леоноры Д. – парижской возлюбленной Ибрагима – отразились черты графини Воронцовой. Вспомним, как представлена Леонора на страницах романа: «Графиня Д., уже не в первом цвете лет, славилась еще своею красотою. 17 лет, при выходе ее из монастыря, выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключенье. Дом ее был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество» (VIII, 4). Знакомство героев: «Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами» (VIII, 4). Далее в рукописи следовал очень важный для характеристики графини абзац, зачеркнутый Пушкиным карандашом:
«Графиню почитают, – сказал он Ибрагиму, – женщиной умной и холодной, имеющей любовников от нечего делать. Это мнение несправедливо. Она проста, имеет пылкие чувства, и любовь главное дело ее жизни. В обществе она рассеянна и ленива; это придает какую-то заманчивость ее словам. Ее странные вопросы, загадочные ответы вольно принимать за эпиграмматические выходки или за глупости; мы, т. е. близкие ее приятели, из дружбы, прославили ее оригинальность и остроту. Впрочем, она женщина самая добрая, самая милая. Познакомьтесь с нею короче, вы ее полюбите и удостоверитесь, что ограниченность ее ума почти незаметна от избытка простодушия и чувствительности» (VIII, 502).
Эти слова Мервиля напоминают письмо одесского друга Пушкина Александра Раевского (имя которого молва связывала с Воронцовой). Вот что он писал сестре в 1822 году о супруге малороссийского наместника: «Она очень приятна, у нее меткий, хотя и не очень широкий ум, а ее характер – самый очаровательный, какой я знаю»[370 - Цит. по: Гершензон М.О. История молодой России. М.; Пг., 1923. С. 50.]. Т.Г.Цявловская сопоставляет цепочку реальных персонажей (Пушкин – Воронцова – Раевский) и героев пушкинского романа (Ибрагим – графиня Д. – Мервиль). Такая проекция позволяет ей не только идентифицировать многие черты автора и царского арапа, Воронцовой и графини Д., но и увидеть сходство между одесским другом Пушкина А. Раевским и эпизодическим действующим лицом парижских глав романа – Мервилем[371 - Прометей. Т. 10. С. 61.]. Наблюдение весьма меткое и до сих пор никем не опровергнутое.
Но этого мало. Сходство ситуаций отражается и в других местах, например в письмах Ибрагима и графини Д. «Ты говоришь, – писала она, – что мое спокойствие дороже тебе всего на свете: Ибрагим! если б это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боялся, чтоб я тебя не удержала; будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим долгом» (VIII, 14).
Татьяна Цявловская делает оговорку: «Обстоятельства отъезда Пушкина были иные. Но тон! – угадывается ее тон, Воронцовой, особенно в последних строках: «Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка ей писать, если уже не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь»[372 - Там же. С. 63.].
Собственная пушкинская переписка эмоционально и стилистически перекликается с романом о царском арапе. И здесь вспоминаются строки из письма Пушкина к Е.К.Воронцовой: «Осмелюсь ли, графиня, сказать вам о том мгновении счастья, которое я испытал, получив ваше письмо, при одной мысли, что вы не совсем забыли самого преданного из ваших рабов?» (VIII, 71–72).
Линия графини Д. в последний раз возникает в петербургском разговоре Ибрагима и Корсакова:
«Ну, что графиня Д.?» – «Графиня? она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-помалу утешилась и взяла себе нового любовника: знаешь кого? длинного маркиза R.» (VIII, 15).
Графиня Д. в черновике именуется графиней L. Зовут ее Леонора, об этом мы узнаем из письма Ибрагима. Возлюбленная арапа – предшественница блистательных дам «не первой молодости» из цикла «светских» повестей Пушкина 1828–1829 годов. На это впервые указала А.А.Ахматова[373 - Ахматова А.А. О Пушкине. Изд. 2-е. доп. Горький, 1984. С. 71.]. Она же подчеркнула связь этих повестей с романом французского писателя Б. Констана «Адольф». Например, пишет Ахматова, самая тема повести «На углу маленькой площади» – адюльтер, и судьба женщины, открыто нарушившей законы света, несомненно указывает на французские традиции[374 - Там же. С. 68. См. также: Путеводитель по Пушкину.].
Многие мысли и наблюдения, разбросанные по страницам романа о царском арапе, нашли отклик в позднейших пушкинских произведениях, в том числе и в маленьких трагедиях. Один из таких откликов, как отметила А.А. Ахматова, связан с образом графини Д. Цитата из романа: «Что ни говори, а любовь, без надежд и требований, трогает женское сердце вернее всех расчетов обольщения» (VIII, 5). Сравним с репликой Дон Гуана из «Каменного гостя»:
Я не питаю дерзостных надежд,
Я ничего не требую, но видеть
Вас должен я, когда уже на жизнь
Я осужден[375 - А.А. Ахматова, в свою очередь, сопоставлет эту реплику с цитатой из «Адольфа» Констана: «Я ни на что не надеюсь, ничего не прошу, хочу только вас видеть; но мне необходимо вас видеть, если я должен жить» (Ахматова А.А. Указ. соч. С. 83).]. (VII, 157)
Имя Леонора должно было, очевидно, подчеркнуть литературную реминисценцию: героиню «Адольфа» зовут Элеонора. Описывая ее внешность, Б.Констан замечает: «Прославленная своей красотой, хотя уже не первой молодости» (сравним с пушкинскими словами о графине Леоноре Д., которая «была не в первом цвете лет, но славилась еще своею красотою»)[376 - Подробнее об этом см.: Благой Д.Д. Творческий путь Пушкина (1826–1830). М., 1967. С. 254–258.].
Впрочем, это имя перекликалось и с романтической балладой немецкого поэта Г.А. Бюргера «Ленора», которая была известна русским читателям по переводам В. Жуковского и П. Катенина[377 - См.: Грибоедов А.С. О разборе вольного перевода бюргеровой баллады «Ленора». В кн.: Грибоедов А.С. Сочинения. М., 1986. С. 379–389.].
Еще одна перекличка. Пушкин замечает в III главе «Евгения Онегина»:
Я знаю: нежного Парни
Перо не в моде в наши дни… (VI, 64)
Несмотря на это наблюдение, мир Парни продолжает незримо присутствовать в пушкинском творчестве. Когда-то французский поэт воспел юную деву по имени Элеонора, которой в молодости давал уроки музыки. Пушкин запомнил эту романтическую историю. Французская героиня его «Арапа…» получила имя Леонора, а мнимому учителю французу из другого романа дано подлинное имя французского поэта, которого звали Эварист Дезире де Форж!
На образ графини Д. так же как и на всю поэтику парижских глав «Арапа Петра Великого», по мнению исследователей, оказали влияние и такие шедевры французской литературы, как роман «Опасные связи» Шодерло де Лакло[378 - См.: Степанов Н.Л. Проза Пушкина. М., 1962. С. 35; Вольперт Л.И. Пушкин и Шодерло де Лакло. В сб.: Пушкинский сборник (Ученые записки Лен. пед. ин-та им. Герцена. Т. 483). Псков. 1972. С. 84–114.], трилогия Бомарше.
Все это, наверное, так и есть – Пушкин, конечно, учитывал достижения европейской словесности[379 - См.: Вацуро В.Э. Пушкин и Бомарше. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. VII. Л., 1974. С. 204–214; Вольперт Л.И. Пушкин и французская комедия XVIII в. В кн.: Пушкин. Исследования и материалы. Т. IX. Л., 1979. С. 180.]. Но, вводя в ткань своего первого исторического романа фривольную новеллу о парижских похождениях арапа, рисуя портрет французской аристократки, дамы высшего света, Пушкин в первую очередь отталкивался от такой близкой и знакомой – современной ему русской действительности.
На сем лице лишь гнева след…
Да, может быть, боязни тайной,
Чтоб муж иль свет не угадал
Проказы, слабости случайной. (VI, 182)
Эпистолярная перекличка продолжается и после «расставания» автора с романом. Только теперь мысли и образы перетекают из художественной прозы Пушкина в его переписку. И тогда вновь мелькает образ парижской возлюбленной Ибрагима.
Сравним два письма. Герой пушкинского романа прощается с графиней Д.: «Я еду, милая Леонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобою объясниться.
Счастие мое не могло продолжаться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить; очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоею неограниченною нежностию…» (VIII, 9).