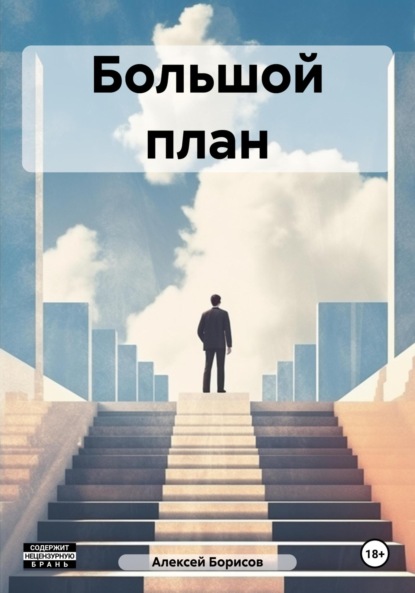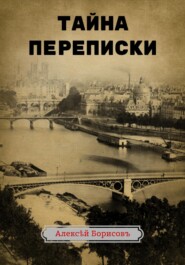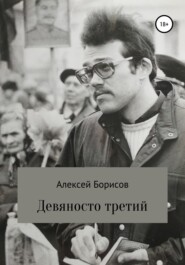По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Большой план
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Может, еще раз придете, с другой группой? – спросила Алина Юрьевна Маслова, листая зачетку.
Гуманизмом она обычно не грешила, но почему-то пожалела его.
– Нет, спасибо, – вежливо ответил Олег.
Лапшин не был уверен, что сумеет повторно пропустить через себя подробности восстания сипаев и конституционную реформу султана Абдул-Хамида. После двух лет армии, между первым и вторым курсами, его память сделалась чуть хуже. В той войсковой части, где он отдавал долг Родине, самым увлекательным чтивом был устав гарнизонной и караульной службы.
Удача, впрочем, не отвернулась от него. Заветный диплом открыл дорогу к новому этапу Большого плана. Андрей Викторович похвалил сына сдержанно, зато мама светилась от счастья.
– Ни о чем не думай, только занимайся! – категорично заявила она. – Мы тебя обеспечим.
Под ее словами была практическая основа. Времена настали смутные и трудные. Прилавки магазинов, тотально опустевшие к декабрю девяносто первого, в январе следующего года наполнились товарами, но цены кусались больно. Институт, где преподавал отец, очень пригодился всей семье. На его заочном отделении учились главным образом председатели колхозов и директора совхозов, по определению люди крайне занятые. За помощь при написании курсовых и дипломных работ, сдаче экзаменов и зачетов они охотно благодарили чем Бог послал, то есть продукцией своих хозяйств. Эта практика существовала и во времена социализма, и мама как-то проговорилась, что именно из-за конфликта на почве не афишируемых экономических отношений Андрею Викторовичу не дали хода в доктора наук.
Поэтому призрак голода ни разу не маячил перед Олегом. Условия для научных штудий действительно сложились прекрасные. Но вопреки всему Большой план вступил в зону турбулентности…
Глава вторая,
в которой речь идет о нелегком ремесле писателя
На свежем воздухе Олегу стало получше. Боль в голове утихла, на смену ей пришла общая слабость. Лапшин был равнодушен к спиртному, но волей-неволей ему приходилось пить с коллегами. Шерхан злоупотреблял этим частенько – на взгляд окружающих, даже слишком. Свою слабость он с обезоруживающей улыбкой объяснял так: «Ну никак не могу иначе. Вот булькну чуток, открою книжку и странствую по иным мирам». Арсений Витальевич крепко подсел на переводные произведения в жанре фэнтези, потоком хлынувшие на российский рынок. Олегу казалось, что лаборанту, который в свои сорок пять выглядел заметно старше, больше ничего и не надо от жизни.
«Интересно, чего еще Юлька хочет?» – подумал он, на ватных ногах бредя по бульвару. Энтузиазм приятеля и его лихорадочная активность по составлению всё новых сборников периодически начинали раздражать его. Кошечкин, в сущности, эксплуатировал одну и ту же тему, связанную с опричниной Ивана Грозного. Хотя он проделывал это столь изящно, что до сих пор никому как следует не надоел. Из многочисленных статей должна была вскоре вырасти толстая книга.
– Олег, здравствуйте!
Голос был знакомым, и Лапшин повернул голову.
– Добрый день, Валентина Сергеевна.
– На свидание спешите или просто оттуда удрали?
– Оттуда, – улыбнулся Олег.
Валентина Сергеевна была мамой Юлиана. Отец Юльки умер, когда будущему знатоку опричных дел исполнилось пять. Замуж она больше не вышла и воспитывала сына одна. Кошечкины жили в самом центре, неподалеку от университета, в так называемом обкомовском доме. В действительности дом был местом обитания разных людей: после его сдачи в конце сороковых состав жильцов разбавила вузовская элита, а в начале девяностых несколько квартир приобрели и отремонтировали по своему вкусу известные всему городу коммерсанты – водочные «короли».
– Плохо себя чувствуете? – участливо спросила Валентина Сергеевна.
– Почему?
– Глаза у вас красные. Ночами не спите, защита покоя не дает?
– Да, волнуюсь немножко.
При этих словах Олег чуть отвернулся в сторону, чтобы ненароком не дыхнуть на Юлькину маму.
– Не волнуйтесь, и это пройдет.
Валентина Сергеевна, невысокая худенькая женщина в сером платье, с простой прической и умеренным макияжем, по внешнему виду сошла бы за еще одну лаборантку. Между тем, она была профессором на факультете романо-германской филологии. Юлькин отец считался восходящей звездой биофака, к своим тридцати годам став доктором наук и лауреатом какой-то важной премии (Олег позабыл, какой). «Такие у меня гены», – приговаривал Юлиан, смешно теребя курносый нос. Генами он, впрочем, нисколько не кичился.
– Сейчас, конечно, ничего не пишете?
– Тезисы добиваю, – сказал Олег.
Тезисы предстоящего выступления он выдавливал из себя по капле. Выходило, на его взгляд, криво и косо, а еще до ужаса банально. Когда при участии Трофимыча формулировали тему, казалось, что предусмотрено и вероятное продолжение. Взятый в рамках Большого плана курс производил надежное впечатление. Как гласил плакат, висевший у Лапшина в школе: «Дорога верная у нас: сначала в ПТУ, потом в рабочий класс!» Разумеется, в данном случае речи о пролетариате не было и быть не могло. Имелось в виду последующее написание докторской. Заведующий кафедрой с высоты своего опыта учел восприятие и проходимость еще не написанного труда в академических лабиринтах.
– Я не про тезисы. Литературу забросили? – уточнила Юлькина мама.
– Забросил окончательно, – честно признался Олег.
– Может, напрасно?
– Может.
«Растрепал всё-таки», – подумал Лапшин. Мечта о писательстве была у него с детства. Первый рассказ, насквозь наивный и беспомощный, он сочинил в четыре с небольшим года, в гостях у дедушки с бабушкой. Дед так и объявил, передавая его родителям с рук на руки, вместе с тетрадкой: «Забирайте писателя». Это было нечто, навеянное военными кинофильмами и крайне скупыми дедовскими воспоминаниями. Раненый в зимнем бою под Курском и потерявший два пальца на правой руке, Николай Семенович долго лежал в госпитале и был комиссован подчистую. Тетрадь в линейку, в которой маленький Олег карандашом выводил печатные буквы, увы, не сохранилась.
Более основательный приступ он предпринял в пятнадцать лет. То был коллективный труд, на пару с закадычным другом Сашкой. По примеру Ильфа и Петрова, а то и братьев Стругацких, они сходу взялись за роман в трех частях, с прологом и эпилогом. Идеи подкидывал преимущественно Сашка, валяясь на кушетке (творили у него дома), Олег вносил дополнения, записывал текст от руки, а потом доводил до ума на машинке. Распечатку правили вдвоем, затем Лапшин под копирку выдавал три чистовых экземпляра. Трудились на удивление методично, не давая себе поблажек, и меньше, чем за год, роман был завершен. Исходным материалом для него послужила хорошо знакомая им школьная жизнь.
В выпускном десятом классе обоим стало не до творчества. Потом Сашка поступил в политех, где занятия начинались в первую смену (истфак занимался во вторую). Увидеться лишний раз было проблематично. Олег через товарища из своей группы и его родителей вышел на литературного сотрудника областного издательства. Тот недели две держал его рукопись у себя, а на после, на личной аудиенции, зачем-то расспрашивал о том, откуда взялся Лапшин, кто надоумил его писать. Сашка прийти не смог, и на все вопросы Олег отвечал один.
«Видите ли, занимательность – это далеко не всё, – глубокомысленно изрек сотрудник. – Вы не обижайтесь, но чего-то вам не хватает. Возможно, какого-то нутряного начала». Олегу было любопытно, что это за нутряное начало и есть ли у него нечто общее с нутрией, однако он благоразумно решил не задавать дополнительных вопросов. Человека из издательства с его витиеватыми рассуждениями Лапшин всерьез не воспринял. Других контактов в литературных кругах у него не было, да и повестка из военкомата подоспела.
Позже он узнал, что его собеседник, оказывается, член Союза писателей, автор очерков про деревню. С деревенскими реалиями Олег был знаком в основном по поездкам в колхоз, на прополку сурепки и уборку картошки. Вряд ли велеречивый сотрудник писал об этом. Сашка с юмором отреагировал на рассказ друга о походе за рецензией. Он увлекся игрой в КВН, и доля романиста его больше не прельщала. Кроме того, выяснилось, что у Сашки обнаружена хроническая болезнь, дающая возможность быть призванным только в случае мировой войны.
После возращения Олега из вооруженных сил их дружба шаг за шагом сошла на нет. Лапшин же, по старинному русскому обычаю, сделал третий заход – уселся за повесть об армейских похождениях. Продвигался медленнее, чем в тандеме с Сашкой, правил и шлифовал более тщательно. Много времени отнимала учеба: наверстывал упущенное за годы службы. А процесс, ангажированный генеральным секретарем ЦК, не стоял на месте – гласность хлынула такой волной, что смела все препоны и барьеры. И собственные наблюдения с откровениями вдруг показались ему мелочными, не достойными чьего-либо внимания…
– Я доверяю вкусу Юлиана, – мягко добавила Валентина Сергеевна. – Конечно, это совсем не мое дело – давать непрошеные советы, но подумайте еще. Не горячитесь.
– Я не горячился, – возразил Олег.
– В юности мы порой принимаем поспешные решения. А знаете, что главное?
– Что?
– Не пожалеть о них через много лет.
«Есть в твоих строчках благородное безумие, старик», – так оценил его недописанную повесть Юлиан. Лапшин давал ему почитать и то, что успел перепечатать, и несколько рукописных глав – как было, с зачеркиваниями и исправлениями.
– Вы о чем-нибудь жалели? – бестактно спросил Олег.
Валентина Сергеевна не обиделась.
– Каждый, кто способен думать, о чем-то иногда жалеет, – ответила она дипломатично.
«Тр-р-р!» – раздался вдруг приглушенный звук.
– Простите, – собеседница Олега открыла сумочку, достала оттуда серебристый мобильник Motorola и выдвинула антенну.
«Ого!» – оценил он. Сотовая связь была сказочно дорогой, обладание такой трубкой считалось признаком крутизны.