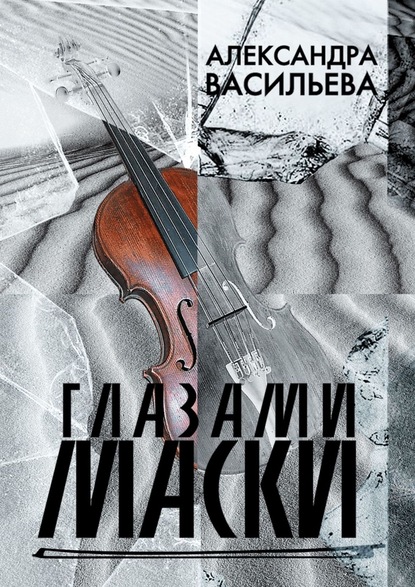По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Глазами маски
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вот это да! – Из глубины зала раздался хриплый смешок.
– Верти? – Угольные глаза Руфуса смотрели настороженно.
– Не подозревал в тебе музыканта, – басом отозвался Верти.
– А где Хэпи?
– Ушел. Даже меня не заметил. Тоже мне, снайпер.
– Кто?
– Ну, стрелок, лучник, много ли разницы… Вальсам его все в одном образе держит. Наказание, наверное,…
– Не может быть… – произнес Руфус, чему-то поражаясь.
– Да Хэпи все равно, – успокоил Верти, – к тому ж Гордаса подстрелил. – Он улыбнулся. – Хэпи не потому ушел, что роль не нравится и обсуждать свою игру ему претит, хотя это отчасти и правда. – Верти закусил губу. – Мы все слишком любим славу, – перебирая в пальцах металлический крест, рассуждал он. – Только слава может отличить нас друг от друга. Каждому отпущена своя мера, та мера и расставляет по ступеням лестницы величия. А величие ведет к бессмертию. – Он коротко вздохнул и развел руками. – Все просто. Все стремятся задержаться здесь подольше, не в сердцах, так хотя бы – в памяти. А ты, значит, играешь?
Руфус снял руки с клавиш, переведя глаза на Верти. В них было удивление:
– Память, – прошептал он. – Ты прав, она сопоставима с вечностью. Но разве это просто?
– А разве нет? Сам посуди. Право на вечность дает талант. Механизм, толкающий нас к славе – это гордость. Без этих двух обстоятельств души задумываться о вечности не имеет смысла. Так ты тоже играешь? – в вопросе послышалась непривычная настойчивость.
– Ну так что с того? – нервная мелодия заскользила громче. Руфус решил уклоняться от прямых объяснений, насколько то будет возможно.
Верти подошел ближе, нагнулся и прошептал Руфусу на ухо:
– Может, покаешься? Выберешь другую сторону? Черное поле душу не спасет. – Он напустил на себя такую важность, словно, говоря это, исповедовал и отпускал грехи.
Руфус вдруг переменился в лице:
– Какие странные слова.
Верти усмехнулся:
– Я погляжу, ты – мастер маскировки. Тебя б на сцену.
– На сцену… – притворно задумался Руфус. – Весь этот пестрый рой актеров мне претит, – пробормотал он раздраженно. – Да и к тому, я и так – на ней. Значит, ты – в игре?
– Играю, – пробасил Верти. Он встал на колени, положив металлический крест на пол рядом с собой, и заиграл на рояле, за которым сидел Руфус. Мелодия в миноре была неподдельно искренней. – А, впрочем, ты прав, и мне претит.
– А что с крестом?
– Я же сказал, играю, – не отрывая рук от клавиш, ответил Верти шепотом.
Руфус молчал, искоса поглядывая то на Верти, то на его крест. Он напряженно о чем-то думал, однако Верти этого не замечал или делал вид, что не замечает.
* * *
Заретта пришла домой. По окнам карабкался холодный ветер, пугая злым дыханием. Он то и дело срывался, как плохой скалолаз, падал в пустой двор и вновь поднимался, цепляясь за водосточные трубы, скользкие подоконники, заглядывал в окна, что-то нашептывал шторам, и те раздувались, подобно парусам, не то от гордости, не то от страха, елозили по карнизам.
– Зима скоро… Завтра начнется… – Заретта села за стол. Перед ней лежала книга, подаренная Элем. – Вот бы перелистать один из четырех сезонов… Не хочу, чтобы была зима…
Привычка думать вслух, будто в комнате кто-то был, у Заретты появилась со смертью отца: так ее утрата становилось незаметнее, и боль притуплялась. Она хотела было открыть книгу, но отдернула руку. «Сегодня был солнечный день, и это небо, цветы немыслимые… А сейчас… Как быстро мы расстались… И все сразу стало таким холодным. Оборванный аккорд…» Она вновь потянулась за книгой, желая на этот раз ее раскрыть, но опять отдернула руку: раздался телефонный звонок.
* * *
– Белое поле тоже душу не спасает, – наконец проговорил Руфус. – Однако тебя я подозревал меньше всего.
Верти прервал свою игру.
– Я – лишь голос за кадром. – Он взял с пола крест и надел его на шею, принявшись рассуждать о насущном. – Если быть честным, пьеса Солы… – Верти скривил губы, и стал похожим на обиженного ребенка.
Руфус решил ему подчиниться и больше не выпадать из контекста привычных тем:
– Ты пишешь лучше?
– Да уж не хуже.
– О! – Взгляд Руфуса упал на металлический крест. – И что же это? Проповеди?
– Какая разница, что? – вздохнул Верти. – Я пишу для себя. Как только я стану писать для других, это будет означать, что я во всем разобрался, и жизнь для меня больше не представляет загадки.
– В жизни всегда должна оставаться загадка, иначе неинтересно будет жить. – глубокомысленно возразил Руфус. – Я думаю, люди начинают писать, как раз чтобы найти ответы на вопросы, а не наоборот, – добавил он серьезно.
Верти задумался:
– Возможно, ты прав. Значит, мне стоит начать писать для других. Я буду задавать вопросы, предлагать на них свои ответы, а те, кто меня станут читать – свои. И так мы добудем истину. – Пара угрожающих аккордов в верхних октавах завершила его мысль.
– Зачем тебе истина? Жизнь – это хороший фокус, зачем его разгадывать? Разве от этого люди, которым ты откроешь тайну, станут счастливее? Вдруг они решат, что смысла нет? По крайней мере, того, что они искали? А вдруг жизнь, смысл которой они наконец поймут, просто перестанет их интересовать?
– Какой ты, оказывается, философ! – Верти попытался рассмеяться, но смех его был неестественным. – Я знаю, что смысл жизни в самой жизни, в ее наличии, в драгоценном опыте, что она дает душе. Точно так же, как об этом знаешь ты.
Угольные глаза Руфуса встретились с кроткими глазами Верти и задержались чуть дольше обычного.
– Мне незачем искать этому подтверждения, но людям нужны доказательства…
– Маскируешься под святого? – не выдержал Руфус. – Выдумал себе светлую миссию?
Как раз в этот момент в зал вошли Хэпи, Гордас и Квентин. Последние держали руки сомкнутыми на груди. По их лицам можно было определить, что они едва переносили присутствие друг друга, и Хэпи тут был живой перегородкой, стеной приличия, сдерживающей их негодование.
– Уф, – выдохнул Руфус. – Ты, Верти, действительно неплохо играешь, раз я тебя раньше не вычислил. – Руфус говорил тихо, и никто из вошедших его слов не услышал.
– Да… но… – Верти поднялся с колен и громко произнес. – Теперь буду реже. Хочу, чтобы вы знали: я ухожу из театра.
– Как? Куда? – не понял Квентин.
– А вы не догадались? – пробасил Верти. – В монастырь.