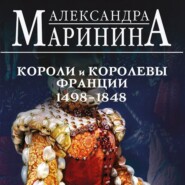По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Чужая маска
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Тебя здесь не обижают? Знаешь, мне рассказывали, что в колониях есть паханы, мужики, шестерки, обиженные, в общем, целая иерархия. И не дай бог впасть в немилость у пахана, тогда совсем жизни не будет, а то и убить могут. Это правда, Женя? Я так боюсь за тебя.
– Правда, Ната, правда, но ты за меня не бойся. Главное в жизни деньги, у кого они есть, тот и пахан. У меня много денег, и не только в Москве, а по всей России и даже за рубежом. Это ни для кого не секрет, деньги у меня законные и конфискации не подлежат. Стало быть, обижать меня никто не станет. Ты у мамы бываешь?
– Конечно, Женечка, каждую неделю захожу и звоню через день. Ты за нее не беспокойся, у нее все в порядке, за тебя только очень переживает.
– Скажи, а там, в Москве, все поверили, что это именно я Бориса убил? Неужели ни одна живая душа не усомнилась?
– Нет, Женечка, никто, кроме меня, не верит, что ты этого не делал. Ну ты сам посуди, ведь тебя все видели, и даже Борис перед смертью сказал, что это ты в него стрелял. И на твоей одежде обнаружили частицы пороха, а на пистолете – микрочастицы твоих шерстяных перчаток, в которых ты обычно в гараже работаешь. Мне же следователь все документы показывал. Как тут не поверить? И я бы поверила, если бы не любила тебя так сильно. Пойми, Женя, я ведь не верю в твою виновность не потому, что улики слабые, а только лишь потому, что не хочу верить. А улики-то на самом деле…
– Я понял, – перебил ее муж. – Значит, ты тоже уверена, что это я убил Бориса. Ты тоже, как и все, считаешь меня убийцей. Ты готова отвернуться от меня. Что ж, валяй, не буду тебя удерживать, устраивай свою жизнь по своему разумению. Только объясни мне, зачем ты замуж за меня вышла в таком случае?
– Но я люблю тебя, неужели ты не понимаешь этого? Мне все равно, убийца ты или нет, виновен ты или нет. Да пусть ты десять раз виновен, пусть ты сто человек убил, ты все равно для меня лучше всех. Хочешь правду? Да, я не верю, что ты не убивал Бориса. Я знаю, что это сделал ты. Но мне это все равно, понимаешь? Мне это безразлично. Я люблю тебя и хочу быть твоей женой совершенно независимо от того, убийца ты или нет. И оттого, что ты сидишь в тюрьме, ты не стал для меня хуже. Я все равно буду тебя любить и буду тебя ждать столько, сколько нужно.
Она обняла мужа и прижалась лицом к его плечу. От черного ватника исходил неприятный запах, но Наталья этого не замечала. Для нее главным сейчас было заставить Евгения поверить.
Он отстранил ее и отступил на шаг.
– Значит, ты тоже не веришь, – задумчиво произнес он. – Очень жаль. Выходит, за свою свободу мне придется сражаться одному. Ты мне не помощница. Что ж, придется биться в одиночку.
Наталья не выдержала напряжения и расплакалась.
– Женечка, я все сделаю, я найму самых лучших адвокатов, я заплачу им, они вытащат тебя…
– Не нужно, я не хочу, чтобы ты занималась моим освобождением, думая, что на самом деле я преступник. Или ты веришь мне и помогаешь, или я буду действовать сам.
– Но, Женя…
– Все, Натка, время кончается, давай прощаться.
Пришел угрюмый конвоир и увел Евгения. Наталья вытерла слезы, умыла лицо под краном, вытерла носовым платком, надела куртку и отправилась на платформу. В городе она будет часов в одиннадцать вечера, даже раньше, а поезд на Москву уходит в 1.45 ночи. Можно еще успеть…
Стоя на холодном ветру и жмурясь от колких крупинок снега, гонимых метелью, она снова и снова вызывала в памяти лицо мужа. Черт возьми, как приятно думать о Евгении Досюкове как о муже! Четыре года она жила с ним, засыпала и просыпалась рядом, кормила его обедами, стирала ему рубашки, ждала по вечерам, когда он уходил на приемы и банкеты без нее. И четыре года она мечтала о том, что в один прекрасный день он все-таки опомнится и сделает ей предложение. А он все не делал его и не делал… И нужно было случиться такой огромной беде, чтобы Евгений Досюков, миллионер, президент акционерного общества «Мегатон», женился на Наталье Гончаренко.
И вот теперь оказывается, что она совсем его не знает. Четыре года они провели бок о бок, а она так и не разглядела в нем ту невероятную силу, которую всегда принимала за удачливость. Наталья была уверена, что суровый приговор сломит Женю, а месяцы, проведенные сначала в следственном изоляторе, потом в колонии, очень быстро превратят его в нравственного калеку, морального урода, больного, слабого, утратившего способность сопротивляться и прочифирившего здоровье и интеллект. А все оказалось совсем не так. Потому что большей неудачи, чем случилась с Женей, нельзя даже придумать, а он собирается бороться за свою свободу, он не опустил рук. И, что самое ужасное, он требует от нее, своей жены, веры в собственную невиновность.
Четыре года Наталья Гончаренко любила в Евгении Досюкове две вещи: его властность и его деньги. И того и другого было так много, что остальное было уже просто невозможно разглядеть. Он был весьма посредственным любовником, он был не особенно красив, чтобы не сказать грубее, у него был порой невыносимый характер, вероятно, имелись и какие-то достоинства, но ничего этого Наталья не видела, потому что ее «угол обзора» охватывал только властность и богатство.
А сейчас, трясясь в холодной грязной электричке и вспоминая короткое трехчасовое свидание с мужем, она впервые почувствовала что-то вроде уважения к нему. К его несгибаемости, воле, мужеству. Ведь кто-кто, а она-то уж совершенно точно знала ответ на вопрос о его виновности.
И в этот момент Наталья вдруг поняла, что ни к какому чернокожему журналисту Джеральду она не пойдет.
Глава 3
В городской прокуратуре убийством писателя Леонида Параскевича занимался следователь Константин Михайлович Ольшанский, и это обстоятельство худо-бедно примиряло Настю с необходимостью заниматься делом автора любовных романов. А заниматься этим делом ей не хотелось по одной-единственной причине, и называлась эта причина – Галина Ивановна Параскевич. Случается, конечно, что у двух человек возникает острая взаимная непереносимость, но с этим вполне можно справиться, потому что коль непереносимость взаимная, то оба стараются максимально ограничить контакты, сделать их по возможности редкими и короткими. Здесь же случай был принципиально иной. Галине Ивановне очень нравилась майор милиции Анастасия Каменская. Впрочем, ей вообще нравились все люди, которым она может читать нотации и объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, и которые безропотно это воспринимают. Настя в силу природной интеллигентности и хорошего воспитания делала вид, что внимательно слушает Галину Ивановну, а та при полном отсутствии критического взгляда на самое себя принимала все за чистую монету.
– Боже мой, как приятно, что в нашей милиции еще остались люди, которые понимают, как нужно…
«Если бы нынешняя молодежь была похожа на вас, мы не знали бы множества бед и проблем…»
«Вот о такой жене, как вы, мечтала я для своего сына…»
Настя впивалась ногтями в ладонь, закусывала губу и терпела. Терпела, потому что сразу поняла: никто не расскажет о Леониде Параскевиче больше, чем его родная мать. Такие матери, как Галина Ивановна, отравляют жизнь собственным детям и их семьям, но зато они, случись несчастье, становятся поистине незаменимыми для следствия, потому что всю жизнь лезут в дела своих детей, знают лично всех их знакомых, постоянно подслушивают телефонные разговоры, и не просто подслушивают, а еще и комментируют их, нимало не смущаясь бестактностью собственного поведения. Они все про всех знают и обо всем имеют абсолютно непререкаемое мнение. Мнением, конечно, можно пренебречь, зато фактуру такие свидетели дают богатую. Если, конечно, у оперативников и следователей хватает терпения и душевных сил подолгу разговаривать с ними. У Насти Каменской терпения было, как говорится, выше крыши, а вот следователь Ольшанский, по его собственному признанию, быстро сдавал позиции. Поэтому он уже несколько раз просил Настю приехать к нему в горпрокуратуру и присутствовать на допросах Галины Ивановны Параскевич.
Константин Михайлович сидел за своим столом, сгорбившись, и что-то быстро печатал на машинке. Бумаги вокруг него возвышались огромными кучами, которые он разбирал один раз в год перед отпуском. Настя заметила, что на носу следователя красуются новые очки, в которых он выглядел значительно лучше, чем в своих стареньких, в чиненой-перечиненой простенькой оправе. Но костюм был по-прежнему мятым, несмотря на все старания жены Нины выпускать Ольшанского по утрам из дому в приличном виде. В момент пересечения порога собственной квартиры вид ежедневно бывал отменным, а в тот момент, когда Константин Михайлович открывал дверь своего служебного кабинета, от этого отменного вида оставалось лишь смутное воспоминание. Природу такого феномена не мог объяснить никто, поэтому с ним просто смирились.
– Привет, красавица, – весело мотнул головой следователь. – Сейчас придет эта мымра, начнем работать над версией убийства из ревности. Так что готовься, Настасья, сил потребуется много. Учитывая патологическую нелюбовь Галины Ивановны к невестке, нам придется выслушать не только правду, но еще и вранье и комментарии к ним. Кстати, пока не забыл, Нина тебе таблетки какие-то передала, вот, держи.
– Спасибо. – Настя радостно выхватила из его рук две упаковки с реланиумом и валиумом.
У нее вечно не хватало времени бегать по аптекам, а поскольку эти лекарства продавались только по рецептам, то нужно было еще предварительно идти к врачу в поликлинику. Это было уж и вовсе за пределами Настиных возможностей. Вечная нехватка времени, помноженная на фантастическую лень и пренебрежение к собственному здоровью, делала задачу приобретения успокоительных препаратов абсолютно нерешаемой. А лекарства порой бывали очень нужны. Хоть и нечасто, но позарез. Слава богу, палочка-выручалочка нашлась в лице Нины Ольшанской, врача-невропатолога. Нина столько лет прожила замужем за следователем, что Настины проблемы понимала очень хорошо и с готовностью пошла ей навстречу.
Константин Михайлович снова оторвался от машинки и поглядел на часы.
– Я вызвал Параскевич на десять тридцать. У тебя есть пятнадцать минут на то, чтобы выпить кофе в буфете, но, предупреждаю, он там невероятно поганый.
– Поганый не хочу, – улыбнулась Настя. – Я лучше здесь посижу. У вас план допроса есть?
– А ты на что? – резонно возразил следователь. – Вот и составь, пока все равно без дела сидишь.
Она послушно достала блокнот и стала вычерчивать схему разговора с Галиной Ивановной Параскевич. Понятно, что всякие гадости о горячо любимой невестке она будет рассказывать с удовольствием, привирая, преувеличивая и снабжая общую картину пикантными подробностями. И точно так же понятно, что сын в ее рассказе предстанет ангелом небесным. А ведь версия убийства из ревности подразумевает как то, что Леонида убил любовник Светланы, так и то, что его мог убить муж или любовник женщины, с которой модный писатель изменял собственной жене, или даже сама такая женщина. Нужно развязать Галине Ивановне язык и вынудить ее рассказывать о сыне так же подробно, как и о невестке.
В верхней части чистого листа Настя написала: «Как вы думаете, Галина Ивановна, не могло ли убийство вашего сына быть убийством из ревности?»
Обведя фразу прямоугольной рамочкой, она начертила от нее две стрелки вниз. В левой части страницы, там, где заканчивалась стрелка, появилась фраза: «Что вы, что вы, у Лени никогда никого не было». Снова стрелка вниз и приписка: «Жать до последнего: почему она в первую очередь подумала о сыне, а не о невестке? Давал повод? Были основания подозревать? И т.д.».
В правой части страницы, параллельно словам «Что вы, что вы…», Настя написала: «Ну, от Светланы всего можно было ожидать». Начертив еще одну стрелку вниз, она поместила краткий комментарий: «Пусть поливает грязью Светлану, не мешать ей, чем больше гадостей она скажет о ней, тем лучше».
Наконец, от фрагментов, написанных в левой и правой частях листа, Настя прорисовала жирные стрелки в центр нижней части странички и написала: «Спросить, откуда Параскевич так хорошо знает женскую психологию, так здорово разбирается в тонких движениях женской души. Высказать предположение, что его консультировала Светлана. Поскольку Г. И. только что поливала невестку грязью, она ни за что не согласится с тем, что С. была соратницей, помощницей и консультантом. Кто угодно, только не ненавистная невестка. Если у Л. П. были женщины, вот тут-то они непременно выплывут».
– Посмотрите, Константин Михайлович. – Настя протянула ему листок со схемой. – Внесите коррективы.
Следователь внимательно прочитал фразы, написанные очень мелким, но разборчивым почерком, и хмыкнул:
– Ну и стерва ты, Каменская.
– Я попрошу, – картинно надулась Настя. – Как сказал великий Чуковский, я не тебе плачу, а тете Соне. Я не вам стерва, а Галине Ивановне. Я понимаю ее горе и от всей души сочувствую ей, но ее сыну, который погиб, прожив короткую и очень несчастливую жизнь под каблуком у тиранки-матери, я сочувствую еще больше. Ему, в конце концов, гораздо хуже, чем ей. Кстати, мы с вами совсем забыли отца Леонида Владимировича. Может быть, имеет смысл с ним поработать?
– Можно попробовать, – неопределенно пожал плечами Константин Михайлович, – но вряд ли толк будет. Владимир Никитич Параскевич под пятой у жены пригрелся и пообвыкся. Он и разговаривать-то захочет только в ее присутствии. Я пару раз пытался найти с ним общий язык – да куда там, он всю шею себе провертел, все на жену оглядывался, боялся, как бы чего невпопад не ляпнуть.
– Да? – задумчиво протянула Настя. – Это любопытно. Я как-нибудь им займусь.
Галина Ивановна Параскевич явилась к следователю с опозданием на десять минут. Когда на часах было 10.34, Ольшанский поднялся из-за стола и пошел к двери.
– Ну все, Галина Ивановна, – злорадно сказал он, – не хотите приходить вовремя – будете ждать, пока я не вернусь. Начинай, Настасья, скажи ей, что я поручил тебе ее допросить. И напугай ее посильнее, скажи, дескать, Константин Михайлович гневаться изволили.
Галина Ивановна Параскевич, казалось, очень обрадовалась, увидев в кабинете Ольшанского Настю.
– Анастасия Павловна, как хорошо, что вы здесь! – воскликнула она, по-хозяйски пристраивая шубу на вешалку и усаживаясь за стол, не дожидаясь приглашения. – Мне так легко всегда с вами разговаривать, не то что с Константином Михайловичем. Вы знаете, мне иногда кажется, что он меня недолюбливает.
– Правда, Ната, правда, но ты за меня не бойся. Главное в жизни деньги, у кого они есть, тот и пахан. У меня много денег, и не только в Москве, а по всей России и даже за рубежом. Это ни для кого не секрет, деньги у меня законные и конфискации не подлежат. Стало быть, обижать меня никто не станет. Ты у мамы бываешь?
– Конечно, Женечка, каждую неделю захожу и звоню через день. Ты за нее не беспокойся, у нее все в порядке, за тебя только очень переживает.
– Скажи, а там, в Москве, все поверили, что это именно я Бориса убил? Неужели ни одна живая душа не усомнилась?
– Нет, Женечка, никто, кроме меня, не верит, что ты этого не делал. Ну ты сам посуди, ведь тебя все видели, и даже Борис перед смертью сказал, что это ты в него стрелял. И на твоей одежде обнаружили частицы пороха, а на пистолете – микрочастицы твоих шерстяных перчаток, в которых ты обычно в гараже работаешь. Мне же следователь все документы показывал. Как тут не поверить? И я бы поверила, если бы не любила тебя так сильно. Пойми, Женя, я ведь не верю в твою виновность не потому, что улики слабые, а только лишь потому, что не хочу верить. А улики-то на самом деле…
– Я понял, – перебил ее муж. – Значит, ты тоже уверена, что это я убил Бориса. Ты тоже, как и все, считаешь меня убийцей. Ты готова отвернуться от меня. Что ж, валяй, не буду тебя удерживать, устраивай свою жизнь по своему разумению. Только объясни мне, зачем ты замуж за меня вышла в таком случае?
– Но я люблю тебя, неужели ты не понимаешь этого? Мне все равно, убийца ты или нет, виновен ты или нет. Да пусть ты десять раз виновен, пусть ты сто человек убил, ты все равно для меня лучше всех. Хочешь правду? Да, я не верю, что ты не убивал Бориса. Я знаю, что это сделал ты. Но мне это все равно, понимаешь? Мне это безразлично. Я люблю тебя и хочу быть твоей женой совершенно независимо от того, убийца ты или нет. И оттого, что ты сидишь в тюрьме, ты не стал для меня хуже. Я все равно буду тебя любить и буду тебя ждать столько, сколько нужно.
Она обняла мужа и прижалась лицом к его плечу. От черного ватника исходил неприятный запах, но Наталья этого не замечала. Для нее главным сейчас было заставить Евгения поверить.
Он отстранил ее и отступил на шаг.
– Значит, ты тоже не веришь, – задумчиво произнес он. – Очень жаль. Выходит, за свою свободу мне придется сражаться одному. Ты мне не помощница. Что ж, придется биться в одиночку.
Наталья не выдержала напряжения и расплакалась.
– Женечка, я все сделаю, я найму самых лучших адвокатов, я заплачу им, они вытащат тебя…
– Не нужно, я не хочу, чтобы ты занималась моим освобождением, думая, что на самом деле я преступник. Или ты веришь мне и помогаешь, или я буду действовать сам.
– Но, Женя…
– Все, Натка, время кончается, давай прощаться.
Пришел угрюмый конвоир и увел Евгения. Наталья вытерла слезы, умыла лицо под краном, вытерла носовым платком, надела куртку и отправилась на платформу. В городе она будет часов в одиннадцать вечера, даже раньше, а поезд на Москву уходит в 1.45 ночи. Можно еще успеть…
Стоя на холодном ветру и жмурясь от колких крупинок снега, гонимых метелью, она снова и снова вызывала в памяти лицо мужа. Черт возьми, как приятно думать о Евгении Досюкове как о муже! Четыре года она жила с ним, засыпала и просыпалась рядом, кормила его обедами, стирала ему рубашки, ждала по вечерам, когда он уходил на приемы и банкеты без нее. И четыре года она мечтала о том, что в один прекрасный день он все-таки опомнится и сделает ей предложение. А он все не делал его и не делал… И нужно было случиться такой огромной беде, чтобы Евгений Досюков, миллионер, президент акционерного общества «Мегатон», женился на Наталье Гончаренко.
И вот теперь оказывается, что она совсем его не знает. Четыре года они провели бок о бок, а она так и не разглядела в нем ту невероятную силу, которую всегда принимала за удачливость. Наталья была уверена, что суровый приговор сломит Женю, а месяцы, проведенные сначала в следственном изоляторе, потом в колонии, очень быстро превратят его в нравственного калеку, морального урода, больного, слабого, утратившего способность сопротивляться и прочифирившего здоровье и интеллект. А все оказалось совсем не так. Потому что большей неудачи, чем случилась с Женей, нельзя даже придумать, а он собирается бороться за свою свободу, он не опустил рук. И, что самое ужасное, он требует от нее, своей жены, веры в собственную невиновность.
Четыре года Наталья Гончаренко любила в Евгении Досюкове две вещи: его властность и его деньги. И того и другого было так много, что остальное было уже просто невозможно разглядеть. Он был весьма посредственным любовником, он был не особенно красив, чтобы не сказать грубее, у него был порой невыносимый характер, вероятно, имелись и какие-то достоинства, но ничего этого Наталья не видела, потому что ее «угол обзора» охватывал только властность и богатство.
А сейчас, трясясь в холодной грязной электричке и вспоминая короткое трехчасовое свидание с мужем, она впервые почувствовала что-то вроде уважения к нему. К его несгибаемости, воле, мужеству. Ведь кто-кто, а она-то уж совершенно точно знала ответ на вопрос о его виновности.
И в этот момент Наталья вдруг поняла, что ни к какому чернокожему журналисту Джеральду она не пойдет.
Глава 3
В городской прокуратуре убийством писателя Леонида Параскевича занимался следователь Константин Михайлович Ольшанский, и это обстоятельство худо-бедно примиряло Настю с необходимостью заниматься делом автора любовных романов. А заниматься этим делом ей не хотелось по одной-единственной причине, и называлась эта причина – Галина Ивановна Параскевич. Случается, конечно, что у двух человек возникает острая взаимная непереносимость, но с этим вполне можно справиться, потому что коль непереносимость взаимная, то оба стараются максимально ограничить контакты, сделать их по возможности редкими и короткими. Здесь же случай был принципиально иной. Галине Ивановне очень нравилась майор милиции Анастасия Каменская. Впрочем, ей вообще нравились все люди, которым она может читать нотации и объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, и которые безропотно это воспринимают. Настя в силу природной интеллигентности и хорошего воспитания делала вид, что внимательно слушает Галину Ивановну, а та при полном отсутствии критического взгляда на самое себя принимала все за чистую монету.
– Боже мой, как приятно, что в нашей милиции еще остались люди, которые понимают, как нужно…
«Если бы нынешняя молодежь была похожа на вас, мы не знали бы множества бед и проблем…»
«Вот о такой жене, как вы, мечтала я для своего сына…»
Настя впивалась ногтями в ладонь, закусывала губу и терпела. Терпела, потому что сразу поняла: никто не расскажет о Леониде Параскевиче больше, чем его родная мать. Такие матери, как Галина Ивановна, отравляют жизнь собственным детям и их семьям, но зато они, случись несчастье, становятся поистине незаменимыми для следствия, потому что всю жизнь лезут в дела своих детей, знают лично всех их знакомых, постоянно подслушивают телефонные разговоры, и не просто подслушивают, а еще и комментируют их, нимало не смущаясь бестактностью собственного поведения. Они все про всех знают и обо всем имеют абсолютно непререкаемое мнение. Мнением, конечно, можно пренебречь, зато фактуру такие свидетели дают богатую. Если, конечно, у оперативников и следователей хватает терпения и душевных сил подолгу разговаривать с ними. У Насти Каменской терпения было, как говорится, выше крыши, а вот следователь Ольшанский, по его собственному признанию, быстро сдавал позиции. Поэтому он уже несколько раз просил Настю приехать к нему в горпрокуратуру и присутствовать на допросах Галины Ивановны Параскевич.
Константин Михайлович сидел за своим столом, сгорбившись, и что-то быстро печатал на машинке. Бумаги вокруг него возвышались огромными кучами, которые он разбирал один раз в год перед отпуском. Настя заметила, что на носу следователя красуются новые очки, в которых он выглядел значительно лучше, чем в своих стареньких, в чиненой-перечиненой простенькой оправе. Но костюм был по-прежнему мятым, несмотря на все старания жены Нины выпускать Ольшанского по утрам из дому в приличном виде. В момент пересечения порога собственной квартиры вид ежедневно бывал отменным, а в тот момент, когда Константин Михайлович открывал дверь своего служебного кабинета, от этого отменного вида оставалось лишь смутное воспоминание. Природу такого феномена не мог объяснить никто, поэтому с ним просто смирились.
– Привет, красавица, – весело мотнул головой следователь. – Сейчас придет эта мымра, начнем работать над версией убийства из ревности. Так что готовься, Настасья, сил потребуется много. Учитывая патологическую нелюбовь Галины Ивановны к невестке, нам придется выслушать не только правду, но еще и вранье и комментарии к ним. Кстати, пока не забыл, Нина тебе таблетки какие-то передала, вот, держи.
– Спасибо. – Настя радостно выхватила из его рук две упаковки с реланиумом и валиумом.
У нее вечно не хватало времени бегать по аптекам, а поскольку эти лекарства продавались только по рецептам, то нужно было еще предварительно идти к врачу в поликлинику. Это было уж и вовсе за пределами Настиных возможностей. Вечная нехватка времени, помноженная на фантастическую лень и пренебрежение к собственному здоровью, делала задачу приобретения успокоительных препаратов абсолютно нерешаемой. А лекарства порой бывали очень нужны. Хоть и нечасто, но позарез. Слава богу, палочка-выручалочка нашлась в лице Нины Ольшанской, врача-невропатолога. Нина столько лет прожила замужем за следователем, что Настины проблемы понимала очень хорошо и с готовностью пошла ей навстречу.
Константин Михайлович снова оторвался от машинки и поглядел на часы.
– Я вызвал Параскевич на десять тридцать. У тебя есть пятнадцать минут на то, чтобы выпить кофе в буфете, но, предупреждаю, он там невероятно поганый.
– Поганый не хочу, – улыбнулась Настя. – Я лучше здесь посижу. У вас план допроса есть?
– А ты на что? – резонно возразил следователь. – Вот и составь, пока все равно без дела сидишь.
Она послушно достала блокнот и стала вычерчивать схему разговора с Галиной Ивановной Параскевич. Понятно, что всякие гадости о горячо любимой невестке она будет рассказывать с удовольствием, привирая, преувеличивая и снабжая общую картину пикантными подробностями. И точно так же понятно, что сын в ее рассказе предстанет ангелом небесным. А ведь версия убийства из ревности подразумевает как то, что Леонида убил любовник Светланы, так и то, что его мог убить муж или любовник женщины, с которой модный писатель изменял собственной жене, или даже сама такая женщина. Нужно развязать Галине Ивановне язык и вынудить ее рассказывать о сыне так же подробно, как и о невестке.
В верхней части чистого листа Настя написала: «Как вы думаете, Галина Ивановна, не могло ли убийство вашего сына быть убийством из ревности?»
Обведя фразу прямоугольной рамочкой, она начертила от нее две стрелки вниз. В левой части страницы, там, где заканчивалась стрелка, появилась фраза: «Что вы, что вы, у Лени никогда никого не было». Снова стрелка вниз и приписка: «Жать до последнего: почему она в первую очередь подумала о сыне, а не о невестке? Давал повод? Были основания подозревать? И т.д.».
В правой части страницы, параллельно словам «Что вы, что вы…», Настя написала: «Ну, от Светланы всего можно было ожидать». Начертив еще одну стрелку вниз, она поместила краткий комментарий: «Пусть поливает грязью Светлану, не мешать ей, чем больше гадостей она скажет о ней, тем лучше».
Наконец, от фрагментов, написанных в левой и правой частях листа, Настя прорисовала жирные стрелки в центр нижней части странички и написала: «Спросить, откуда Параскевич так хорошо знает женскую психологию, так здорово разбирается в тонких движениях женской души. Высказать предположение, что его консультировала Светлана. Поскольку Г. И. только что поливала невестку грязью, она ни за что не согласится с тем, что С. была соратницей, помощницей и консультантом. Кто угодно, только не ненавистная невестка. Если у Л. П. были женщины, вот тут-то они непременно выплывут».
– Посмотрите, Константин Михайлович. – Настя протянула ему листок со схемой. – Внесите коррективы.
Следователь внимательно прочитал фразы, написанные очень мелким, но разборчивым почерком, и хмыкнул:
– Ну и стерва ты, Каменская.
– Я попрошу, – картинно надулась Настя. – Как сказал великий Чуковский, я не тебе плачу, а тете Соне. Я не вам стерва, а Галине Ивановне. Я понимаю ее горе и от всей души сочувствую ей, но ее сыну, который погиб, прожив короткую и очень несчастливую жизнь под каблуком у тиранки-матери, я сочувствую еще больше. Ему, в конце концов, гораздо хуже, чем ей. Кстати, мы с вами совсем забыли отца Леонида Владимировича. Может быть, имеет смысл с ним поработать?
– Можно попробовать, – неопределенно пожал плечами Константин Михайлович, – но вряд ли толк будет. Владимир Никитич Параскевич под пятой у жены пригрелся и пообвыкся. Он и разговаривать-то захочет только в ее присутствии. Я пару раз пытался найти с ним общий язык – да куда там, он всю шею себе провертел, все на жену оглядывался, боялся, как бы чего невпопад не ляпнуть.
– Да? – задумчиво протянула Настя. – Это любопытно. Я как-нибудь им займусь.
Галина Ивановна Параскевич явилась к следователю с опозданием на десять минут. Когда на часах было 10.34, Ольшанский поднялся из-за стола и пошел к двери.
– Ну все, Галина Ивановна, – злорадно сказал он, – не хотите приходить вовремя – будете ждать, пока я не вернусь. Начинай, Настасья, скажи ей, что я поручил тебе ее допросить. И напугай ее посильнее, скажи, дескать, Константин Михайлович гневаться изволили.
Галина Ивановна Параскевич, казалось, очень обрадовалась, увидев в кабинете Ольшанского Настю.
– Анастасия Павловна, как хорошо, что вы здесь! – воскликнула она, по-хозяйски пристраивая шубу на вешалку и усаживаясь за стол, не дожидаясь приглашения. – Мне так легко всегда с вами разговаривать, не то что с Константином Михайловичем. Вы знаете, мне иногда кажется, что он меня недолюбливает.