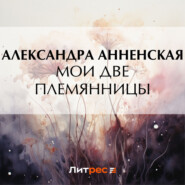По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Повести и рассказы для детей
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жени нехотя достала свои тетради, нехотя подала их брату, нехотя слушала его объяснения. Да это было и ему все равно: он говорил не для нее, не для того, чтобы учить ее, a сам для себя, чтобы развлечь себя. Боре давно бессознательно хотелось того же; он подошел к брату и также заговорил сначала об арифметических задачах Жени, a потом о чем-то совсем постороннем. И Митя, и Жени поддерживали разговор, лучше говорить что-нибудь, о чем-нибудь, только не молчать, только опять не думать, не чувствовать того, что так тяжело думалось и чувствовалось за несколько минут перед тем.
A Вера по-прежнему стояла молча одна.
Громкие звуки их голосов прогнали ужас, охвативший ее, и он сменился едкой печалью: ей вдруг ясно представилось, как много раз огорчала она мать, какой неблагодарностью платила она за ее заботы, как часто холодно принимала ее ласки, – и ей до боли захотелось этих ласк, и казалось ей, что теперь она сумела бы оценить их. О, если бы можно было вернуть прошлое, если бы не существовало этого страшного «никогда», – как сильно, как нежно любила бы она мать, как старалась бы она на каждом шагу угождать ей, предупреждать ее желания, и как со своей стороны полюбила бы ее мать, как часто называла бы она ее своим сокровищем, своим утешением! A теперь! Кто когда-нибудь полюбит ее? Из всех окружающих одна мать относилась к ней нежно, сочувственно. Она, правда, не была любимой дочкой, как Жени; Борю также мама любила больше ее, но все же и ее любила, a теперь? – Теперь ее уже и совсем не кому любить!
Девочка опустила голову на грудь и крупные капли слез омочили ее новое траурное платье.
На следующее утро Митя и Боря пошли в гимназию, более молчаливые и грустные, чем обыкновенно, но отчасти с облегченным сердцем: те тяжелые чувства, какие они испытывали в последние дни, были так для них непривычны и так мучительны, что им бессознательно хотелось поскорей отбросить их, поскорей забыть свое первое серьезное горе в кругу товарищей, среди обычных занятий, мелких забот, шумных игр. Жени также пошла в гимназию, но прежде чем выйти из дому, ей пришлось горько поплакать: ее передник оказался не вычищенным, у нее не нашлось ни одной пары чистых нарукавничков.
– Отчего вы мне с вечера не сказали, барышня, что вам приготовить, – отвечала горничная на ее упреки, – a я-то и не подумала!
Слезы брызнули из глаз девочки. «Не подумала! Конечно, с какой стати горничная станет думать, заботиться о ней! Но кто же о ней подумает, позаботится? Неужели никто? Мама всегда говорила, что она еще мала, что время забот для нее еще не скоро придет, и вот оно пришло, пришло так неожиданно! Мама, милая мама, зачем она умерла?.. Как тяжело жить без нее!»
Вера осталась одна дома. Андрей Андреевич с раннего утра ушел со двора; прислуга, наскоро убрав комнаты, удалилась в кухню; ничто не нарушало уединения девочки. В доме всегда было тихо по утрам, пока дети были в гимназии, но это не была такая мертвая тишина, как теперь. Вера всегда занималась уроками, сидя одна в комнате, но тогда она знала, что стоит ей отворить дверь – и она увидит мать; стоит ей прислушаться – и она услышит голос той же матери, разговаривающей с кем-нибудь из домашних, всегда готовой отвечать на всякий ее вопрос. A теперь – все двери отворены, нигде ни души; из кухни долетают временами звуки голосов, хохот людей, очевидно чужих, мало ей сочувствующих. Чувство одиночества и какой-то заброшенности сжало сердце девочки. Она села у своего столика и попробовала заняться уроками. Но учебники оказались ей еще более сухими и безынтересными, чем обыкновенно. С тех пор как Боря ходил в гимназию и она одна брала уроки у учителя, ее прилежание значительно уменьшилось, соревнование с братом не подстрекало более, a учение само по себе никогда не казалось ей привлекательным. Она сидела перед открытой книгой, машинально повторяя латинские слова, a в голове и на сердце ее была тяжесть…
Вдруг до слуха ее долетел слабый, жалобный крик. Она не сразу догадалась, откуда это; не сразу вспомнила, что кроме нее в доме есть еще ребенок – ее маленький новорожденный братец. Среди хлопот и горя, вызванных болезнью и смертью Софьи Павловны, о малютке мало заботились. Ему наняли кормилицу, отвели маленькую комнатку и затем никто о нем не думал. Вера видела его мельком, раза два, и мало интересовалась им. Теперь, из любопытства, от скуки, ей захотелось посмотреть на него. Она прошла в комнатку, предназначенную Пете. Кормилицы там не было; в маленькой, значительно потертой колыбельке пищало и барахталось крошечное человеческое существо; своими беспокойными и бессмысленными движениями малютка свернул простыню и одеяло, в которое был завернут, так что они упали ему на лицо, оставив тельце его до половины открытым; руки его беспомощно протягивались во все стороны. Вера осторожно открыла его личико, закутала его в одеяльце, и вдруг маленькая, сморщенная, красненькая рожица разгладилась, малютка перестал пищать, и Вере показалось, что он глядит на нее с благодарностью. Она села подле колыбельки и стала тихонько качать ее; маленькие глазки закрылись, ребенок заснул. Вера продолжала сидеть и глядеть на него; если она уйдет от него, он останется опять один; чужая женщина, взявшаяся заботиться о нем, не любит его, ей скучно сидеть с ним, и она его бросает; любящей матери у него нет и никогда, никогда не узнает он ее ласки; при этой мысли слезы навернулись на глаза Веры, слезы жалости к бедному, беспомощному крошке, лежавшему подле нее. «Жени плакала сегодня, что о ней некому позаботиться, – думала она, – и всем нам будет худо без мамы, но мы все-таки уже довольно большие, а как же будет жить он, такой крошка? Как мама заботилась о маленьких братьях! Как часто она целые дни нянчилась с ними, не спала ночи из-за них! Для него никто не будет этого делать… Когда у Жени был круп, доктор говорил, что только мамины заботы могли спасти ее. A если заболеет Петя? Его никто не станет спасать, да, может быть, никто и не пожалеет о нем. Папа всегда говорит, что не любит совсем маленьких детей, на Петю он даже и смотреть не хочет».
Грустные мысли Веры были прерваны приходом кормилицы. Она видимо сконфузилась, что ее поймали на небрежном исполнении обязанностей, и заговорила с Верой заискивающим, сладеньким голоском:
– Что, барышня, братца пришли понянчить? Что же – это хорошо, понянчите! Он ведь сиротиночка, бедненький, a вы ему старшая сестрица, заместо матери можете быть.
«Вместо матери? В самом деле? Неужели она, в самом деле, может заменить мать этому крошечному созданию?? Да отчего же нет! Она уже начинает любить его». И Вера не слушала дальнейших разглагольствований кормилицы, объяснявшей ей причину своего долгого отсутствия из детской и все трудности своего занятия; новый ряд мыслей и чувств, вызванных случайно брошенными словами этой женщины, вполне овладел ею.
Она так часто грустила о своем одиночестве, о своей как она мысленно называла, «заброшенности», о недостатке любви к себе во всех окружающих, и вот, перед ней существо, еще более заброшенное, еще более нуждающееся в любви! Что, если она даст ему эту любовь? Не отплатит ли он ей тем же, когда в состоянии будет чувствовать и понимать? Она будет для него матерью и он полюбит ее, как сын, так же, как она любила свою мать, даже больше, потому что мать делила свою привязанность между многими, оставляя на ее долю меньшую часть, a она отдаст все свое сердце этому крошке, он будет ее единственной заботой, единственной привязанностью, a она также станет для него единственной любовью…
– Вот хоть и маленький человек, – тараторила между тем кормилица: – a дела за ним не мало; ведь все я сама должна – ни кухарка, ни горничная ни в чем не помогают: давеча пеленки стирала, теперь надо бы их покатать, a как мне уйти, ребенка одного оставить? Кухня далеко – заплачет я и не услышу! Да вот еще и приданого ему мало наготовлено; распашоночки маменька скроила, да видно сшить не успела; всего четыре штучки и есть, a с этим далеко не уйдешь.
– Дай я пошью, – предложила Вера, которой нетерпеливо хотелось начать исполнение своих материнских обязанностей, – ты иди в кухню, катай пеленки, a я буду здесь сидеть и шить; когда Петя проснется, я тебя позову.
– Ах, барышня, умница! – обрадовалась кормилица, – вот уж добрая сестрица – о братце заботится!
Она сунула Вере начатую работу и, продолжая расхваливать ее, с видимым удовольствием воспользовалась возможностью улизнуть из детской.
Вера опять осталась одна у колыбели. Она прилежно принялась за шитье и в то же время беспрестанно поглядывала на ребенка. Он спал так тихо и спокойно, что дыхания его почти не было слышно; несколько раз Вере казалось, что он даже совсем перестал дышать; ей становилось страшно – не умер ли он, и она с тревогой наклонялась над ним, прислушивалась к его дыханию; солнце заглянуло в комнату и луч его упал прямо на колыбельку. Вера поспешно опустила штору и задернула занавески колыбельки. Первый раз в жизни заботилась она не о себе, a о другом, работала не для себя, a для другого.
Глава VII
С этих пор Вера большую часть дня проводила в маленькой комнатке, сидя у колыбели Пети. Кормилица была этому, конечно, очень рада и, под предлогом стирки белья малютки, просиживала целыми часами в кухне, вовсе не заботясь о своем питомце. Вера охраняла его сон, укачивала его, когда он просыпался и начинал плакать, тихонько пела над ним те колыбельные песенки, каким выучилась от матери. Сначала никто в доме не обращал внимания на ее новое времяпрепровождение, потом все к этому привыкли и не мешали ей. Одно время только ей казалось, что у нее отнимут это новое занятие, дававшее цель и интерес ее жизни; но опасность скоро миновала. Опасность эта грозила со стороны особы, которая, в сущности, никому не могла внушить страха. Для присмотра за хозяйством и за детьми, Андрей Андреевич пригласил к себе одну свою дальнюю родственницу. Анна Матвеевна Крамская, очень добродушная и чувствительная старая дева, с восторгом приняла предложение заменить мать осиротелым малюткам. Ее неприятно поразило, что двое из этих малюток, Митя и Боря, перерос ли ее на целую голову и оказались вполне неспособными к нежно-грустным сценам. При первых слезливых словах ее об ужасном несчастии, поразившем их, мальчики ушли от нее и завели такой шумный, громкий разговор, что ей поневоле пришлось замолчать. Она решила сосредоточить свою нежность на девочках: они были не так велики, смотрели грустно в своих траурных платьицах, a при воспоминании о матери, слезы навертывались на глазах их. И вот Анна Матвеевна принялась ласкать и хвалить их.
– Женичка, – говорила она сладеньким голосом: – скушай еще булочку, a то проголодаешься в гимназии. – Осторожней пей чай, ангелочек, он горячий – не обожгись! – Верочка, отойди, миленькая, от окошечка – простудишься! Что ты такая бледненькая, дружочек, не болит ли голова?
Жени с большим удовольствием поддалась такому обращению. Она позволяла Анне Матвеевне студить свой чай, суп, кутать себя в разные платки и душегрейки, набивать свои карманы сластями, одевать и причесывать себя как куколку. Ей приятно было, что ее ласкали, баловали, что желания ее предупреждали, что она могла опять, как при матери, жить ни о чем не заботясь, ни о чем не думая, кроме удовольствий. Вера отнеслась к Анне Матвеевне совершенно иначе; ей шел уже тринадцатый год, она оскорблялась, когда с ней обращались как с маленькой девочкой. Сладенький, жалостливо-покровительственный тон тетки сразу внушил ей отвращение. Она резко уклонилась от ее ласк и, с первого же дня стала самым решительным образом выказывать свою самостоятельность. Анна Матвеевна удивлялась и оскорбилась, но не сразу отказалась от своего намеренья «отогреть лаской бедную сиротку».
– Веруша, тебе скучно одной, – говорила она: – хочешь я посижу с тобой, почитаю тебе что-нибудь, покажу картинки?
– Я учу уроки, – сухо отвечала девочка.
– Верочка, мой ангел, скушай пастилку, я для тебя купила, – предлагала она.
– Благодарю вас, я не люблю пастилы, – отказывалась Вера.
– Что, моя бедненькая, – начинала Анна Матвеевна со слезами в голосе: – тяжело жить сиротой, без маменьки родной?
Вера вскакивала с места и быстро уходила в другую комнату: она не могла выносить приторных сожалений Анны Матвеевны о ее матери, с которой та едва была знакома; воспоминание о покойнице возбуждало в ней едкую печаль, глубокое горе; ей тяжело было вызывать эти воспоминания на минуту, между прочим, разговором, с тем, чтобы, пролив несколько слезинок, быстро перейти от них к другим более приятным предметам.
Анва Матвеевна не понимала ее чувств и в душе называла ее холодной, черствой. Маленький Петя явился также одной из причин разлада между девочкой и теткой. Анна Матвеевна, конечно, захотела распространить и на него свою материнскую заботливость. Это было крайне неприятно для Веры: она уже привыкла мечтать, что одна будет любить и воспитывать Петю, что и он привяжется к ней, к ней одной, и вдруг – чужая женщина осыпает его ласками, распоряжается в его комнате, хлопочет об его удобствах, a она не имеет права прогнать эту женщину, вырвать у нее из рук малютку. К ее попечениям о нем Анна Матвеевна относилась снисходительно, как к игре ребенка, не придавая им никакого серьезного значения, и даже, – о оскорбление! – предложила ей один раз понянчить вместо Пети большую Женину куклу. Вера негодовала и злилась, но Анна Матвеевна встречала все ее сердитые выходки таким невозмутимым добродушием, что девочка положительно приходила в отчаяние. На ее счастье, у нее явилась неожиданная союзница, которая помогла ей удалить Анну Матвеевну от Пети. Союзницей этой была кормилица. Она сразу поняла, что для нее гораздо выгоднее и приятнее разделять заботы о малютке с девочкой, стремящейся отдать всю себя новому интересному делу, чем с взрослой женщиной, которая потребует от нее строгого исполнения ее обязанностей. Присутствие в детской новой хозяйки было для нее так же неприятно, как для Веры, хотя по другим причинам, и она с первого же дня восстала против него.
– Уж вы, сударыня, не беспокойтесь о Петеньке, – говорила она Анне Матвеевне, – мне не первого ребенка растить. Слава Богу! Пятеро своих было, да четверо чужих выкормила. Мне Андрей Андреевич его поручил, я за него я отвечаю, я его и сберегу.
На всякое замечание Анны Матвеевны относительно ухода за ребенком, у нее находилось резкое возражение.
– У вас детей не было, вы и не знаете, как с ними обращаться, лучше бы не мешались не в свое дело, – ворчала она и, наконец, с притворными слезами объявила: – Как угодно Андрею Андреевичу, a я так жить не могу. Мне ребенка поручали, говорили, что я ему должна быть заместо матери, a теперь за всяким шагом следят: то это не так, то другое не так… Коли я дурна, так я уйду, нянчитесь сами с ребенком!
Анна Матвеевна терпеть не могла ссор, домашних неприятностей. Она чувствовала, что кормилица отчасти права: действительно, ей никогда не приходилось воспитывать таких крошек как Петя, она была совершенно несведуща в этом деле, да и не находила его вовсе интересным. Чтобы не раздражать кормилицу и избавиться от ее дерзких выходок, она стала редко заглядывать в детскую, предоставила Петю его судьбе и ограничила свои заботы хозяйством да уходом за Жени. Против Веры она не чувствовала озлобления: это было бы слишком противно ее добродушной натуре. Она просто решила в уме, что это холодная жесткая девочка, недоступная нежности, что от нее лучше держаться подальше и не стеснять ее свободы, которой она, по-видимому, дорожит больше всего на свете.
Эта перемена обращения была как нельзя больше по душе Вере. Когда она заметила, что Анна Матвеевна не преследует ее непрошенным ухаживанием и состраданием и не мешает оставаться одной с Петей, ее неприязненное чувство исчезло; она стала замечать, что, благодаря заботливой хозяйке, в доме восстановляется прежний порядок, нарушенный смертью матери; что ей и братьям не приходится беспрестанно страдать от разных мелких неудобств, предотвратить которые они не умели; что к Жени возвратилась ее прежняя беззаботная веселость – тогда она не выказывала своих чувств словами, но в душе была благодарна за все это Анне Матвеевне и, со своей стороны, старалась не делать ей неприятностей.
Таким образом, в семье господствовали мир и согласие, хотя напрасно было бы искать настоящей дружбы между ее членами. После смерти жены, Андрей Андреевич стал реже сидеть дома, принимать меньше участия в домашних делах, Старших детей он еще иногда ласкал, расспрашивая о занятиях, старался потешить каким-нибудь подарком или неожиданным развлечением, но на Петю не обращал ни малейшего внимания. Митя и Боря аккуратно посещали гимназию, a дома или занимались уроками, или приглашали к себе товарищей, или же сами уходили к ним; от сестер они все больше и больше удалялись, на том основании, что с «девчонками стыдно возиться» большим мальчикам. Жени все свободное время проводила с Анной Матвеевной, которая и забавляла ее играми, и помогала ей готовить уроки и выезжала с ней в гости. Вера все реже и реже отходила от Пети. Она выпросила позволение спать в одной с ним комнатке и положительно превратилась в его няньку. Дело, которым она начала заниматься случайно, от скуки, все более и более привлекало ее. Она первая увидела улыбку ребенка, его первый сознательный взгляд; ее голос мог успокоить его среди самого сильного плача; он протягивал к ней руки, как только она подходила к нему, и от нее неохотно шел даже к кормилице. Все это наполняло сердце девочки такой радостью, какой она не испытывала до тех пор, и вознаграждало ее за все ее заботы о малютке. A забот этих было не мало: хотя Петя хворал и капризничал реже других детей своего возраста, но все-таки Вере часто приходилось не спать целую ночь, помогая кормилице нянчить его, или целые часы держать на руках, придумывая для него забавы, которые могли бы заставить его забыть какую-нибудь тревожившую его боль. И, странное дело! – девочка, до сих пор только о том и думавшая, как бы заслужить похвалу и одобрение окружающих, теперь и в мыслях не имела перед кем-нибудь похвастаться своей материнской нежностью к брату. Она очень удивилась бы, даже может быть обиделась бы, если бы кто-нибудь вздумал хвалить ее за заботы о Пете. Что за дело другим до этих забот? Ведь это ее брат, ее ребенок, она не спит по ночам, когда он болен, она успокаивает его, когда он плачет, потому что его болезнь, его слезы огорчают и тревожат ее, – за что же ее хвалить?
Занятая своими материнскими обязанностями, Вера не могла отдавать книгам так много времени как прежде. Она не только перестала готовить двойные и тройные уроки, но даже часто и заданное выучивала нетвердо. Эта перемена огорчала и раздражала учителя. Он не раз делал строгие выговоры своей ученице и старался по-прежнему подстрекать ее тщеславие. Но теперь это не часто удавалось ему. Вера не отказалась от своего желания превзойти братьев умом и знаниями, но она забывала об этом желании всякий раз, как голос Пети призывал ее к колыбельке. Ее огорчали выговоры учителя, но, чтобы избежать их, она не могла учить урок, когда Петя протягивал к ней ручонки, когда она знала, что ее отказ поиграть с ним вызовет у него долгие и горькие слезы. Действовать на нервную, впечатлительную девочку наказаниями, как он действовал на своих других учеников, учитель не решался, между тем, тщеславие не подстрекало более ее прилежания, и он был в совершенном недоумении, чем заставить ее заниматься. «Всегда говорил, что беда учить девочек, – ворчал он про себя, – никакого с нее толку не может быть, хоть отказаться от урока!»
На помощь учителю явился счастливый случай, показавший ему, что не только страх и тщеславие могут возбуждать прилежание.
У Пети стали прорезываться зубы; он побледнел, захирел, потерял аппетит, проводил ночи без сна, жалобно пищал по целым часам.
– Ничего, это к зубам, это всегда так бывает, – успокаивала Веру кормилица.
Зубы прорезались, a ребенок все не поправлялся. Анна Матвеевна не видела его несколько дней; она испугалась, заметив, как он похудел и ослабел за эти дни.
– Мамка говорит, что так всегда бывает, когда у детей прорезываются зубы, – объяснила ей Вера.
– Да, и я это слыхала, – подтвердила она: – a все лучше бы послать за доктором.
Пригласили знакомого доктора; он осмотрел ребенка и посоветовал обратиться к специалисту по детским болезням. На другой день они приехали оба вместе. Специалист долго осматривал и ощупывал Петю, прописал несколько рецептов, дал несколько предписаний кормилице и с благоговением слушавшей его Анне Матвеевне. Затем он, нахмуренный, видимо чем-то недовольный, вышел в другую комнату, вместе со своим сотоварищем, Вера тихонько прокралась за ними и, спрятавшись в уголку, жадно прислушивалась к их словам.
– Болезнь, в сущности, пустая, – заметил специалист: – но очень запущена; за ребенком, очевидно, никто не наблюдает, не следит.
– Что вы хотите? – отвечал другой доктор: – у него нет матери, он предоставлен попечениям кормилицы, тупой, необразованной деревенской бабе, которая, при веем желании, не может разумно ухаживать за ним.
– Да, это видно. Знаете, я даже отказывался лечить детей при таких условиях, – не стоит труда. Одними лекарствами ничего нельзя сделать, если нет около ребенка знающего человека, который сколько-нибудь разумно воспитывал бы его.
Они обменялись еще несколькими незначительными словами и затем ушли, не заметив бледной маленькой фигурки, следившей за ними с широко раскрытыми глазами, с посинелыми от страха губами.
Что такое сказали они? За Петей никто не наблюдает, его не стоит труда лечить? Он на попечении глупой бабы? A она-то что? Ее забот никто и не заметил, ее бессонные ночи, ее беспокойные дни, ее слезы, ее тревога, ее любовь – все это ничего, все это не приносит никакой пользы ребенку? Не смотря на все это, его жизнь устроена так дурно, что он не может быть здоров, что никакие лекарства не спасут его от смерти?..
Она вернулась в детскую. Анны Матвеевны там не было. Петя спал неспокойным, тревожным сном. Увидев девочку, кормилица пробормотала какое-то извинение и вышла из комнаты. Вера опустилась на колени у кровати и, уткнувшись лицом в подушку, на которой покоилась голова ребенка, зарыдала.
«О, как это ужасно тяжело! Зачем она так мала, так глупа и несведуща! Отчего не может она быть тем знающим человеком, который, как говорит доктор, умеет воспитывать детей! Она умеет любить не меньше всякого умного, знающего человека, но вся любовь ее ни к чему, вся эта любовь не даст ребенку здоровья, не сохранит его жизнь!» – Так думала девочка.