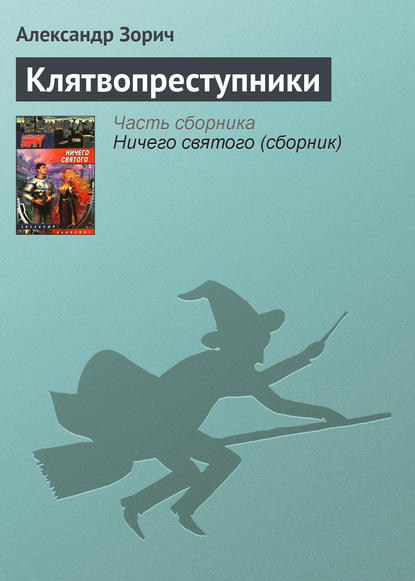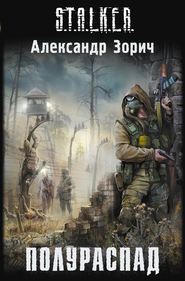По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Клятвопреступники
Автор
Год написания книги
1994
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Клятвопреступники
Александр Зорич
«Мастер кинокошмара Альфред Хичхок утверждал: для того чтобы снять хороший триллер, режиссеру достаточно иметь в своем распоряжении симпатичную блондинку и хорошего композитора. Может быть, по-настоящему страшные рассказы трудно писать именно потому, что ни блондинок, ни композиторов писателю на подмогу не присылают. Сложно выразить средствами литературы тревожащие шорохи и зловещие шепоты так, чтобы к финалу читательское сердце сковала ледяным панцирем неподдельная жуть. Сложно балансировать на грани между кошмарным сном и зыбкой явью, сложно заставить героя по-настоящему бояться. И неудивительно, что немногие писатели отваживаются писать о страхе и трепете, хотя тех, кто все же отваживался, читатель нередко увенчивал лаврами непревзойденных. Такова судьба Эдгара По, Говарда Лавкрафта, Стивена Кинга…»
От автора
Мастер кинокошмара Альфред Хичхок утверждал: для того чтобы снять хороший триллер, режиссеру достаточно иметь в своем распоряжении симпатичную блондинку и хорошего композитора. Может быть, по-настоящему страшные рассказы трудно писать именно потому, что ни блондинок, ни композиторов писателю на подмогу не присылают. Сложно выразить средствами литературы тревожащие шорохи и зловещие шепоты так, чтобы к финалу читательское сердце сковала ледяным панцирем неподдельная жуть. Сложно балансировать на грани между кошмарным сном и зыбкой явью, сложно заставить героя по-настоящему бояться. И неудивительно, что немногие писатели отваживаются писать о страхе и трепете, хотя тех, кто все же отваживался, читатель нередко увенчивал лаврами непревзойденных. Такова судьба Эдгара По, Говарда Лавкрафта, Стивена Кинга.
«Клятвопреступники» – единственный рассказ, написанный мною в стиле «хоррор». Как ни странно, в стране первородного ужаса и случайных совпадений я чувствовал себя довольно уверенно – видимо, Черный Маг в моей душе изрядно окреп во времена, когда единственным жанром, в котором я работал, был жанр героической фэнтези, где никак не обойтись без темных магий. Действие рассказа «Клятвопреступники» происходит в мире Сармонтазары, его герои – гарнизонные офицеры, то есть люди, по роду своих занятий не склонные к излишней чувствительности. Удалось ли мне заставить циничных офицеров ощутить душой черную изнанку солнечного дня – об этом судить читателю.
Клятвопреступники
Выцветшая, с низким шелушащимся потолком спальня офицера харренской армии Хаулапсила Хармадета освещалась солнцем не хуже теплицы с земляникой. Да и душно в ней было тоже, как в теплице, только вместо земляники пахло чабрецом и полынью. Эти запахи занесло сюда с холмов сквозняком.
Сам Хаулапсил, кстати сказать, занимавший весь нижний этаж казенного флигеля, сидел, акробатически скрестив ноги, на полу и рассеянно поглаживал четырьмя пальцами (пятый был прихотливо отогнут, на нем не хватало двух фаланг) ворс потертого ковра местного декора – рыбы, каракатицы, раковины, похожие на пирожные.
Он ожидал, когда принесут обед, хотя был совсем не голоден – обедать полагалось по гарнизонному распорядку.
Последние семь дней он с замечательным фанатизмом принялся следовать Уставу, с которым никто из офицеров на острове Тигма почти не считался – все предпочитали следовать распорядку. Над ним посмеивались. Но Хаулапсил будто не слышал – у него были свои резоны для рвения.
Хаулапсил остервенело проверял посты, не забывая даже о тех, что располагались в шести часах ходьбы от казарм.
Гонял упражняться солдатню, убивающую время за игрой в лам и любовным надругательством над грязными, в репьях, овцами. Обнаружилось, что гимнастические брусья многие солдаты, особенно первого года службы, видят впервые. Ясное дело, в их родных деревнях никаких брусьев не было.
Попутно Хаулапсил осматривал языки служилых – в лагере строжайше воспрещалось сосать медок, сладостно-отвратительную субстанцию, сваренную из кошмаров, инопутешествий и оргазмов, после приобщения к которой, помимо концерта в голове и дрожи икроножных мышц, оставалась эдакая дорожка на языке – бело-желтая, слизистая, зловонная.
Запрет на медок нарушали все, включая самого Хаулапсила. Медок был самым популярным на Тигме средством борьбы со свободным временем. С небольшим отрывом за ним следовали пьянство и игра в лам.
За медок полагалось тридцать плетей. В первый же день Хаулапсил выписал тысячу семьсот десять плетей. Тридцать своих он честно прибавил к этой цифре «в уме».
Но все эти армейские труды не приносили ни облегчения, ни той усталости, от которой хочется заснуть дня на три-четыре. Заснуть получалось, только пососав медка. Благо в подполье в сухой жестяной коробке этого месива было хоть заешься.
Как только Хаулапсил закрывал глаза, его темная спальня начинала зудеть на басах, словно располагалась в брюхе гигантского комара, у которого от тревоги сделалось несварение. Но как только сладость растекалась по пищеводу вниз, страх и тревога отступали. Обычные страх и тревога дельфинами уплывали в закат, они казались такими же неуместными на Тигме, как, например, элегантно наряженные женщины. Однажды Хаулапсилу пригрезилось, что он женится на рыбе.
Сквозняк рванул занавеси на окнах. Хаулапсил нервически содрогнулся, но быстро взял себя в руки. Он сделал над собой усилие и не обернулся. Он же все-таки офицер, не лавочник.
Мягко ступая, в спальню вошел Ори, чахоточный, щуплый слуга Хаулапсила.
Он нес блюдо с двумя жареными сельдями, аккуратно выложенными так, что голова одной приходилась вровень с хвостом другой. Такое расположение казалось Ори вершиной кулинарного эстетизма, тем более уместного, что своего хозяина он считал эстетом.
Всю прошедшую неделю, справедливо опасаясь нагоняя от хозяина, который, сразу видно, был не в духах, Ори ходил по струнке, являя наглядный пример того, как нервозность господ опосредованно взвинчивает челядь. За прошедшую неделю Ори проиграл в лам свое жалованье на четыре месяца вперед – а все потому, что после службы у него дрожали руки. Вдобавок он снова начал кашлять кровью.
Ори поставил поднос на пол. Подле доставленного блюда с сельдями обнаружились два кувшина – с водой и вином. Ори подобострастно промямлил что-то про «здоровьичко» и аппетит и, давясь мокротой, испарился.
Когда слуга ушел, Хаулапсил встал с ковра, но тут же, прихватив блюдо и меньший кувшин, повалился на ложе, ремни которого натужно застонали. Он вытянул затекшие от неудобного сидения ноги. В глазах у Хаулапсила стояли слезы.
Облокотившись о стену, он поднес кувшин к губам, сделал два полных глотка. Слезы как будто высохли. Или вкатились обратно. Хаулапсил вяло попробовал кушанье.
Кислое, от плохой лозы вино никак не сочеталось с пресной нежностью рыбьего мяса. Тонкие, противные кости кололи язык, жалили десны. Хаулапсил ненавидел рыбу. Но баранину он ненавидел вдвойне.
Во-первых, баранина воняла мускусом, и никакими специями этого запаха вытравить не удавалось. А во-вторых, как можно есть то, что трахают твои солдаты?
Сельдь была горькой, сухой, теплой. Хаулапсил наклонился к краю кровати и сплюнул кашицу на пол.
«Уж лучше бы они трахали селедку!»
Ухватив вторую непочатую сельдь за жирную спинку, Хаулапсил зашвырнул ее в окно, зарешеченное связанными в узлах лыком ивовыми прутьями. Не достигнув прутьев, рыба распалась на куски.
«Хоть бы не поскользнуться теперь», – поморщился Хаулапсил.
Покончив с обедом, он почувствовал облегчение. И, прихватив другой кувшин, с водой, перебрался на веранду.
Половину крытой камышом веранды занимал продолговатый резервуар для игры в лам.
Стенки резервуара были отлиты из разнотолстого стекла. Их поверхность покрывали стеклянные сосочки, напоминавшие ледяные бородавки.
Стол, что рядом с резервуаром, был запружен сталагмитами фишек.
Неряшливые столбцы заваливались набок, аккуратные – росли в небо башенками, некоторые образовывали арки и пирамидки. Все это было щедро присыпано пылью и сухими листьями. Ори к уборке стола не допускался, сам Хаулапсил, слывший аккуратистом, не убирал там уже неделю.
Фишки для лама были выточены из малахита, розового нефрита и бирюзы. Это был подарок отца как раз к отъезду Хаулапсила на острова.
«Это главное, что тебе там понадобится», – таков был отцовский комментарий. Тогда Хаулапсилу показалось, что отец шутит. Тогда он был уверен: главное, что нужно офицеру, – это именной кинжал, компанейские товарищи и верность присяге.
Хаулапсил опорожнил кувшин, дополняя до черты воду в резервуаре. За ночь ее порядочно убыло. Испарилась.
Не дожидаясь, пока с поверхности исчезнет рябь – что выдавало отсутствие желания играть, – Хаулапсил машинально пробубнил семейное заклинание на удачный бросок, но, нетерпеливо оборвав его на полуслове, стал метать в воду фишки.
Фишки, словно в отместку за такое небрежение к принятым в игре условностям, ложились на размеченное мозаичное дно резервуара как попало.
В конце концов, не заняв ни одного из заветных полей, Хаулапсил швырнул неистраченные фишки на стол. Зыбкое равновесие нарушилось, арки, столбики и сталагмиты разъехались по столу. «Вид на Пиннарин после землетрясения», – сострил Хаулапсил. Засмеяться было некому.
Бросив лам, Хаулапсил вышел на казарменный двор, поглядывая вокруг в поисках занятия или, быть может, собеседника. Никого. Ничего.
«…смар» – было вычерчено чем-то тупоконечным в серой пыли.
«Есмар» – предположил Хаулапсил, как вдруг услышал: «Они, наверное, опаздывают!»
Это был голос Есмара, на удивление сметливого денщика и, по слухам, любовника одного из его приятелей-офицеров.
Есмар на варанский манер не стриг волос, хотя всегда тщательно подпоясывался, следя за тем, чтобы складки на рубахе ложились правильно и рельефно. Даже ценой многих усилий такого результата удавалось добиться отнюдь не каждый раз. Сегодня удача улыбнулась Есмару. Хаулапсил сделал ему комплимент.
«Они опаздывают, сами видите, ветер не тот!» – пояснил Есмар.
Хаулапсил вздрогнул. Он сразу понял, о ком идет речь, догадался, кто скрывается под безликим местоимением. Кто такие эти «они».
Так чахоточник Ори мгновенно испускал сочувственный вздох, узнав о ком-нибудь, что тот заплатил золотом за мешок проса. Просом кормили перепелок. Жир перепелки помогал при кровотечениях. Так по крайней мере считалось. «Они» – это, без сомнения, смена. Двести семь солдат и шестнадцать офицеров.
Есмар говорил еще долго: перечислял, кого знает из смены (он тайком прочел списки, которые принес почтовый альбатрос), строил предположения, шутил. Однако имя, лишившее Хаулапсила сна, заведшее его в закуты дурманного иллюзиона, имя офицера, поставленного командовать сменой, Есмар не произнес. Вряд ли он знал это имя. А может, забыл. А вот Хаулапсил не забыл.
Александр Зорич
«Мастер кинокошмара Альфред Хичхок утверждал: для того чтобы снять хороший триллер, режиссеру достаточно иметь в своем распоряжении симпатичную блондинку и хорошего композитора. Может быть, по-настоящему страшные рассказы трудно писать именно потому, что ни блондинок, ни композиторов писателю на подмогу не присылают. Сложно выразить средствами литературы тревожащие шорохи и зловещие шепоты так, чтобы к финалу читательское сердце сковала ледяным панцирем неподдельная жуть. Сложно балансировать на грани между кошмарным сном и зыбкой явью, сложно заставить героя по-настоящему бояться. И неудивительно, что немногие писатели отваживаются писать о страхе и трепете, хотя тех, кто все же отваживался, читатель нередко увенчивал лаврами непревзойденных. Такова судьба Эдгара По, Говарда Лавкрафта, Стивена Кинга…»
От автора
Мастер кинокошмара Альфред Хичхок утверждал: для того чтобы снять хороший триллер, режиссеру достаточно иметь в своем распоряжении симпатичную блондинку и хорошего композитора. Может быть, по-настоящему страшные рассказы трудно писать именно потому, что ни блондинок, ни композиторов писателю на подмогу не присылают. Сложно выразить средствами литературы тревожащие шорохи и зловещие шепоты так, чтобы к финалу читательское сердце сковала ледяным панцирем неподдельная жуть. Сложно балансировать на грани между кошмарным сном и зыбкой явью, сложно заставить героя по-настоящему бояться. И неудивительно, что немногие писатели отваживаются писать о страхе и трепете, хотя тех, кто все же отваживался, читатель нередко увенчивал лаврами непревзойденных. Такова судьба Эдгара По, Говарда Лавкрафта, Стивена Кинга.
«Клятвопреступники» – единственный рассказ, написанный мною в стиле «хоррор». Как ни странно, в стране первородного ужаса и случайных совпадений я чувствовал себя довольно уверенно – видимо, Черный Маг в моей душе изрядно окреп во времена, когда единственным жанром, в котором я работал, был жанр героической фэнтези, где никак не обойтись без темных магий. Действие рассказа «Клятвопреступники» происходит в мире Сармонтазары, его герои – гарнизонные офицеры, то есть люди, по роду своих занятий не склонные к излишней чувствительности. Удалось ли мне заставить циничных офицеров ощутить душой черную изнанку солнечного дня – об этом судить читателю.
Клятвопреступники
Выцветшая, с низким шелушащимся потолком спальня офицера харренской армии Хаулапсила Хармадета освещалась солнцем не хуже теплицы с земляникой. Да и душно в ней было тоже, как в теплице, только вместо земляники пахло чабрецом и полынью. Эти запахи занесло сюда с холмов сквозняком.
Сам Хаулапсил, кстати сказать, занимавший весь нижний этаж казенного флигеля, сидел, акробатически скрестив ноги, на полу и рассеянно поглаживал четырьмя пальцами (пятый был прихотливо отогнут, на нем не хватало двух фаланг) ворс потертого ковра местного декора – рыбы, каракатицы, раковины, похожие на пирожные.
Он ожидал, когда принесут обед, хотя был совсем не голоден – обедать полагалось по гарнизонному распорядку.
Последние семь дней он с замечательным фанатизмом принялся следовать Уставу, с которым никто из офицеров на острове Тигма почти не считался – все предпочитали следовать распорядку. Над ним посмеивались. Но Хаулапсил будто не слышал – у него были свои резоны для рвения.
Хаулапсил остервенело проверял посты, не забывая даже о тех, что располагались в шести часах ходьбы от казарм.
Гонял упражняться солдатню, убивающую время за игрой в лам и любовным надругательством над грязными, в репьях, овцами. Обнаружилось, что гимнастические брусья многие солдаты, особенно первого года службы, видят впервые. Ясное дело, в их родных деревнях никаких брусьев не было.
Попутно Хаулапсил осматривал языки служилых – в лагере строжайше воспрещалось сосать медок, сладостно-отвратительную субстанцию, сваренную из кошмаров, инопутешествий и оргазмов, после приобщения к которой, помимо концерта в голове и дрожи икроножных мышц, оставалась эдакая дорожка на языке – бело-желтая, слизистая, зловонная.
Запрет на медок нарушали все, включая самого Хаулапсила. Медок был самым популярным на Тигме средством борьбы со свободным временем. С небольшим отрывом за ним следовали пьянство и игра в лам.
За медок полагалось тридцать плетей. В первый же день Хаулапсил выписал тысячу семьсот десять плетей. Тридцать своих он честно прибавил к этой цифре «в уме».
Но все эти армейские труды не приносили ни облегчения, ни той усталости, от которой хочется заснуть дня на три-четыре. Заснуть получалось, только пососав медка. Благо в подполье в сухой жестяной коробке этого месива было хоть заешься.
Как только Хаулапсил закрывал глаза, его темная спальня начинала зудеть на басах, словно располагалась в брюхе гигантского комара, у которого от тревоги сделалось несварение. Но как только сладость растекалась по пищеводу вниз, страх и тревога отступали. Обычные страх и тревога дельфинами уплывали в закат, они казались такими же неуместными на Тигме, как, например, элегантно наряженные женщины. Однажды Хаулапсилу пригрезилось, что он женится на рыбе.
Сквозняк рванул занавеси на окнах. Хаулапсил нервически содрогнулся, но быстро взял себя в руки. Он сделал над собой усилие и не обернулся. Он же все-таки офицер, не лавочник.
Мягко ступая, в спальню вошел Ори, чахоточный, щуплый слуга Хаулапсила.
Он нес блюдо с двумя жареными сельдями, аккуратно выложенными так, что голова одной приходилась вровень с хвостом другой. Такое расположение казалось Ори вершиной кулинарного эстетизма, тем более уместного, что своего хозяина он считал эстетом.
Всю прошедшую неделю, справедливо опасаясь нагоняя от хозяина, который, сразу видно, был не в духах, Ори ходил по струнке, являя наглядный пример того, как нервозность господ опосредованно взвинчивает челядь. За прошедшую неделю Ори проиграл в лам свое жалованье на четыре месяца вперед – а все потому, что после службы у него дрожали руки. Вдобавок он снова начал кашлять кровью.
Ори поставил поднос на пол. Подле доставленного блюда с сельдями обнаружились два кувшина – с водой и вином. Ори подобострастно промямлил что-то про «здоровьичко» и аппетит и, давясь мокротой, испарился.
Когда слуга ушел, Хаулапсил встал с ковра, но тут же, прихватив блюдо и меньший кувшин, повалился на ложе, ремни которого натужно застонали. Он вытянул затекшие от неудобного сидения ноги. В глазах у Хаулапсила стояли слезы.
Облокотившись о стену, он поднес кувшин к губам, сделал два полных глотка. Слезы как будто высохли. Или вкатились обратно. Хаулапсил вяло попробовал кушанье.
Кислое, от плохой лозы вино никак не сочеталось с пресной нежностью рыбьего мяса. Тонкие, противные кости кололи язык, жалили десны. Хаулапсил ненавидел рыбу. Но баранину он ненавидел вдвойне.
Во-первых, баранина воняла мускусом, и никакими специями этого запаха вытравить не удавалось. А во-вторых, как можно есть то, что трахают твои солдаты?
Сельдь была горькой, сухой, теплой. Хаулапсил наклонился к краю кровати и сплюнул кашицу на пол.
«Уж лучше бы они трахали селедку!»
Ухватив вторую непочатую сельдь за жирную спинку, Хаулапсил зашвырнул ее в окно, зарешеченное связанными в узлах лыком ивовыми прутьями. Не достигнув прутьев, рыба распалась на куски.
«Хоть бы не поскользнуться теперь», – поморщился Хаулапсил.
Покончив с обедом, он почувствовал облегчение. И, прихватив другой кувшин, с водой, перебрался на веранду.
Половину крытой камышом веранды занимал продолговатый резервуар для игры в лам.
Стенки резервуара были отлиты из разнотолстого стекла. Их поверхность покрывали стеклянные сосочки, напоминавшие ледяные бородавки.
Стол, что рядом с резервуаром, был запружен сталагмитами фишек.
Неряшливые столбцы заваливались набок, аккуратные – росли в небо башенками, некоторые образовывали арки и пирамидки. Все это было щедро присыпано пылью и сухими листьями. Ори к уборке стола не допускался, сам Хаулапсил, слывший аккуратистом, не убирал там уже неделю.
Фишки для лама были выточены из малахита, розового нефрита и бирюзы. Это был подарок отца как раз к отъезду Хаулапсила на острова.
«Это главное, что тебе там понадобится», – таков был отцовский комментарий. Тогда Хаулапсилу показалось, что отец шутит. Тогда он был уверен: главное, что нужно офицеру, – это именной кинжал, компанейские товарищи и верность присяге.
Хаулапсил опорожнил кувшин, дополняя до черты воду в резервуаре. За ночь ее порядочно убыло. Испарилась.
Не дожидаясь, пока с поверхности исчезнет рябь – что выдавало отсутствие желания играть, – Хаулапсил машинально пробубнил семейное заклинание на удачный бросок, но, нетерпеливо оборвав его на полуслове, стал метать в воду фишки.
Фишки, словно в отместку за такое небрежение к принятым в игре условностям, ложились на размеченное мозаичное дно резервуара как попало.
В конце концов, не заняв ни одного из заветных полей, Хаулапсил швырнул неистраченные фишки на стол. Зыбкое равновесие нарушилось, арки, столбики и сталагмиты разъехались по столу. «Вид на Пиннарин после землетрясения», – сострил Хаулапсил. Засмеяться было некому.
Бросив лам, Хаулапсил вышел на казарменный двор, поглядывая вокруг в поисках занятия или, быть может, собеседника. Никого. Ничего.
«…смар» – было вычерчено чем-то тупоконечным в серой пыли.
«Есмар» – предположил Хаулапсил, как вдруг услышал: «Они, наверное, опаздывают!»
Это был голос Есмара, на удивление сметливого денщика и, по слухам, любовника одного из его приятелей-офицеров.
Есмар на варанский манер не стриг волос, хотя всегда тщательно подпоясывался, следя за тем, чтобы складки на рубахе ложились правильно и рельефно. Даже ценой многих усилий такого результата удавалось добиться отнюдь не каждый раз. Сегодня удача улыбнулась Есмару. Хаулапсил сделал ему комплимент.
«Они опаздывают, сами видите, ветер не тот!» – пояснил Есмар.
Хаулапсил вздрогнул. Он сразу понял, о ком идет речь, догадался, кто скрывается под безликим местоимением. Кто такие эти «они».
Так чахоточник Ори мгновенно испускал сочувственный вздох, узнав о ком-нибудь, что тот заплатил золотом за мешок проса. Просом кормили перепелок. Жир перепелки помогал при кровотечениях. Так по крайней мере считалось. «Они» – это, без сомнения, смена. Двести семь солдат и шестнадцать офицеров.
Есмар говорил еще долго: перечислял, кого знает из смены (он тайком прочел списки, которые принес почтовый альбатрос), строил предположения, шутил. Однако имя, лишившее Хаулапсила сна, заведшее его в закуты дурманного иллюзиона, имя офицера, поставленного командовать сменой, Есмар не произнес. Вряд ли он знал это имя. А может, забыл. А вот Хаулапсил не забыл.
Другие электронные книги автора Александр Зорич
Другие аудиокниги автора Александр Зорич
Полураспад




 4.5
4.5
Боевая машина любви




 4.67
4.67
Время – московское!




 4.67
4.67
Люби и властвуй




 3.67
3.67
Без пощады




 4.67
4.67