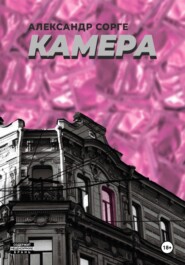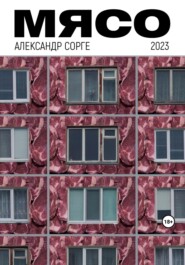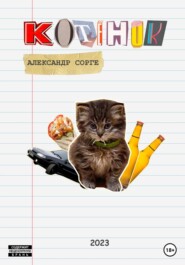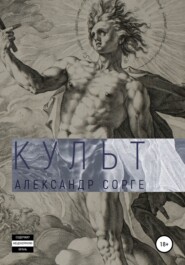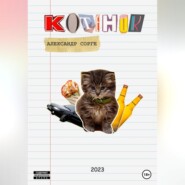По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Angst
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Жизнь современного артиста превратилась в прогулку по минному медиаполю. Шаг в сторону: неосторожно брошенная фраза, двусмысленный жест – и тебя тут же разорвет взрывом народного негодования. Собственное мнение, отличное от общепринятого, становится тяжким крестом: один гвоздь в руку тебе забьют феминистки, второй – всевозможные сексуальные «меньшевики». Ну а если совсем все плохо, то и «цензурион» на государственной службе проткнет острой пикой твое сердце и выпишет штрафик за неподобающую лексику.
Смех смехом, но карательные отряды борцов за социальную справедливость денно и нощно следят за знаменитостями, патрулируя интернет. Любой грешок фиксируется и заносится в «расстрельный список» – специальное место на Tumblr под названием your fave is problematic. Tumblr вообще парашное место, но этот блог – просто фекальный алмаз. Коричневая цитадель маразма, ведущая войну на истощение со здравым смыслом, бойцы которой направо и налево клеймят селебов «проблемными». Нет, не за то, что они издают тошнотворные звуки своей гортанью под фанеру. И даже не за то, что отменяют концерты и втирают себе в соски запрещенные (в Российской Федерации) вещества. А, например, за неправильную татуировку. Серьезно, Рианна попала в список из-за крохотной татуировки на арабском языке: якобы певица «апроприирует арабскую культуру». Сладкоголосых мальчиков из One Direction заклеймили за то, что они выступали в куртках с японской символикой, а Тейлор, мать ее, Свифт – за то, что в 12 лет у нее были африканские косички. Личное досье же Дональда Гловера (он же Сhildish Gambino) вообще начинается со слов SO MUCH MISOGYNY! Ну и конечно же, со скрупулезностью агентов Штази подсчитывается, кто сколько раз упомянул слово «нигер», «ретард» или «гомосек».
Сегодня всем вообще плевать, какой контент ты делаешь. Главное, чтобы ты говорил правильные и корректные вещи, а автотюн вывезет. Ярким примером этому является Евровидение, где из разных сортов говна с помощью хитрого голосования судей (которое может свести на нет оценки зрителей) выбирается наиболее угнетаемый исполнитель с правильным текстом. Голливудские продюсеры давно уже просекли, что политкорректность стала залогом коммерческого успеха, и именно поэтому пихают чернокожую азиатку-трансгендера в каждый второй фильм. Плевать, что это никак художественно не оправдано, главное – угодить всем. Творческие премии вроде «Оскара» и Нобелевки по литературе превратились не в признание заслуг актера или писателя, а манифест, декларацию партийного курса. Но давайте начистоту: это же ложь! Артисту или творцу уже нельзя называть вещи своими именами, а нужно врать, врать всеми силами, чтобы никого не обидеть. Только вот от такой пастеризации любой продукт становится пресным.
И вроде бы ничего страшного – ну тешатся бесноватые со своими списочками, что с того. Однако сегодня политкорректность и толерантность все чаще становятся поводом заткнуть кому-нибудь рот. Мнение зловонной человеческой массы под названием «прогрессивная общественность» уже давно привлекает жирных навозных мух – политиканов и коммерсантов, а значит, и диктует тренды и нормы. Ренегаты, которые дерзнули высказать свое мнение, отличное от общепринятого, как тот же Канье Уэст, смешиваются с грязью. И это довольно забавно – наблюдать, как разъяренная толпа линчевателей с факелами и вилами перекинула свое внимание со всевозможных меньшинств на тех, кто в это меньшинство не входит. В 16-м веке шельмовали ведьм, в 21-м – «проблемных» артистов.
Помимо абстрактного общественного недовольства это может вылиться во вполне себе конкретные меры. Два бывших сотрудника Facebook рассказали изданию Gizmodo, что редакторы раздела Trending News (топ самых обсуждаемых материалов) могли влиять на наполнение раздела. В частности, они систематически убирали новости республиканских медиа о консервативных политиках. А завтра рептилоид Цукерберг может дать разнарядку, что этот вот артист – слишком «проблемный», и перестанет показывать посты с его именем в вашей ленте. И теперь расскажите мне, чем такая тирания толерантности отличается от любой другой: и там и там прилизанная картинка с улыбающимися лицами, которая к реальности не имеет совершенно никакого отношения. Не нравятся фильмы прямолинейного режиссера или альбомы артиста-самодура? Не смотрите, не слушайте, вы даже вправе призывать свою паству закрыть глаза и уши. Но запрещать что-либо только потому, что кинолента недостаточно политкорректна и задевает чьи-то чувства, которые и аршином-то не измерить, – это уже перебор.
В толерантности и политкорректности нет ничего плохого, пока они не превращаются в идеологию – в кувалду, которая лупит по зубам и выступает как инструмент цензуры. Да, цензура в искусстве нужна. Но это должна быть самоцензура художника, внутренний голос, а не внешний, который из-за плеча говорит ему: «Давайте-ка сгладим здесь, вот это уберем, а это заменим». А иначе получается уже не искусство, а пропаганда, дешевая агитка. И совершенно неважно, что будет рекламировать эта агитка – туалеты для трансгендеров и легальную травку или же ржавые скрепки и святую воду.
«Искренне и истинно только искусство». Правда в том, что если ты будешь учтивым, объективным и корректным, то ты будешь выдавать лишь постное дерьмо. Сглаживать углы, пытаться обтекать те или иные темы, чтобы, не дай бог, кого не обидеть – это значит лукавить в диалоге со своим зрителем, слушателем или читателем. Это значит идти на компромисс, из-за которого теряется зерно любого искреннего творчества – самовыражение. Искусство и творчество не обязаны быть понятными и корректными. И если поэт, писатель или публицист упомянул в своем тексте слово «пидор», значит, там должно стоять именно слово «пидор», а не «гей», «гомосексуал» или еще какая-нибудь срань.
05.07.18
Я вошёл арку, откуда лился белый свет: издалека, во тьме двора, она казалась гораздо более сияющей. За ней открылось жёлтое небо, в котором огромные, исполинские бетонные колонны держали узел, сплетение транспортных виадуков. Над одной дорогой висела другая, спустив щупальца съездов к земле. А перед ними лежала третья: узкая улица, что отделяла бурлящее шоссе от жилых домов. Особенно осторожным нужно быть творцам, что выбирают для работы такой опасный материал, как текст: удивительно, сколько ненависти, истерик и проблем возникает из-за слов. Причем, подчас сказанных совершенно незнакомым нам человеком.
Новый век дал нам возможность мгновенно высекать свои мысли практически везде, но не поменял наше отношение к слову: многие до сих пор искренне верят, что брошенная неосторожным свайпом фраза может ударить так же больно, как и шлакоблок. Горюя по такой ценной свободе слова, мы одновременно творим из этих самых слов культ: отливаем буквы в бетоне, делаем их тяжеловесными и неповоротливыми. А фразы, что громоздятся из этих блоков, становятся монументальными мегалитами, но никак не «просто словами». Так может быть главный враг свободы слова – это мы сами?
Тяжесть слова
О том, почему свободе слова нет места в России. Пока что.
Пиздеть, как известно – не мешки ворочать. Особенно сегодня, когда наши извилины ежесекундно омываются тёплыми волнами беспроводного интернета. Достаточно нажать лишь пару виртуальных клавиш, и ваше ценнейшее мнение разлетится по всей земле, создавая рябь на поверхности мирового инфоокеана. В особо прогрессивных странах вас даже не будут бить за это камнями и сжигать на костре! Этим то мы и пользуемся, каждый день изрыгая тысячи слов в соцсетях и мессенджерах. Слов стало слишком много, отчего они просто обесценились. Мы стали проще относиться к тому, что вылетает как из нашего, так и из чужого рта: стендапы становятся фривольнее, новости лживее, а обещания ненадежнее. Словоблудие и медиапроституция блогеров уже не вызывают ни удивления, ни возмущения, ведь «это просто слова». Подчас эти самые слова становятся легче воздуха, ведь от них остается лишь пустая оболочка: для некоторых признаться в любви или дать обет всё равно, что выкурить сигарету. И вроде бы такая инфляция слова – процесс печальный, однако, как говорится, «поверьте, здесь не всё так однозначно».
Всю историю государства российского по праву можно считать историей становления цензуры: первый список запрещенных книг – «Изборник 1073 года», появился за 100 лет до первого русского литературного памятника – «Слова о полку Игореве». С тех пор тебя нельзя было назвать четким самодержцем, если ты не внес свою лепту в славное дело цензуры. Петр Великий разделил цензуру на духовную и светскую, при Екатерине II ревизия литературы стала не только предварительной, но и централизованной. Это почти уничтожило всех провинциальных издателей, ведь книжицы отныне надобно было обязательно отправлять либо в Петербургский, либо в Московский комитеты. Ну а Павел I провел реформы, которые окончательно придали цензурному ведомству облик «своеобразной машины, продуманной до деталей». В Великобритании, для сравнения, примерно в это же время (1792 год) был принят «Акт Фокса», с которого начался плавный демонтаж цензуры в печати. Как говаривал классик, «что нужно Лондону, то рано для Москвы». Если война с Турцией всегда считалась признаком здоровой внешней политики Российской Империи, то война с вольнодумством – политики внутренней. После короткого перерыва на октябрьский краснознаменный кутёж, всё вернулось на круги своя. Сразу после прихода к власти, большевики издали декрет «О печати», который запретил всю гнилую «буржуазную прессу». А в 1922 году возник Главлит, который почти 80 лет разливал одну единственную «Правду» по ГОСТу и определял, что печатать можно, а что нельзя. Борьба с вольнодумством переросла в борьбу с инакомыслием, ведь отныне существовало лишь два мнения: официальное и наказуемое.
Вся эта многовековая запретительная канитель, а также обилие ведомств полиции мыслей, от цепных сотрудников которых можно было получить по зубам не только за дерзкий памфлет, но и за идеологически-неверный анекдот, привело к тому, что у человека, родившегося на самом лучшем куске земли «от тайги до британских морей» формировалось совершенно особенное отношение к слову. Слова у нас увесисты как брусок булатной стали, из них мастера литературного ремесла льют свои монументальные памятники. Слишком уж долго они облагались тяжелой барщиной, отчего слова стали дорогим ресурсом: за них часто платили свободой, а иногда и кровью. Золото для нас совсем не молчание, а именно слова и раз уж ты расходуешь это золото, то отвешиваешь его ровно столько, сколько нужно, прекрасно осознавая цену каждого лишнего грамма. Думать можно всё, что угодно, но, если ты решил облечь свои мысли в плоть текста или фразы, значит, на то есть важная необходимость, и в каждое слово ты вкладываешь строго определённый смысл. Причем, неважно, где эти слова произносятся: на трибуне ли, или на прокуренной кухне. Оттого литераторы подчас нам кажутся святыми, чьи имена если и произносят, то только с благоговейным придыханием.
Властимущие, естественно, не в счет: они всегда обладали монополией не только единственно-верную трактовку событий, но и на поставки золотоносной руды, которой они щедро осыпали головы подданных, даже если в ней не было ни крупицы правды. Правда, и цена этой госруды всегда была не выше гроша. При этом, власть всегда чувствовала реальный вес слова, вернее даже, вес реального слова, поэтому всегда так боялась лишиться этой самой монополии. Оттого то создала целый пантеон серебряных поэтов-мучеников, оттого выдавливала Довлатовых с Бродскими, оттого и ссылала Солженицыных с Сахаровыми. Поэтому принимает все эти абсурдные законы об оскорблении царского величия. Ведь, казалось бы, ты серьёзный дядя с тремя подбородками, гаремом эскорниц и бюджетным Майбахом – какое тебе дело до того, что простолюдины там внизу говорят? Но дяде до этого есть дело, ибо дядя прекрасно понимает: если кинет какой-нибудь бесноватый писака свою литературную оглоблю в народ, так народ эту тяжеленую оглоблю подымет, да и к стенам белокаменным пойдет.
За русское слово даже сегодня можно получить кулаком в дышло, пером в бочину или и вовсе сесть на казенную бутылку, поэтому и обращаться с таким тяжелым предметом приходится аккуратно. Нам порою кажется, что каждый, аки Доктор Стрендж, может словом менять вокруг себя реальность, а древнеиудейское заклинание avda kedavra – «что сказано, должно быть сделано» и впрямь работает. Оттого базар, как и руду, нужно тщательно фильтровать: острая шутка вполне может быть приравнена к колюще-режущему. Лишних же слов на ветер бросать никак нельзя, поэтому то «счастье любит тишину», а о сокровенных мечтах говорить не стоит – не сбудутся. Да, времена меняются, меняется и курс слова. Но вседозволенность западных скоморохов, для которых слова – это просто слова, у многих до сих пор вызывает возмущение, ведь есть вещи, над которыми смеяться совсем нельзя и темы, на которые не шутят. Рэп-баттлы часто воспринимаются как прелюдия к поножовщине и многие искренне не могут понять, почему артисты на самом деле не кровные враги и почему после баттла жмут друг другу руки и едут домой кушать чебупели, а не бьют друг-другу лица.
При этом все так плачут по свободе слова, которую якобы хоронят чиновники и силовики, не замечая, что лопаты то не в руках аппаратчиков, а в наших собственных. Свобода слова рождается не на страницах законов, биллей и конституций, она рождается в голове – это сила говорить даже тогда, когда за слова придется заплатить высокую цену. Только вот высокой эту цену подчас делают не цензура, не псы государевы и не крысы-стукачи. Цену мы устанавливаем сами, когда вдруг начинаем наделять обычные слова магическими свойствами, насмерть биться из-за них и делать тяжелее чушки чугуна: какой смысл орать про свободу слова в стране, где за это самое слово могут спросить, а то и отвесить живительных тумаков?
Хотим ли мы, нравится ли нам это, но подлинная свобода слова подразумевает под собой инфляцию этого слова, его обесценивание и «олегчание». Да, эта монета имеет два стороны, но мы обязаны расплатиться ею. Полновесным слово было не только в России: глупо полагать, что в просвещенной Европе 17-18 веков всё было иначе и сладкие вольные речи мог лить любой соловей. Российские цензурные законы были, по сути, калькой с французских, прусских и австрийских законов. А в Англии за поношение величия и слишком уж большую словоохотливость вполне можно было лишиться ушей или языка. В середине 19 века во Франции, когда пресса упивалась своей вольностью, в стране началась эпидемия «журналистских дуэлей» – за лживую статью от коллеги можно было схватить не дисс, а пулю. Даже в Америке, где цензуры, как института, не существовало вовсе, дуэли из-за неосторожно брошенной фразы были не редкостью: стрелялись даже секретарь казначейства Александр Гамильтон и вице-президент Аарон Берр. Но два века, пока люди дышали свободой, принесли трезвость, осознание того, что даже острая фраза может задеть лишь твое самолюбие и не равнозначна физической пощечине или плевку в лицо. И что против слова нужно выставлять лишь слово, в крайнем случае, слово судьи, а не кулак, заточку или шпагу. Билли же лишь закрепили не только право говорить, но и обязанность слушать, не доставая мушкет.
31.05.19
Но даже тогда, когда слова становятся тяжелее бетонных глыб, когда за оборотом этих самых глыб пристально следит охранка, свобода слова никуда не исчезает. Её невозможно отнять или даровать, пожаловать или уничтожить. Ведь свобода слова – это свобода от страха. Это выбор. Выбор, двигать эти глыбы, или нет.
Свободное слово
О постнатальной цензуре, страхе говорить и костре инквизиции.
Министерство любви продолжает бессмысленно и беспощадно блокировать половину интернета в попытке задушить один мессенджер. И поскольку эти блокировки ломают все, кроме того самого бесовского мессенджера, советник президента России по развитию интернета предложил создать белый список сайтов (он же, кстати, говорил о том, что «Россия готова к отключению от мирового интернета»). Ну, для вашего же блага, чтобы ненароком не заблокировать добропорядочные сайты. В первом чтении уже принят закон, который будет обязывать «владельцев публичных сетей удалять недостоверную, нецензурную и иную противоправную информацию». Похоже, слово «жопа» скоро станет вне закона и его придется заменять более лестными и лицеприятными синонимами вроде «гузно». Ах да, согласно этому же законопроекту, скоро ходить гулять в интернет можно будет только по паспорту: собственников «публичных сетей» обяжут идентифицировать всех пользователей по номеру телефона. А сим-карту, напомню, сегодня можно оформить только по паспорту. И хотя этот законопроект отправили на доработку, видео кемеровских блогеров о пожаре в «Зимней вишне» уже заблокировали, мотивируя это «распространением недостоверных сведений», в целях «недопущения нравственной деформации несовершеннолетних». А недавно старый новый президент подписал закон «О блокировке сведений, порочащих честь и достоинство» добрых людей. Сайт, на котором будет размещена нелицеприятная информация о добром человеке, например, о его безобразно дорогой вилле, можно будет заблокировать еще до суда. Ну и стоит вспомнить законопроект с пафосным названием «Закон о праве на забвение», который позволяет добиться удаления своих персональных данных. А уж про «пакет Яровой», думаю, вы и сами помните.
Фраза «если думаешь – не говори, если говоришь – не пиши» снова становится актуальной. Ведь сесть на бутылку за лайк или репост стало не легко, а очень легко: в прошлом году было возбуждено 218 дел за «публичные экстремистские высказывания» в Сети (кстати, не забудьте поделиться этой статьей с друзьями). И хотя Солнцеликий (да пошлет ему небо тысячу лет процветания) заявил, что Россия не пойдет по китайскому пути и не будет строить великий белокаменный файервол, пейзаж российской интернет-действительности получается довольно мрачным. Конституция со своей 23-й статьей уже начинает походить на волшебную книгу сказок. Фактически у нас в стране действует постнатальная цензура. Мы постепенно возвращаемся куда-то туда, в информационное Средневековье: с царем-ампиратором, казематами, набитыми еретиками-вольнодумцами и уродливыми химерами в мозгах крестьян. Да, лет двести назад, я, после первого же своего очерка, оказался бы на ближайшей виселице и уже давно бы жарился в аду. Однако темные века, когда подавлялось любое инакомыслие, породили прекраснейший жанр политических памфлетов. Облаченная в метафоры, остроумная политическая и социальная сатира доставляла огромную жопную боль всяческим монаршим особам. Сегодня этот жанр может обрести вторую жизнь, причем жизнь более вольную, чем когда-либо. Ведь если в те времена для того, чтобы отправить в цугундер больного графоманией, хватало лишь желания царя, то сегодня нужен хотя бы формальный повод. Конечно, раньше, чтобы человек решился высказать свое очень важное мнение, у него должно было нехило так свербеть пониже спины. Настолько, чтобы он взялся написать книгу, ну или, на худой конец, памфлет. Притом весьма недурственный: мсье аристократы не пальцем деланы были и всякий проходняк не читали. А еще лучше, чтобы все это было в стихах. Потом надо было выпустить свой труд, попутно стараясь не получить по башке от местной «охранки». Ибо там чаще всего работали люди, к новым точкам зрения слабо восприимчивые. Но, черт возьми, «это было самое злосчастное время, но это было самое прекрасное время». Ведь тогда люди обладали подлинной свободой слова.
Сегодня ситуация иная. Появилось больше способов выражать свое мнение: два клика – и ваша мысль разлетится по миру, набирая сотни репостов и тысячи лайков. Но факт состоит в том, что это не имеет совершенно никакого отношения к свободе слова. Равно как и попытки подмять под себя интернет. Ведь свободу слова невозможно даровать или ограничить: она рождается вместе с человеком, появляется вместе с первым криком ребенка. И отнять ее можно, только перерезав человеку глотку. Да, за многие слова действительно порой можно отправиться на виселицу или в костер. Но окончательный выбор, говорить или нет, всегда остается за человеком. Будете ли вы идиотом, крича на площади правду, которая режет слух Большому Брату? Несомненно. И, несомненно, за вами придет полиция мыслей. Но истинная свобода слова – это не право и не привилегия. Это тот самый выбор говорить: говорить правду, говорить то, во что ты веришь, и быть готовым заплатить сполна за свои слова. Это – выбор не молчать. И самое смешное, что большинство из нас, при всех своих возможностях и свободах, не обладает даже той крупицей сладкой свободы слова. И речь здесь вовсе не о колких политических высказываниях. Мы боимся сказать «привет» девушке, или написать первым. Мы боимся сболтнуть лишнего, чтобы не сглазить или не прогневить какого-то мужика на облаке и слову «последний» предпочитаем слово «крайний». Мы боимся сказать родителям о том, что хотим идти своим путем. На черта тогда вам эта свобода слова, если вы боитесь говорить?
Во все времена находились безумцы, которые читали на площадях запрещенные стихи, печатали запрещенные листовки в подвале своего дома и переписывали запрещенные тексты от руки. И правда в том, что главный цензор, который затыкает нам рот, сидит не в мрачном кабинете Министерства Любви, а в нашей голове. И цензор этот – страх. Боятся все. Но страх не должен душить. Страх должен давать силы делать больший вдох, чтобы говорить громче.
16.05.18
В сыром воздухе, напитанном дождевой пылью, разлился гогот городских гиен. Слева, вдоль длинного дома, ко мне приближалась стая. Не дожидаясь знакомства, я перешёл пустынную улицу и решил подняться наверх, в этот клубок из асфальта, бетона, машин и света, благо лестница была прямо напротив зебры. Смех часто кажется нам страшнее вопля боли или грозного окрика. Ведь эти звуки, изрыгнутые гортанью – ничто иное, как грохот этих самых тяжёлых глыб что начинают тереться друг о друга, дрожать и грохотать под действием юмора. Оттого употреблять это волшебное вещество нужно крайне аккуратно, а производить часто вообще противозаконно. Ведь именно юмор и сатира придают словам лёгкость пемзы, которой они и должны обладать.
Смех над грехом
О том, почему мы так боимся юмора и почему шутить нужно над всем.
«Улыбнись, и жизнь улыбнется тебе в ответ!». У любого хотя бы единожды возникало подозрение, что эта мантра – дерьмо собачье. И не зря. Американские ученые, проанализировав результаты 138 исследований, доказали, что искусствен но-натянутая улыбка практически не виляет на настроение. Так что ваш день от улыбки навряд ли станет светлее. Русский человек знал об этом и без всяких исследований: мысль, что тупой лыбой делу не поможешь с рождения высечена славянскими рунами у него где-то на внутренней стороне черепа. Тяжесть бытия падает гражданину России прямо на лицо и неумолимо тянет уголки рта вниз, особенно, когда утром ты вместе с ордой других урукхаев из какого-нибудь Мурина, утыканного многоквартирными башнями Сарумана, штурмуешь местную Хельмову Падь – станцию питерской подземки. И вся эта взаимная ненависть испаряется в воздух, а затем снова вдыхается с едким дымом сигаретки из конского навоза в селитрованной бумаге, отчего черты лица еще сильнее начинают стремится к полу. Поэтому человек, беспричинно давящий лыбу, неизменно вызывает у нас подозрение: то ли блаженный, то ли перо в рукаве прячет. В общем, добра не жди.
Но это же обстоятельство делает улыбку таким ценным ресурсом. Ресурсом, который мы расходуем очень аккуратно. Да, мы не улыбаемся чужакам или фотокамерам, но щедры на улыбки близким и друзьям. Она как колбаса для тех, кто ещё помнит дефицит: вроде и всегда под рукой, и почти ничего не стоит, однако бережется для особого повода. Так же осторожно мы относимся и к юмору.
Эссенция юмора
Юмор всегда был особой субстанцией для тех, кто живет на куске земли «от тайги до британских морей». Препаратом, которое нужно принимать дозированно и строго по инструкции: над одним посмеяться можно, а над другим шутить никак нельзя. Лекарством, без которого столкновение с реальностью порой может закончиться летальным исходом. На экраны это вещество поставляется исключительно в разбавленном виде, под чутким надзором государства, абы чего не случилось. От этого острый западный юмор, для которого почти нет запретных тем, часто плохо переваривается российским зрителем, вызывая словесную диарею у очередного моралиста в интернете, мол, «как вообще можно смеяться над этим?». Вседозволенность заокеанских скоморохов кажется нам недопустимой, а шутки часто принимаются слишком близко к сердцу. Эссенцию юмора нужно применять осторожно. Ведь, если ты вдруг сбрызнешь ею одну из сакральных тем, таких как блокада, как это сделал Алексей Красовский в своем «Празднике» или образ усатого тараканища, на который покусился Армандо Ианнуччи в «Смерти Сталина», то тебя сочтут не просто м…ом, но богохульником-осквернителем, место которого на священном костре. Чтобы понять природу этой осторожности, нужно разобраться, почему шутка вообще вызывает у нас улыбку.
Почему смешное нам кажется смешным? Самая распространенная «теория несоответствия», чьи корни тянутся ещё к идеям Аристотеля и Шопенгауэра, гласит, что юмор рождается из противоречия и нашей способности эти противоречия подмечать. Комизм появляется, когда наши ожидания или представления о чем-либо оказываются опровергнуты: человек, предмет или идея попадают в несвойственное им окружение или ситуацию. Например, представьте себе карикатурного богатея: чопорного джентльмена во фраке, который неожиданно поскальзывается на банановой кожуре. Надменный и строгий образ, который возникает у нас в голове никак не совпадает с той нелепой ситуацией, в которой он оказывается. На неоправданных ожиданиях строится классическая структура шутки сетап-панч.
Сетап или образ, который возникает у нас в голове, задаёт нам один контекст ситуации, а панч или какое-либо происшествие переносит ситуацию в совершенно иной контекст, заставляя посмотреть на неё с другой точки зрения. Артур Кёстлер, развивший теорию юмора, назвал такой переход «бисоциацией». При бисоциации два несовместимых, но непротиворечивых контекста неожиданно сталкиваются друг с другом и начинают казаться нам ассоциированными. Наиболее простой пример бисоциации – каламбуры и вербальный юмор, когда шутка обыгрывает разные значения одного слова. Теория Кёстлера хорошо описывает почти все виды юмора. Ситкомы сталкивают контексты банально помещая героя в нетипичную, абсурдную для него ситуацию. Сортирный и похабный юмор начинает говорить о человеке в контексте личности, со своими ценностями и убеждениями, и переносит его в контекст, где человек – лишь животное, с инстинктом тыкать во всё живое членом и пуляться дурнопахнущими биологическими жидкостями. Жестокий юмор, когда незнакомец получает битой по бубенцам – суть та же бисоциация, когда «человек-личность» начинает рассматриваться в контексте физического объекта: куска мяса с нервными окончаниями, который подчинен законам физики (как раз-таки пример с банановой кожурой).
В то же время, при переходе из одного контекста в другой, положение человека, предмета или идеи приуменьшается. Возвращаясь к гэгу с банановой кожурой: из надменного джентльмена мужчина превращается во всеобщее посмешище. Юмор действительно способен принизить всё что угодно: остроумной ремаркой можно спустить человека с небес на землю, а насмешка может стать жестоким оружием: «смехом можно убить всё – даже убийство». Из-за этого смех и юмор, в отличии от слёз и других чувств, часто кажется нам неуместным, якобы обесценивающим ситуацию. Например, шутки про смерть очередной знаменитости в интернете могут поднять фекальное цунами, которое выплеснется аж на федеральные каналы: рассматривать смерть и ещё ряд тем и событий в каком-либо еще контексте, кроме как официозно-трагическом, кажется нам априори кощунственным. На похоронах, допустим, абстрактного Евпатия Лаврентича все обязаны давиться горькой водочкой и выдавливать из себя скорбь и слёзы. Все произносят сухие характеристики, словно не провожают человека, а составляют на него досье: такой-то муж, такой-то отец, столько-то угля дал стране. Вместо образа человека перед нами возникает бездушный бронзовый бюст. Шутки и анекдоты про покойника кажутся неуместными, хотя, казалось бы, Евпатию Лаврентичу уже абсолютно всё равно, что о нём говорят: он вместе с апостолом Павлом и сорока белогрудыми гуриями давно уже отжигает в Валгалле. Это поначалу. Но что происходит после второй-третьей рюмки? Из памяти достаются забавные истории и курьёзы, которые приключились с Евпатием Лаврентичем за всю его долгую трудовую жизнь. И вот уже нам видится не бездушный бронзовый истукан, а живой человек: юмор оживляет покойника. Приуменьшая значимость события – смерти, юмор не только позволяет легче пережить утрату, но и обнажает суть: да, умер. Но человек то был хороший.
Растворитель догм
Юмор действительно принижает значимость многих тем, но не умоляет их значения. Он лишь срезает всю эту претенциозно-торжественную вуаль, которая опутывает многие темы, оставляя лишь сердцевину. Сердцевину, которую можно покрутить в руках и рассмотреть под разными углами. Отринув ханжество и морализаторство, мы увидим то важное свойство анекдота, которое часто упускаем: бисоциация, сталкивая два образа в нашем мозгу, ставя объект шутки в другой контекст, позволяет нам по-новому взглянуть на этот самый объект. Распространенный сюжет чернушного скетча, где хладный труп вываливается из катафалка или просто падает и распластывается по земле, многим кажется кощунственным. Однако даже эта третьесортная юмореска позволяет нам по-другому взглянуть на смерть. Столкновение образа человека-личности и человека-физического объекта – тухлеющего куска мяса, приводит нас к нехитрой мысли: а не слишком ли много мы уделяем внимания посмертным ритуалам, не слишком ли много ненужного пафоса вокруг закапывания человека в землю? И не лучше ли выразить уважение этому человеку при жизни, ведь покойнику, лежит ли он на мраморном полу или под землёй, уже, тащемто, всё равно?
Шутить, хоть и осторожно, нужно над всем. Юмор открывает пространство для диалога, ведь менее серьёзный подход часто позволяет нам трезвее взглянуть на ситуацию. Именно поэтому церковники всех мастей, усатые диктаторы и прочие сказочные персонажи политической фауны так не любят юмор: он не обесценивает тему, а открывает её для обсуждения. И часто после этого выясняется, что за напускным пафосом кроется лишь парочка спорных утверждений. А за образом могучего короля, с которого юмор сбивает спесь и которого ставит на один уровень с нами – обычный человек, не такой уж и грозный. А чаще и вовсе голый. Объявляя же темы запретными для смеха, мы делаем бисоциацию, переход из одного контекста в другой, невозможным. Сакрализация закрывает путь не только для смеха, но и для любого диалога. А на таком выжженном поле, где нет места обсуждению, легко всходят столпы догм и идолов.
06.05.19
А обретая лёгкость, глыбы магическим образом начинают выпадать из пафосных речей политиков и сакральных текстов проповедников. Ведь особая форма этого вещества – сатира, не пьянит, а дарит трезвость: трезвость, которая за напускным пафосом догматов позволяет увидеть суть всех этих громких слов – часто глупую и нелепую. Именно поэтому государство старается поставить оборот сатиры, как и дилеров этой субстанции, под жёсткий контроль. Квадратная спираль, закованная в пластиковый короб, заканчивалась. Я приближался к вершине.
Водка и космос
О том, почему власть больше боится юмористов, нежели террористов.
Юмор всегда был особой субстанцией для тех, кто живет на куске земли «от тайги до британских морей». Препаратом, которое нужно принимать дозированно и строго по инструкции: над одним посмеяться можно, а над другим шутить никак нельзя. Лекарством, без которого столкновение с реальностью порой может закончиться летальным исходом. Как же влияет на людей и власть эта субстанция и попытался ответить «Юморист».
«Небо – самолётам, а цензура для артиста»
Фильм Михаила Идова рассказывает историю «любимого сатирика органов», Бориса Аркадьева, который раз за разом рассказывает публике уже осточертевший ему монолог про пляжную фотографию с макакой Артурчиком. На первый взгляд, «Юморист» может показаться аллюзией на современную действительность. Еще до премьеры продюсеры фильма заигрывали с миллениалами, пытаясь сыграть на протестных настроениях и актуальной нынче теме государственной цензуры. Ваня Дрёмин выпустил одноимённый трек, Юра Дудь пригласил режиссёра на дружеский разговор, а Данила Поперечный перед премьерой побеседовал о фильме с Геннадием Хазановым. И ставка действительно сыграла: благодаря современным параллелям с советской эпохой, биты Фейса весьма органично вписываются в ретро антураж. Однако, правда в том, что фильм вообще не про цензуру или свободу слова. Главный герой не бегает по инстанциям в отчаянных попытках «залитовать» материал – о советской бюрократической машине упоминается лишь вскользь.
Драма действительно поставлена в декорациях позднего СССР, однако, если вы идёте в кинотеатр с ожиданием увидеть зверства чекистов, которые затыкают сатирику рот, то, я вас огорчу – их там нет. «Кровавые гэбисты» выступают лишь как атрибуты эпохи, с которыми просто приходилось мириться – к ним не испытываешь ни жгучей ненависти, ни отвращения. Они нужны лишь как лабораторные крысы, на которых автор показывает воздействие сатиры на власть, пытаясь объяснить, почему же государство так боится шуток в свой адрес: от анекдотов на кухни до мемов в социальных сетях.
Ведь для любой власти враг, мнимый или реальный, не так страшен, как сатира. С неприятелем можно побороться, поиграть мускулами, показать свою силу: борьба только укрепляет образ могучего Голиафа. Юмор же – как эстрадный софит, под прямым лучом света которого обнажается истинный лик «Голиафа»: усталое, испещренное старческими морщинами лицо, несуразные жесты и абсурдные маразматичные реплики. Обрюзгшее тельце с обвисшими мышцами, которое функционирует только благодаря поддерживающим его «органам». А поэтому свет этого софита нужно пропускать через цензурный фильтр, чтобы он был мягким, обволакивающим. Таким, чтобы в его лучах проявлялись лишь добрый оскал улыбки, «бронза мускул и свежесть кожи».
Другие электронные книги автора Александр Сорге
Другие аудиокниги автора Александр Сорге
Котёнок




 0
0